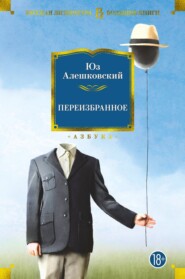скачать книгу бесплатно
– К-э-э-э! – Эх, Коля, какое это счастье, когда развязаны руки и полумертвые вены набухают кровью, и вот потекла она по высохшим моим речушкам и самым тоненьким ручейкам! Потекла, зажурчала моя единственная жизнь!
– К-э-э-э! – говорю, а сам думаю: не бойся, мусорина, Фан Фаныч тебя не укусит. Он мудрый теперь. Развязывай задние лапы, паучиха. Дай-ка я туфельку твою лапой передней поглажу, пыль с нее смахну и прилипший заморский листочек.
– Я ведь говорила, что ты хороший. Я буду звать тебя Кеном. Ладно? Как смешно ты топорщишь губы! И не обижайся. Ты сам виноват, что тебе было больно, упрямый Кен.
И ноги мне она, Коля, тогда освободила от веревок. Но Фан Фаныч – битая все ж таки рысь – не заплясал от радости. Он на карачках прошелся по третьей комфортабельной. Голова у него закружилась, а вообще-то ничего, ходить можно. «К-э-э-э!»
Сутки целые отсыпался, отъедался овощами и фруктами и отдыхал Фан Фаныч. Ходил исключительно на карачках, терся щекой об коленки садистки, нежно теребил губами мочку ее уха, обнюхивал всю, смешно топорщил нос. «Кэ-э-э-э!»
– Кен, ты стал совсем ручным… Ты мило лижешься… Ха-ха-ха! Ты очень мило лижешься! Может быть, я тебя волную? Учти, Кен, мочка уха – эрогенная зона! Ах ты, шалун! Вот я разденусь, а ты погладь меня лапкой… мурашки… мурашки… лизни мою грудь… и другую… теперь под грудью… славный, сильный, нежный кенгуру. Не кусай соски, не кусай…
Она, между прочим, не одеваясь, сказала:
– Разрешите, товарищ Кидалла, доложить? Эксперимент, проводившийся в течение семи дней, неопровержимо подтвердил нашу гипотезу о частичной, а подчас и полной адаптации подследственного к новым речевым и двигательным функциям после применения прогрессивных методов активного воздействия. Подтверждена также гипотеза о возможности прививки подследственному во время циклической подавленности органического самоощущения кенгуру!
Она докладывала, а я лежал на полу, слушал и радовался, что все страшное позади. Позади.
– Вы можете быть свободны, Зина. Представьте отчет и график дегенерации объекта. А ты, Тэдэ, давай садись за показания. Хватит филонить. Половине человечества жрать нечего, в Индии дети от недостатка белков погибают, больших друзей Советского Союза реакция США в тюрьмы кидает, и не хрена прохлаждаться на всем готовом, когда горит земля под ногами империализма. Понял меня?
– К-э-э! – говорю и на Кырлу Мырлу кнокаю. У него борода еще гуще стала, повзрослел за эти дни. А Ильич, наоборот, лысеть начал, глаза прищуривать.
– Товарищ подполковник, – говорит Зиночка, – я думаю, что быстрая регенерация нежелательна.
– Вы плохо знаете эту бестию, не верю я в его исключительность, лейтенант, виноват, старший лейтенант, но ладно, пусть отходит. Завтра я его расшевелю. Отдыхайте.
«Гитлер выпивает яд» – картина Кукрыниксов отъезжает, Коля, от «Сталин обнимает Мао», и тут я приноровился и задней ногой такого выдал старшему лейтенанту поджопника, что она, наверное, как волк в «Ну, погоди!», летела от Лубянки до площади Революции. А стена сдвинулась.
Жду. Но никто за мной не канает и не волокет в кандей. Включаю «Телефункен». Давно не слушал родимых последних известий. Странно все-таки было мне, Коля, что доброй славой среди своих земляков пользуется молотобоец, член горсовета Владлен Мытищев, когда труженики Омской области сдали государству на десять тысяч пудов больше, ибо выборы народных судей и народных заседателей прошли в обстановке невиданного всенародного подъема, а партия сказала «надо!», и народ ответил «будет!», следовательно, термитчица коврового цеха Шевелева, протестуя против происков сторонников нового аншлюса, заявила советским композиторам: «Так держать!» Подписка на заем развития народного хозяйства минус освоение лесозащитных полос привело канал Волго-Дон на-гора доброй славы досрочно встали на трудовую вахту в день пограничника фельетон обречен на провал Эренбург забота о снижении цен простых людей доброй воли и лично товарища руки прочь…
У меня, Коля, от этих последних известий – читал Юрий Левитан – мозги встали раком. Но почему бы, Koля, почему, ответь мне, не заработать тогда всем радиостанциям Советского Союза, почему бы не передать Юрию Левитану сообщение ТАСС о проведении органами государственной безопасности выдающегося эксперимента, в ходе которого были получены доказательства возможности направленной дегенерации высшей нервной деятельности человека и регенерации в его мозгу впервые в и-сто-ри-и импульсов самоощущения особи другого вида! Эксперимент проводился на гражданине Советского Союза Мартышкине! Чувствует себя гадина и проказа изумительно антисоветская рожа пульс давление не оказывали артиллерийским залпом в городах-героях! Слава передовой со-вет-ской на-уке!
Почему, Коля, Юрий Левитан не передавал такого важного, исторического, можно сказать, сообщения? Пускай бы молотобоец Мытищев и борец за мир Эренбург узнали, как у меня сердце перехватило от страха при виде безумной женщины в белом халате и как оно, слабея, почуяло, что, наверное, не одолеет всенародный подъем в День пограничника. И пускай бы народные заседатели дотронулись языками до острой железки-бобо, которой трясли мое тельце током, и пускай бы народные судьи превратились вместе с термитчицей горячего цеха на миг в побитое животное кенгуру, и побито жевали бы заморские листочки, и выблевывали бы их на казенный пол третьей комфортабельной вместе с застрявшими в бронхах остатками человеческой души, а потом подписались бы на заем развития народного хозяйства… Ладно. Отодвигается вдруг, Коля, «Карацупа и его любимая собака Индира Ганди» от «Вот кого уж никак нельзя заподозрить в симпатиях», и в камеру мою рыбкой влетает курчавый смешной человек. Стукается лбом об «Утро на заре рассвета рабочего движения в Москве». Садится на «Телефункен», хватается за голову и говорит:
– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?
Набираю ногтем твой номер, Коля, и говорю Кидалле:
– Докладывает рядовой МГБ Тэдэ, он же кенгуру Кен. Регенерация прошла успешно. Чувствую себя человеком. Наблюдаю усиленный рост бороды на лице гражданина Кырлы Мырлы, с которым в преступном сговоре переделать весь мир не состоял, первый раз вижу. Всегда готов встать с головы на ноги. Посвящаю себя столетию со дня рождения и смерти Маленкова. Ура-а-а-а!
– Я же тебе сказал, фашистское отродье, – отвечает Кидалла, – что этот телефон исключительно для внутренних раздумий и сомнений. Органам и так известно, что с тобой происходит. Не забывай о процессе. Ты хотел познакомиться с низкопоклонником Норберта Винера Карцером. Карцер перед тобой.
– Ах, значит, это вы господин-гражданин Карцер, – говорю я смешному курчавому человеку с глазами барана, прибывшего на мясокомбинат имени Микояна. – Гутен морген, гражданин-господин Карцер. Кто вам помогал забыть Ивана, не помнящего родства? А?
– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? – уставившись бараньими глазами в «Позволительно спросить братьев Олсоп», бормочет Карцер.
– Встаньте, – говорю, – и сядьте на стул, не превращайтесь в утконоса, он же сумчатый гусь-лебедь. Стыдно!
– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? – долдонит и долдонит Карцер, а я говорю:
– Послушайте, нельзя задавать органам таких вопросов. Вообще никаких вопросов не надо задавать! Иначе быть беде! Вы член кассы взаимопомощи? – Я решил, Коля, что Карцеру необходимо побыть в моей шкуре.
– Естественно. Кто в наше время не член кассы взаимопомощи? – вдруг, ожимши, отвечает Карцер.
– Когда последний раз брали ссуду?
– Перед Женским днем.
– Сколько?
– Две тысячи, а что?
– Фамилия?
– Карцер.
– Который?
– Валерий Чкалович. Папа изменил мое отчество в знак уважения к великому летчику.
– Итак, перед Женским днем вы, Валерий Чкалович, недовольные тем, что за подписку на заем с вас выдрали всю получку, растерзали прогрессивку и расстреляли квартальные, получили ссуду в две тысячи рублей. С рассрочкой?
– До Дня медицинского работника.
– Вам известно, что за деньги находились в кассе взаимопомощи вашей секретной лаборатории?
– Очевидно, бывшие в обороте кассы.
– Чем пахнут деньги, по-вашему?
– По-моему, ничем. А что вас все-таки интересует?
– Меня интересует факт получения вами из сберкассы взаимопомощи денег, не пахнущих ничем, но принадлежащих швейцарской разведке!
– Боже мой!
– Кто из ваших сотрудников в дни получек говорил: е… я кассу взаимопомощи?
– Уборщица Танеева, сантехник Рахманинов Ахмед и физик-теоретик Равель.
– Вот они-то и останутся на свободе. Есть у нас все ж таки настоящие советские люди! Вы расписались в получении ссуды?
– Конечно. Честное эйнштейновское! Честное курчатовское! Но что вас все-таки интересует?
– Хватит финтить, Карцер! Хватит уходить от откровенности! Пора кончать с инфантилизмом тридцатых годов!
– Что я сделал? Что я сделал? Что я сделал?
– Я отвечу на ваш вопрос, но не раньше, чем мы убедимся, что нас не видят и не подслушивают профсоюзы. Они возомнили себя, видите ли, школой коммунизма! Тогда как последней являемся мы, органы!
– Совершенно справедливо! Наш парторг Бахмутова – ваш секретный сотрудник! Что я должен сделать в плане борьбы с инфантилизмом тридцатых и двадцатых годов?
– Плюньте три раза и размажьте сопли вон на том цветном фото.
– На «Вот кого уж никак нельзя заподозрить…»?
– На это и дурак невинный плюнет. На другое, которое слева. Да, да!
– На это фото я отказываюсь плевать категорически. Это – святотатство! Глумление и самооговор! «Рабочие ЗИСа получают прибавочную стоимость» – гордость нашей фотографии! Я не могу! Разрешите плюнуть на «Изобретатель Эдисон крадет у гениального Попова граммофон»?
– Не разрешаю. Если вы не харкнете на «прибавочную стоимость», мы уничтожим вашу докладную записку о целесообразности создания программного устройства, моделирующего суровые приговоры врагам советской власти задолго до предварительного следствия.
– Только не это! О нет! Только не смерть моего любимого детища! В конце концов, прибавочная стоимость не перестанет существовать от одного и даже от трех плевков и зисовцы будут ее регулярно получать. Правда, товарищ?
– Я тебе не товарищ! Я тебе гражданин международный вор Фан Фаныч. А товарищ твой в Академии наук на параше сидит и на ней же в загранку летает! Ясно?
– Абсолютно ясно. Однозначно вас понял. Я чувствую, гражданин международный вор, что вы знакомы с электроникой и нам есть о чем поговорить.
– Рассказывайте, Валерий Чкалыч!
– Что?
– Все!
– Что я сделал? Не мучайте же меня неизвестностью! Что я сделал?
– Вы сконструировали, Валерий Чкалыч Карцер, ЭВМ, которая прекрасно себя зарекомендовала на службе в наших органах и высвободила, таким образом, немало рабочих рук из предварительного следствия. Это дало нам возможность перевести их на кровавую исполнительную деятельность и в сферу надзора. Что вас заставило сконструировать ЭВМ?
– Категорический императив постигнуть тайны материи, объективное состояние научной мысли на сегодняшний день, различные философские и социально-правовые предпосылки, полный апофеоз позитивизма, а также жажда ускоренного развития эстетики количества. Количество – прекрасно! Кроме всего прочего, я хотел бы, чтобы это осталось между нами, гражданин международный вор Фан Фаныч, мы не можем ждать милостыни от природы. Взять ее у нее – наша задача!
– Вы и ваши близкие подвергались когда-либо нападению одного или нескольких грабителей?
– Простите, но какое это имеет отношение к делу, к которому я, в свою очередь, не имею никакого отношения?
– Молчать! Вопросы задаем мы!
– Только один вопрос, гражданин Фан Фаныч!
– Ну!
– Вы слушали Седьмую?
– Седьмая отсюда не прослушивается. Слева от нас, очевидно, вторая, справа – четвертая.
– Извините, но я имел в виду Седьмую Шостаковича. Симфонию.
– Интересное обстоятельство. Итак, уже во время блокады, успешно руководимой товарищем Ждановым, вы слушали Седьмую симфонию Шостаковича.
– Вам это известно?!
– Нам известно все. Мы читаем «Гудок» и «Таймс». Продолжайте.
– Недавно я возвращался из большого Георгиевского дворца, где товарищ, извините, гражданин Шверник вручил мне… можно ли здесь произносить это имя? Орден Ленина. На одной из темных улочек Зарядья я был остановлен неизвестным, вежливо попросившим у меня прикурить. Он долго прикуривал свою сигарету от моего «Норда», виноват, «Севера». Возвратившись домой, я обнаружил исчезновение с лацкана пиджака… мне трудно об этом говорить… Да! Я тут же заявил куда надо… Больше всего меня удивило то, что, прикурив, неизвестный приятным голосом произнес: «Благодарю вас!» Мне возвратят орден?
– Скоро будет обмен орденов, поскольку они девальвированы, и вы получите новый. Орден Норберта Винера. Возвратимся, однако, Валерий Чкалович, к вашей мысли насчет «не можем больше ждать милостыни от природы». Знаете, что такое грабитель? Грабитель – это ленивый, нетерпеливый и нервный нищий, которому надоело ждать милостыни, и он решил нагло взять ее у прохожего барина, или у рабочего, или у колхозника, или у интеллигента сам, своею собственной рукой. Взял. Вдарил микстурой по темечку. Вышел из-за угла на нового прохожего. Потом на другого, третьего, на четвертого. Взял тот нищий денежку, считая ее своей законной милостынькой, у девушки, взял пенсию у старушечки, взял денежный перевод от сына у дедушки, взял новогодний гостинец у мальчика. Прохожие испугались да и перестали ходить по Большой Первой Конной улице. Ленивый нищий на проспект Коллективизации направился, там всех распугал, потом на улице Павших героев, на площади Индустриализации и в проходных дворах начал грабить. Всех прохожих, в общем, переграбил и перемикстурил. Опустел город. Не у кого больше отныкивать милостыньку ленивому нищему. Некому даже ее ему подавать. И подох тот нищий от голода, холода и струпьев, потому что он не хотел и не умел зарабатывать себе на жизнь, а ждать милостыньку было ему лень. И, подыхая в тупике имени «Нечева терять, кроме своих цепей», взмолился он тихо и виновато: «Прости меня, Господи, за убиенных прохожих и пошли ты мне хоть одного приезжего с кусочком хлебушка, молю тебя, Господи!» Господь Бог слышал ту молитву и глубоко скорбел, ибо приезжего послать нищему не мог по причине для Бога весьма таинственной. Не ведая зла, не ведал Бог, что ленивые нищие Ленинграда, Сталинграда, Свердловска, Калинина, Молотова, Фрунзе, Кирова и других городов перемикстурили и переграбили всех своих прохожих до такой степени, что последние физически никогда уже не могли стать приезжими. Опустела земля…
Задумался, Коля, на минуту Валерий Чкалович, но ни хрена – ясно мне это было – не дошло до него.
Тогда я по новой говорю:
– Вернемся к кассе взаимопомощи. Машина, которую вы сочинили, на основании всех исходных данных о вашей личности смоделировала преступление, предусмотренное статьями 58, п. 1а; 58, п. 10; 58, п. 14; 167, п. 2. Вы обвиняетесь в том, что, вступив в 1914 году в преступный сговор с лицом, впоследствии оказавшимся Григорием Распутиным, систематически развращали фрейлин двора, участвовали в пикниках с лидерами эсеров, где и обещали Плеханову портфель министра по делам Австралии, и всячески саботировали производство «катюш» на заводах Форда. За услуги по сбору информации о личной жизни Лемешева и Жданова, оказанные папуасской разведке, вы получили гонорар из кассы взаимопомощи, в чем и расписались. Признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях и согласны ли с суровым приговором: высшая мера социальной защиты – расстрел?
Ты бы покнокал, Коля, что стало твориться с Валерием Чкалычем. Нет, он не хипежил, не рыдал, в обморок не падал, а стал с пеной у рта доказывать, что обвинение внутренне противоречиво, что оно – плод несовершенного еще алгоритмирования, что наши полупроводники выходят из строя чаще американских и что с Распутиным он никогда не был знаком. Но я его, гада, припер-таки к стенке.
– Выходит, – говорю, – вы сконструировали машину для заведомого ошельмования советских людей, и по вашей вине уже расстреляны 413 851 человек и столько же находятся в живой очереди на ликвидацию? Вот вы тут долдонили: «Что я сделал? Что я сделал?» А надо было тогда, когда вы решили не ждать милостыни от природы, спросить себя: «Что я делаю? Что я хочу сделать?» Вы знаете, что вместе с вами на скамье подсудимых будет сидеть сам Андрей Ягуарович Вышинский по обвинению в заражении рядом венерических болезней работниц «Трехгорной мануфактуры» и в попытке покушения с помощью народных средств на презумпцию невиновности! И партия вам этого не простит!
– Будь проклят миг, когда мама почувствовала во мне физика! Будь проклят позитивизм! Будь проклята наука! Что я наделал! Дайте мне новую жизнь, и я с протянутой рукой буду просить по долинам и по взгорьям милостыню у природы! Дайте мне новую жизнь и скажите, при чем здесь я и папуасская разведка?
– А при чем здесь, сука ты ученая, я и кенгуру? – спрашиваю, в свою очередь, Валерия Чкалыча, и надоел он мне, рванина, хуже горькой редьки. Ходит, что-то шепчет и заплевал все фотографии на стенах.
А от Кидаллы ни звука. Кидалла молчит. Включаю «Телефункен», ловлю Лондон и узнаю, что в данную минуту в Кремле происходит Всесоюзная конференция карательных органов, на которой доклад о дальнейшей механизации и автоматизации работы органов делает товарищ Кидалла. Послушали мы через Лондон и сам доклад. Потом были прения, но их заглушила радиостанция английской компартии, которая считала, Коля, что наши массовые репрессии не имеют ничего общего с теорией и практикой социалистической революции, что приходить от них прогрессивному сознанию в ужас в высшей степени преступно. Руки, мол, прочь от исторической необходимости, сволочи международной арены!
А Валерий Чкалыч между тем, Коля, поехал. Мне его даже жалко стало. Я ему говорю, что если бы не ты, я бы еще ждал и ждал своего часа и не знал бы, не ведал, что я являюсь убийцей и насильником заключенных животных. И мне, говорю, – в гробу я видел твою тягу просечь тайны материи – не легче оттого, что если б не ты, то другой мудила с залитыми любопытством глазами допер бы до создания ЭВМ для МГБ, которая, как ты видишь, дорогой Валера, и тебя самого жестоко погубила. Погубила, и не видать теперь тебе ни конторских счетов, ни родного арифмометра, ни тихого чая по вечерам за чтением разгневанной «Вечерки», не видать тебе ни закрытых симпозиумов, ни открытых партсобраний, ни вождей Первого мая и Седьмого ноября, ни сеанса одновременной игры с Ботвинником и законного морального разложения с субботы на воскресенье. Раз надоело тебе на пальцах считать, то вот и получай от своего любимого быстродействующего детища за связь с папуасской разведкой через кассу взаимопомощи. Получай, пытливый ум, получай!
Только я ему это сказал, Коля, как он вдруг харкнул на «Паша Ангелина в Грановитой палате примеряет корону Екатерины II», потом на «Нет – Вадиму Козину!», встал по стойке смирно, отдал честь полотну «Органы шутят, органы улыбаются» и говорит:
– Разрешите доложить, товарищ Сталин, что прошу вас разрешить доложить вам о том, что докладывает зам генерального конструктора Валерий Карцер. Мною прокляты последние достижения научной мысли, на оккупированных территориях сорваны погоны с шинели Акакия Акакиевича, выше честь нашей партии, и всех к позорному столбу трудовой вахты самокритики. Вынашивал. Прикидывал. Силился. Сливался. Так точно! Жил под личиной! Брал под видом выведения в НИИ красоты – почтовый ящик номер восемь – родинок капитализма. Являлся змеей на груди партии и народа по совместительству. Неоднократно втирался и переходил барьер непроходимости общественных уборных, формулы оставлял, одновременно сожительствовал. Разрешите забрать пай, а рабочие чертежи уничтожить. Есть – расстреляться по собственному желанию!
Смотрю, Коля, раздевается мой Валерий Чкалыч до трусиков и встает к стенке. Закрывает своим телом «Кухарки учатся руководить государством» и акварель «Сливочное масло – в массы!» и говорит:
– Готов к короткому замыканию!
Я понял, что мозга у него пошла сикись-накись, как в электронной машине, и сам перетрухнул: пришьет еще Кидалла за вывод из строя важного государственного преступника вышака, и тогда ищи гниду в портмоне, где она сроду не водится.
– Валера, – говорю, – не бэ! Все будет хэ! Попей водички, голубчик, иди, я тебя спать уложу, извини, что такую злую тебе покупку с кассой взаимопомощи заделал, но пойми, обидно мне было ждать чуть не двадцать пять лет своего дела, а вынуть из колоды кенгуру.
До меня из «Телефункена» бурные аплодисменты доносятся через Лондон со Всесоюзного совещания карательных органов и оттуда же, представь себе, Коля, звучит голос самого Валерия Чкалыча с комментариями Кидаллы:
– Можно смело сказать, дорогие товарищи и коллеги из стран народной демократии, что человек-надзиратель ушел в далекое прошлое. Ему на смену пришли последние достижения научной мысли. Это дало нашим подследственным возможность полностью самовыражаться, не испытывая пресловутого комплекса застенчивости – антинародной выдумки Ивана Фрейда, не помнящего родства. Рабочие и инженеры номерных заводов могут смело гордиться своими золотыми руками, давшими нам телекамеры и магнитофоны, ЭВМ и усилители внутренних голосов врага!
Тут на голос моего Валеры снова наложились бурные, продолжительные опровержения Французской компартии, и я возьми да гаркни:
– Объявляется перерыв. Почтим сутками вставания память товарищей Дзержинского, Урицкого, Володарского, Менжинского, Ежова, Ягоды и его верного друга и соратника собаки Ингус! Все – в буфет!
И веришь, Коля, застучали стульями наши куманьки, затопали ногами, им ведь тоже жрать охота и выпить, но Берия очень так громко – из президиума, наверное, – хохотнул и сказал:
– Как видите, товарищи, наши враги, даже припертые к стенке, не теряют чувства юмора. Но, как указывает лучший и испытанный друг наших органов, дорогой и любимый Сталин, смеется тот, кто смеется последним!
Тут раздался общий веселый смех, слышу: все встали и запели «У протокола я и моя Маша». Щелкнуло вдруг в приемнике, что-то затрещало, лязгнуло, зашумела вода, смотрю: нема в камере Валерия Чкалыча Карцера.