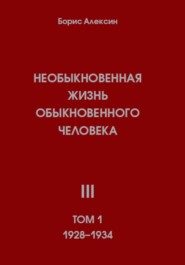скачать книгу бесплатно
Сборы этой переселенческой экспедиции заняли почти всё лето, и лишь в конце сентября 1921 года оба семейства Пашкевичей, семейство Рубисов, семья фельдшера Гусева и около сорока человек бездомных бродяг рабочей артели погрузились во Владивостоке на пароход и отправились в бухту Датта.
Плыли они на старом, почти отслужившем свой век пароходе «Алеут», совершавшем каботажные рейсы по побережью. В пути попали в жестокий шторм и чуть живые добрались до рейда в Датте.
Выгрузка в этой бухте, где пассажиров и их багаж, как скот, сгружали сетками на стропах в болтающиеся около борта парохода кунгасы, с самого начала показала, какой трудной будет их жизнь. Когда же частью лодками, частью пешком прибывшие поднялись по реке Тумнин вёрст на 30 вверх и очутились в глухой дремучей тайге, на сотни вёрст удалённые от какого-либо культурного человеческого жилья, пожалуй, только тогда многие из них, в том числе Акулина Григорьевна и Андрей, начали понимать, в какую ловушку их заманил Михаил.
Между тем, пока семья Пашкевичей готовилась к переезду за длинным рублём и, наконец, переехала на новое жительство, события в России и Дальневосточной республике шли своим чередом.
Ещё 26 мая 1921 года при неофициальной поддержке японцев, пока так и не эвакуировавшихся из Приморья, во Владивостоке совершился новый переворот. При помощи убежавших из-за Забайкалья недобитых семёновцев, оставшиеся в городе белогвардейцы свергли областное управление ДВР, в городе организовалось правительство Меркулова. Одновременно с этим на Забайкальскую область из Монголии напали банды японского наёмника барона Унгерна.
Для укрепления ДВР и её армии Центральный комитет РКП(б) направил на восток ряд видных коммунистов. Во главе Народно-революционной армии был поставлен известный командир Красной армии В. К. Блюхер, он же получил и пост военного министра ДВР.
Японцы спешно готовили остатки белогвардейских войск, сконцентрировавшихся в Приморье, к наступлению на западную часть ДВР. Со своей стороны, готовились к решающей схватке с врагом части Народно-революционной армии и партизаны Приморья. Весь Дальний Восток был похож на готовый взорваться вулкан.
К чему может привести этот взрыв, догадывались немногие. Однако капиталист-лесопромышленник, немец по национальности, соблазнивший Михаила Пашкевича на аферу и большие заработки, видимо, был достаточно дальновиден и потому торопился, пока ещё можно, урвать кусок пожирнее. Его помощники (Михаил Пашкевич с компаньоном), хотя по своим средствам были вынуждены довольствоваться кусками поменьше, однако, тоже надеялись их получить. Никто из этих хищников не думал о судьбе обманутых ими людей, завезённых в глухую тайгу, а их положение стало крайне тяжёлым. Кое-как преодолев расстояние в 30 километров от берега моря до места назначения по бездорожью, крутым, заросшим лесом сопкам к бурной горной реке, растеряв при этом добрую половину своего скудного имущества, первое, с чем столкнулись эти горе-переселенцы, явилась необходимость постройки хоть какого-нибудь жилья. На том месте, куда они прибыли, кроме нескольких шалашей ороченов (одна из китайских народностей), жилья не было.
Используя привезённых рабочих и многочисленных родственников на строительстве дома для себя и барака-зимовья для остальных, Михаил Пашкевич и не думал о том, как они справятся с этим делом, в том числе и семья его брата Петра.
Осознав, в какие невыносимо трудные условия попали, Акулина Григорьевна и Андрей в душе кляли себя за легкомыслие, за то, что поддались на уговоры бессовестного Михаила. Они были бы рады вернуться назад в Шкотово, где из всей их семьи осталась старшая дочь Людмила, продолжавшая учёбу в учительской семинарии, но, к сожалению, это желание стало неосуществимым: на обратную дорогу не было ни средств, ни времени. Приближалась зима, регулярное сообщение с Владивостоком из бухты Датта отсутствовало. Кроме того, перед отъездом Михаил Пашкевич выдал Андрею немного денег на дорогу и обзаведение – надо было их отработать. Одним словом, попали они в капкан и теперь не видели, как из него выбраться.
Пётр Яковлевич, приехавший с семьёй в бухту Датта, ни одного слова упрёка ни жене, ни сыну не сказал, только со своим старшим братом перестал разговаривать и даже здороваться.
Семья Петра Яковлевича приступила к строительству дома. Без помощи приехавших с ними Семёна Игнатьевича и Иосифа Ильича они бы с этой работой, конечно, не справились. Кроме Андрея и Петра Яковлевича, в семье имелись только женщины, собственно, скорее, девочки. На действительную физическую помощь в строительстве можно было рассчитывать, пожалуй, только одной Кати, которой уже почти исполнилось 15 лет и которая, несмотря на свою хрупкую, тонкую фигурку, была достаточно крепкой и выносливой девушкой.
Акулина Григорьевна и жена Андрея Наташа имели маленьких детей, а последняя даже грудного ребёнка, и могли заниматься только приготовлением пищи. Остальные девочки занялись сбором разных лесных продуктов и ягод, чтобы иметь хоть что-нибудь на зиму.
Пока все жили в наскоро устроенных шалашах, с нетерпением ожидая конца строительства дома. К счастью, их окружала густая тайга – лес был рядом. На одном из берегов горного ручья, впадавшего в Тумнин, напротив добротного дома Михаила, поставившего его на противоположном берегу этого же ручья, наконец, был готов дом и для семьи Петра Яковлевича.
Собственно, название «дом» для этого сооружения было слишком громкое: этот почти квадратный сруб, с потолком и полом, сделанными из грубо отёсанных плах, и крышей из колотой дранки, скорее, походил на временное охотничье зимовье. В одном из углов этого сруба Пётр Яковлевич сложил из камней русскую печку. Никаких комнат в доме не было, впоследствии удалось пристроить небольшие сени и всё. В прорубленные три окна вставили рамы, привезённые с собой из Шкотова.
Вскоре все члены семьи Петра Яковлевича Пашкевича переселились в этот новый дом и вовремя – наступил октябрь. В бухте Датта, расположенной гораздо севернее Владивостока, начались по ночам довольно крепкие морозы. В этой избе нужно было разместиться самому Петру, его жене, их четырём дочерям, семье Андрея, состоявшей уже из трёх человек и, наконец, ещё одному из друзей Андрея, ставшего почему-то ближе к этой семье, Семёну Игнатьевичу.
Конечно, теснота была невероятная. Отделив кое-как закутки для каждой группы жильцов занавесками из рядна, сколотив для спанья деревянные топчаны и полати, а для еды большой стол и лавки к нему, семья Петра Пашкевича начала заботиться о запасах продуктов на зиму. Мука, сахар и жиры были доставлены тем же «Алеутом», всё это принадлежало подрядчикам – Михаилу Пашкевичу и его компаньону. Продукты хранились в специально построенном сарае-складе и выдавались в счёт заработка рабочим, в том числе и семье Петра. Этих продуктов явно не хватало, нужно было заготавливать что-то и самим.
Первое, что частично сделали почти сразу, это набрали, насолили и насушили грибов, росших в изобилии почти рядом с домом, второе – недалеко нашли огромное количество брусники, её тоже заготовили впрок. Главными поставщиками ягоды были сам Пётр и его дочь Катерина. Конечно, все мужчины были хорошими охотниками и поэтому надеялись иметь достаточные запасы мяса.
Дичи в этой девственной тайге водилось много, но основной пищей жившим в маленьких посёлках ороченам, да и нашим переселенцам, служила рыба. В Тумнине, как и в других реках Приморья, лососевых пород рыбы осенью скапливалось много – это были кета, горбуша и сима. Выловленную рыбу солили прямо в ямах, выкопанных на берегу, вялили на жердях и даже коптили в самодельной печке, построенной Петром Яковлевичем.
Ещё жильё и заготовка продуктов не были закончены, а Михаил уже требовал, чтобы все мужчины немедленно приступили к лесозаготовкам – рубке и подвозу брёвен к берегу реки. Весной лес следовало сплавить в устье к морю.
Пётр Яковлевич категорически отказался работать на брата и продолжал заниматься своим хозяйством. Андрею же, и его другу, и даже Кате пришлось отправляться в тайгу, где уже начали стучать топоры и звенеть пилы остальных рабочих.
Все новые жители этого заброшенного уголка Приморья, находясь целиком в зависимости от своих эксплуататоров-подрядчиков, были совершенно оторваны от мира. Они не знали, что в это время происходит не только в далёкой России, но даже и в сравнительно близком Владивостоке. Загруженные тяжёлой работой, стремясь сделать её как можно больше, чтобы заработать достаточно, все они с рассвета и до темноты проводили жизнь в лесу на рубке и вывозке отличного строевого леса.
Так прошла зима 1921–1922 года, наступила весна. Вскрылся Тумнин, лес сплавили и погрузили на подошедший японский пароход, однако, обещанных длинных рублей пока не получили. Михаил Пашкевич аккуратно подсчитывал заработки каждого рабочего, в том числе и членов семьи Петра. По его подсчётам выходило, что Андрей и его товарищи, и даже Катя, заработали уже огромные суммы, но, как заявил Михаил, лесопромышленник, купивший лес, окончательный расчёт произведёт только осенью, когда второй пароход заберёт оставшийся лес.
Кстати сказать, большую часть его ещё предстояло сплавить. Пока же, как опять-таки заверил Михаил, наниматель дал только небольшой аванс, который у всех рабочих, в том числе и у семьи Петра, даже не покрывал самых необходимых трат и стоимости тех продуктов, которые забирали зимой из лавки подрядчика.
Для того чтобы как-то улучшить своё существование в ожидании получения расчёта, всем переселенцам и, прежде всего, семейству Петра Пашкевича пришлось заняться сельским хозяйством. Разработав небольшой участок земли под огород, Андрей выяснил, что местное население страдает из-за отсутствия табака, а у ороченов курят все: мужчины, женщины и даже дети.
Раньше они выменивали табак на рыбу и меха у моряков пароходов, заходивших в бухту. Сейчас пароходов не стало, пропала и возможность обмена. Среди многочисленных запасов различных семян, предусмотрительно взятых с собою Акулиной Григорьевной, нашлись и семена табака. Посеянные в девственную почву, удобренную золой, появившейся от сжигания валежника и выкорчеванных пней на площадке, разработанной под огород, семена табака прекрасно взошли и к середине лета 1922 года дали большой урожай. Выменивая листья этого табака, прошедшего под руководством Петра Яковлевича некоторую обработку, на мясо, мех и даже на царские деньги у ороченов, семья Петра получила побочный источник дохода.
Срубленный лес сплотили и подготовили к погрузке на пароход, но японцы так и не приехали. Зато с проходящего куда-то на север пассажирского судна на шлюпке Михаилу Пашкевичу доставили письмо о его компаньоне, который уехал на первом пароходе после погрузки леса. Получив это письмо, Михаил Яковлевич стал мрачнее тучи, и даже ближайшие домашние (жена и дети) боялись к нему подступиться. Содержанием полученного письма, да и то – больше по необходимости, так как сам был не очень грамотен и написанное разбирал плохо, он поделился только с сыном Гавриком. Последний после прочтения буквально впал в бешенство, причём кроме проклятий, невероятно грязных ругательств, направленных в никуда, Гаврик нашёл и конкретное применение своему гневу. В этом письме, по сведениям, полученным неизвестно из каких источников, наряду с прочими, предостаточно неприятными для Михаила Пашкевича и его белобандита-сына новостями, сообщалось и то, что старшая дочь его брата Петра, Людмила, вступила в какую-то безбожную и пакостную организацию, называемую «комсомол».
Ни сам Михаил, да, пожалуй, никто из семьи Петра Яковлевича, в то время даже и не представлял себе, что это такое за комсомол, хорошо знал это только бывший белый офицер Гаврик. Его бешенство нашло выход. В своём обычном пьяном состоянии он, схватив топор, бросился в дом к Петру, чтобы зарубить Акулину Григорьевну, родившую и вырастившую такую дочь. К счастью, той дома не оказалось. Излив свой гнев на ни в чём не повинных скамьях и столе, Гавриил Пашкевич бросился искать Акулину Григорьевну во дворе, но та, уже предупреждённая рабочими, надёжно спряталась. Члены её семьи – мужчины Андрей, Семён Игнатьевич, да кое-кто из рабочих, приготовились её защитить (все они имели огнестрельное оружие). Протрезвевший от бешенства Гавриил, будучи порядочным трусом, счёл за лучшее исчезнуть из посёлка. Говорили, что он убежал куда-то в лес к белобандитам, у которых и скрывался.
А Михаилу Пашкевичу было от чего помрачнеть. Дело в том, что ещё осенью 1921 года, в ноябре, японцы двинули Белогвардейскую армию генерала Молчанова против правительства ДВР, но войска НРА, возглавляемые командармом Блюхером и комиссаром Постышевым, не только отразили этот удар, но и 10 февраля 1922 года сами перешли в наступление и к концу весны освободили от белогвардейцев почти весь Дальний Восток.
В руках белых, по существу, оставался только один Владивосток, где они организовали своё правительство во главе с генералом Дидерихсом, причём западной границей этого последнего белогвардейского «государства» в России была станция Угольная, в 30 километрах западнее города.
Тем временем под давлением общественности самой Японии, под дипломатическим нажимом советской России и в связи с обострившимися противоречиями с США японское правительство вынуждено было свои войска с Дальнего Востока вывести. 25 октября 1922 года при отходе последнего парохода с японскими войсками остатки белых маленькими группами разбежались по Уссурийской тайге, к одной из групп и попал Гаврик. В этот день во Владивосток вошли войска Народно-революционной армии и части Красной армии под командованием И. П. Уборевича, завершив этим освобождение Приморья. 14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР приняло решение о ликвидации республики и о вхождении Дальнего Востока в состав РСФСР.
Всё это, может быть, не так подробно и точно, было изложено в письме, полученном Михаилом Пашкевичем. Он понял, что заключивший с ним подряд лесопромышленник за лесом не вернётся; его компаньон тоже, вероятно, уже благополучно прибыл в Японию, и теперь ему, Михаилу, конечно, не удастся получить тех огромных прибылей, на которые он рассчитывал, и что самое главное – ему не удастся, ни одному, ни с семьёй в ближайшее время выбраться из бухты Датта, следовательно, он не сможет попасть за границу.
У Михаила Пашкевича имелись определённые накопления за лес, проданный весной, но продолжать дальнейшие разработки, а тем более кормить всю эту ораву, к которой он, не смущаясь, причислял и семью брата, совершенно не собирался.
Дня через два после получения письма Михаил Пашкевич объявил всем рабочим, что лесопромышленник его надул, за лесом он больше не вернётся и денег от него ждать нельзя, а поэтому все заработки, подсчитанные на бумаге, так и останутся неоплаченными. Он не преминул заметить, что главной причиной, вызвавшей такое положение, является появление на Дальнем Востоке советской власти, которая разорила его и, конечно, принесла немалый ущерб и всем работавшим на него людям. Далее он сказал, что с этого дня все свои договорённости с рабочими он расторгает, каждый может делать что хочет и идти куда угодно. Выдача продуктов прекращается, и он согласен только кое-что продать за наличный расчёт.
Конечно, будь рабочие немного более организованными, они смогли бы справиться с этим бессовестным эксплуататором: растрясли бы его склады, да, может быть, основательно пощипали бы и его дом, но Михаил знал, кого набирал. Никто из этих полубродяг не сказал ни слова. Выслушав нерадостное сообщение, они стали разбредаться, куда глаза глядят. Большинство из них потянулось в Советскую гавань.
Однако семья Петра Яковлевича Пашкевича на такой поход решиться не могла: слишком многочисленной она была, обременённой большим количеством маленьких детей, чтобы вот так, без всяких средств и определённой цели куда-нибудь переселяться.
Если бы они могли вернуться в Шкотово, то это было бы самым лучшим исходом, но село находилось очень далеко, добраться до него по берегу было невозможно, а пароходы в бухте Датта даже и не показывались. Да если бы и показались, то на проезд у семьи Петра Пашкевича не было денег.
После очищения Приморья от интервентов и белогвардейцев началось становление новой власти на местах: организация сельских и волостных советов. Организация новых учреждений происходила очень медленно, главным образом, потому, что отдельные глухие уголки Приморья были оторваны от губернского города Владивостока, удалены на сотни вёрст. Сообщение с ними, осуществляемое преимущественно по морю, было очень затруднено. Японцы и последние белогвардейцы, уходя из Владивостока, разграбили полностью порт, угнав все годные пароходы, оставив только те, которые требовали серьёзного ремонта.
Прошло почти полтора года, пока первый представитель советской власти проник в бухту Датта и добрался до Уськи. Всё это время семья Петра Пашкевича, как, впрочем, семьи и других шкотовцев, обманутых Михаилом, находилась в очень бедственном положении. С огромным трудом, расширяя клочки пригодной для посева земли, Акулина Григорьевна, Андрей при помощи Семёна Игнатьевича и подрастающих дочерей обеспечивали себя продуктами с огорода. Охотой и рыболовством добывали мясо и рыбу. Продавая ороченам табак, на вырученные средства покупали у Михаила Пашкевича жиры, сахар, соль, а иногда и немного муки. Сеять хлеб в районе Уськи было нельзя: он не вызревал. Никаких предметов первой необходимости – одежды, сельхозинвентаря и прочего они приобрести не могли, их просто не было.
Заветной мечтой Андрея, его жены, Акулины Григорьевны, да и всех остальных членов этого семейства было возвращение в Шкотово. Они не боялись советской власти, хотя почти и не представляли её сущности. Тем не менее они считали, что крестьяне, честно занимавшиеся своим трудом, могут жить при любой власти.
Совсем по-другому думал Михаил Пашкевич и члены его семьи. Имея значительные запасы продовольствия, продолжая наживаться даже на самых близких людях, они думали не о возвращении в Шкотово, а о том, чтобы как-нибудь перебраться за границу, хотя бы на Южный Сахалин. Он, по слухам, продолжал оставаться японским, и до него можно было добраться на обыкновенной китайской шаланде. С этой целью сыновья Михаила, Ананий и Матвей, уже много раз ходили на побережье, надеясь встретить какую-нибудь китайскую шаланду.
Но совершенно неожиданно в Уську во главе небольшого вооружённого отряда явился некто Афиногенов, назвавший себя представителем советской власти, которому было поручено организовать органы этой власти на побережье. Вскоре выяснилось, что прибывший был близким другом Василия, учился вместе с ним в Коммерческом училище и, по его рассказам, знал всё о семействе Пашкевичей.
Узнав от Андрея и Акулины Григорьевны, что они спят и видят возвращение в родное Шкотово, Афиногенов обещал устроить их семью на тот пароход, который через некоторое время, возвращаясь во Владивосток, заберёт его отряд. Одновременно он сообщил, что кроме организации в Датте и Уське сельских советов, на нём лежит миссия поимки и ареста находившихся в этих местах белогвардейцев и, прежде всего, офицера Гавриила Пашкевича. Он заметил, что, очевидно, придётся арестовать и его отца, бывшего лесопромышленника, так как, по имеющимся материалам, Михаил Пашкевич сотрудничал с японцами, не только сбывая им, по существу, ворованный у государства лес, но и выдавая некоторых партизан и работников советской власти. Однако в этот раз Михаил Пашкевич и взрослые члены его семьи успели скрыться в тайге, где их найти было невозможно. Трогать детей и женщин Афиногенов не стал.
Впоследствии стало известно, что, в конце концов, Михаил был арестован и со всей семьёй выслан из Приморья куда-то вглубь Сибири. Всё его так нечестно нажитое имущество было конфисковано в пользу советского государства. Гавриил Пашкевич так и не был пойман – он успел убежать в Японию.
В конце августа 1924 года семья Петра Яковлевича благополучно вернулась в Шкотово. В районе Уськи остался Семён Игнатьевич, которого избрали председателем сельсовета. Ему понравился этот северный край.
Впрочем, в том, что Семён Игнатьевич остался в Уське, была и другая причина. Ещё с первых дней своей жизни в семье Пашкевичей, ему понравилась одна из дочек Петра, Катюша. Продолжительная жизнь на севере, когда они ежедневно бок о бок трудились в лесу, на рыбалке, в огороде, когда Катя на его глазах из бойкой весёлой девчонки превратилась в стройную красивую девушку, от которой он временами не мог отвести глаз, заставила его серьёзно думать о том, чтобы жениться на ней. Его смущало только то, что он был старше Кати более чем на десять лет, а также и то, что она или не замечала его чувств, или была ещё настолько наивна, что не понимала их.
Акулина Григорьевна, которой Сёмен Игнатьевич рассказал о своём чувстве к Кате и о намерении предложить ей выйти за него замуж, отнеслась к этому предложению положительно. Она считала, что Катя создана для крестьянской работы и что её жизнь с серьёзным и опытным человеком, каким показал себя Семён Игнатьевич, будет достаточно обеспеченной и счастливой. Однако она не хотела как-либо воздействовать на дочь и предложила ему договориться самому.
Вскоре для этого представилась и возможность. В то время как вся семья, навьючив лошадей, пробиралась по тропе вдоль берега реки Тумнин в бухту Датта, где на рейде стоял пароход, Семён Игнатьевич и Катя были посажены в ульмагу (так назывались местные лодки), куда сгрузили большую часть имущества и продуктов. Плыть по реке пришлось почти сутки. Семён Игнатьевич смотрел на Катю, не отрываясь, и она, кажется, начала кое-что подозревать, однако виду не подавала, а наоборот, всё время вела разговор о предстоящем возвращении в Шкотово и об огромной радости, которую это ей доставляло, так как она получала возможность продолжать учение. Может быть, именно поэтому он так и не набрался смелости, чтобы рассказать ей о своём чувстве. Так ни о чём не договорившись, они и доплыли до устья реки. Вероятно, поэтому Семён Игнатьевич и не покинул Уську.
А если бы он открылся Кате Пашкевич? Кто знает, может быть, вся её жизнь, да и жизнь Бориса Алёшкина в дальнейшем пошла бы совсем другим путём.
Но ведь так можно предположить что угодно. Жизнь повернулась по-другому, значит, так было нужно.
Вернёмся к семье Пашкевичей. Приехавшие не без некоторой опаски в конце августа 1924 года в Шкотово, Пётр Яковлевич, его жена и сын увидели, что все страхи, так старательно раздуваемые членами семьи Михаила Пашкевича, оказались совершенно напрасными. В селе уже более года действовали советские учреждения. Была по-настоящему установлена советская власть, имелся не только волостной совет, но даже и военный комиссариат с солдатами-красноармейцами и командирами, одетыми в так удивившую их форму, в какую были одеты бойцы, вызволившие их из тисков далёкого севера.
Больше того, в селе Шкотово было даже ЧК и чекисты в кожаных куртках. Они не только не хватали каждого встречного-поперечного крестьянина, чтобы подвергнуть его зверским пыткам, как грозили Михаил и Гаврик, а вели себя совершенно спокойно и жили на квартирах у многих крестьян.
В селе торговали все магазины, регулярно действовала железная дорога, работали школы и, по сравнению с тем временем, когда Пашкевичи уезжали из села и когда в нём хозяйничали японцы, стало значительно больше порядка и спокойствия.
Горько пожалели тогда Акулина Григорьевна и Андрей о своём необдуманном поступке, о том, что поддались на уговоры Михаила Пашкевича и выехали из Шкотова. Погнавшись за длинным рублём, они в результате, если и не потеряли слишком много, то ничего и не приобрели. Им нужно было опять начинать с того же, что они бросили в 1921 году.
Расколотив забитые окна и двери своего дома и хозяйственных построек, убедившись, что всё оставленное ими имущество никем не тронуто, не реквизировано и что даже никаких попыток к этому никто и не предпринимал (как они узнали от аптекарши), Пашкевичи стали привыкать к новым порядкам, установленным советской властью.
Одним из первых поразивших их изменений, стало то, что уже более года как аптека стала государственной, но дом, в котором она находилась, продолжал считаться собственностью Петра Пашкевича. Хлуднева, продолжая служить в этой аптеке, аккуратно вносила за дом арендную плату в сберегательную кассу, открывшуюся с первых дней прихода советской власти. Эти деньги Пётр Яковлевич или его жена могли в любое время получить, они были очень необходимы. Удалось, правда, с большим трудом и волокитой, получить деньги и с китайских лавочников, арендовавших другой дом. Вот эти-то, не такие уж маленькие, накопившиеся за несколько лет деньги, и оказались тем спасительным кругом, который выручил семью Пашкевичей. На них удалось приобрести двух лошадей, корову, кое-что из одежды, необходимые хозяйственные мелочи и главное в хозяйстве – семена для посева.
Второе, что очень удивило и обрадовало Акулину Григорьевну и Андрея, было известие, принесённое Петром Яковлевичем, когда он вернулся из сельсовета (так называлось теперь учреждение, управлявшее селом). Ему нужно было поставить власти в известность о своём возвращении и получить в обратное пользование свой земельный надел. В сельсовете он узнал, что при советской власти землю нарезают не по мужским душам, а по едокам. Едоком же считался любой член семьи, независимо от возраста и пола. Таким образом, сельсовет дал землю не только на него, сына и внука, но и на его жену, невестку и всех дочерей. Правда, величина надела на каждого человека была несколько меньше, чем ранее приходилось на мужскую душу, но, в общем-то, на семью Петра Яковлевича земли пришлось почти в четыре раза больше, чем выделялось ранее.
Сам Пётр к этому известию отнёсся без особого восторга, но его жена и Андрей очень обрадовались, они сразу поняли, что при должной обработке этого количества земли, семья не будет бедствовать так, как это было до их отъезда на север. Теперь они смогут оправиться, окрепнуть и перед ними откроется дорога к действительно зажиточной жизни.
Купив семена и получив помощь со стороны родных матери, Андрей в эту же осень успел запахать такой порядочный клин земли, что после посева на нём и получения в будущем году даже среднего урожая, семья была бы обеспечена хлебом и даже могла бы кое-что и продать.
Было и третье радостное известие – про оставленную в Шкотове старшую дочь Людмилу. В своё время мы упомянули о письме, полученном Михаилом Пашкевичем, в котором сообщалось, что Людмила стала комсомолкой. Помимо гнева, вызванного этим обстоятельством у Гаврика, Михаил да и все остальные члены его семьи всё время корили Акулину Григорьевну за этот поступок её дочери. В своих разговорах они всячески судили и поносили Милочку, заявляя, что теперь она стала потерянной, гулящей девкой, что её не только в учительницы – ни в один порядочный дом не пустят! Позор, который она нанесла этим поступком, отразится и на всей семье Петра Пашкевича.
Если Андрей к этим наговорам относился немного насмешливо и недоверчиво, хотя в душе и не одобрял Милкиного вольнодумства, то Акулина Григорьевна им верила, и, возвращаясь в Шкотово, уже заранее готовилась к попрёкам от всей родни за «беспутную» Милку, а саму её оплакивала, как покойницу.
Какова же была её радость, когда, приехав в Шкотово, она узнала, что Милочку не только никто не позорит и не корит, а, наоборот, все считают, что она хорошая, умная и порядочная девушка.
В самом деле, Людмила Пашкевич, несмотря на все передряги, происходившие в Приморье с 1921 по 1924 год, не только успешно окончила учительскую семинарию, но вот уже второй год учительствовала в школе большого села Угловка, расположенного рядом со станцией Угольная.
Через несколько дней после возвращения семьи Пашкевичей в Шкотово, приехала в гости и сама Людмила. Старшими она была встречена недоверчиво, настороженно – так они пока относились ко всем комсомольцам и большевикам. Прошло не менее года, пока мать, брат и его жена стали вести себя с Милой достаточно уважительно. Младшие же сестрёнки встретили её (комсомолку и учительницу) с нескрываемой радостью и интересом. Особенно много расспрашивала про комсомол старшая из вернувшихся сестёр – Катя.
Время летело быстро, наступил сентябрь, начались занятия в школах. Теперь, когда учение было совершенно бесплатным, Акулина Григорьевна и Андрей настояли, чтобы все девочки, которым это было положено по возрасту, взялись за учение. Конечно, каждой из них пришлось пойти в тот класс новой школы, который соответствовал оставленному ими перед отъездом. Таким образом, Кате, которой уже исполнилось 16 лет, пришлось отправиться в седьмой класс, в котором учились ребята 13–14 лет. Ей это показалось стыдным, и она даже немного поупрямилась, но и мать, и Андрей, да и приехавшая Милочка категорически требовали продолжать образование.
В седьмом классе школы-девятилетки, куда она теперь пошла, уже имелось несколько комсомольцев, со многими из них Катя скоро подружилась. Школьники-комсомольцы собирались на комсомольские собрания и обсуждали различные вопросы. Это было заманчиво и интересно, Катя иногда бывала на таких собраниях. Однажды, возвращаясь из школы, она увидела и одного из первых шкотовских комсомольцев – Бориса Алёшкина. Ребята отзывались о нём с уважением и некоторой завистью, Милочка тоже хвалила, а кое-кто из знакомых её семьи и, прежде всего, Михайловы и Пырковы – наоборот, приписывали ему чуть ли не все семь смертных грехов. Может быть, именно это противоречие – осуждение одних и похвала других – заставило Катю заинтересоваться вихрастым парнишкой, который, чуть ли не с первой встречи стал её постоянным преследователем и поклонником. Повлияла и его настойчивость, с которой он добивался встреч с нею. Вероятно, немаловажную роль сыграли и его голубые глаза, смотревшие на девушку с такой мольбой и лаской, что, встретившись с ним взглядом, Катя испытывала какую-то неловкость и поспешно отводила глаза.
Глава пятая
Сближение с комсомольцами, частые посещения их собраний, дружба с отдельными ребятами, разговоры со старшей сестрой – всё это не могло пройти бесследно. В ноябре 1924 года Катя Пашкевич вступила в комсомол.
В то время все комсомолки ходили с короткими волосами. Стриженая под скобку голова являлась как бы одним из признаков, символом принадлежности к комсомолу. Как же могла миновать это Катя?
Необходимо, впрочем, рассказать и о том, как она вступала в комсомол. Перед тем, как подать заявление о приёме Катерина решила спросить разрешение у родителей. Мать, продолжавшая ещё относится к этой организации с недоверием, сперва ответила категорическим отказом, но Катя упорно настаивала на своём. Милочка её поддерживала, у Андрея тоже не было особых возражений. Акулина Григорьевна, наслушавшись наговоров соседок, даже пугала дочь тем, что после вступления в комсомол её могут остричь и отправить в Китай. Хотя, откровенно говоря, сама она этой болтовне верила мало, ведь её старшая дочь уже давно была комсомолкой, давно носила короткие волосы, и никто её никуда не отправлял. Стремясь всё-таки как-то задержать вступление Кати, мать сказала ей:
– Поезжай к отцу и спроси его разрешения.
Пётр Яковлевич, как это пошло чуть ли не с первых дней его возвращения в Шкотово, продолжал выпивать. Катя знала, что он живёт где-то в зимовье, занимаясь охотой. Приказание матери её не испугало. Вернувшись из школы, она оседлала коня Яшку и немедленно отправилась искать отца. Найдя его и обратившись к нему с просьбой о разрешении вступить в комсомол, Катя ждала ответа с некоторым волнением и страхом. Она думала: «А вдруг тятя откажет? Тогда уже мама ни за что не позволит!»
Пётр Яковлевич несколько минут молчал, а затем как-то безучастно спросил:
– А как мать?
– Она позволит, – слукавила Катя.
– Ну, тогда и я.
Не помня себя от радости, Катя помчалась на своём хромоногом скакуне домой. Вернувшись, она радостно закричала:
– Мама, тятя разрешил!
Акулина Григорьевна, встретив дочь на крыльце, не сказала ничего, только покачала головой.
Теперь девушке понадобилось выполнить следующее необходимое дело – остричься. Не зная, как к этому подступиться, Катя в то же время чувствовала себя неловко: все комсомолки, окружавшие её, были пострижены, и только она одна ходила с косой. А ей ещё дали нагрузку работать с пионерами. Некоторые девочки даже спрашивали свою вожатую, почему она ходит с косой.
Катя понимала, что даже малейший намёк на желание постричься со стороны матери встретит самый твёрдый отпор. Ведь из всех сестёр, имевших, хотя и густые, и даже курчавые, но плохо растущие волосы, только у неё была коса толщиною в руку и ниже колен. Акулина Григорьевна справедливо гордилась этим украшением своей дочери перед всеми родными и знакомыми.
Девушка решилась. Оставшись одна дома, она вооружилась большими портновскими ножницами и чуть ли не одним взмахом безжалостно оттяпала свою чудесную косу. Когда Акулина Григорьевна во время завтрака заметила, что из-под косынки у Кати торчит вихор волос, она не поверила своим глазам! Несколько секунд она ошеломлённо смотрела на дочь, а потом сорвала косынку с её головы и чуть не упала в обморок: вместо прекрасной Катиной косы она увидела копну торчавших в разные стороны плохо подстриженных волос.
Не стерпев такого, она схватила лежавшие у печки щипцы для углей, собираясь по-настоящему проучить эту сумасшедшую девчонку, но Катя не стала дожидаться расправы: с быстротой испуганного зайца она выскочила из-за стола, увернулась от матери, пытавшейся её задержать, и уже через минуту была за воротами своего двора.
Два дня она не являлась домой. Жила у знакомых – Румянцевых. Дольше она не вытерпела, на третий день пришла. В это время жена Андрея Наташа в бане стирала бельё, Катя немедленно присоединилась к ней.
Гнев матери не может быть долговечным, и Акулина Григорьевна, вообще очень сдержанная женщина, вспылив, отошла довольно быстро. Прошло около часа после возвращения Кати, когда её мать направилась в баню, чтобы помочь Наташе в стирке. Зайдя, она увидела там очень старательно работавшую дочь. Катя, подняв голову, вздохнула. Нельзя сказать, чтобы душа у неё была спокойна: внутренне она содрогнулась, ожидая, если не взбучки, то всё-таки самого сурового нагоняя. Но она была дочерью своей матери с таким же твёрдым характером, и поэтому ни одним жестом, ни одним движением не показала своего испуга, а продолжала так же усердно стирать.
Акулина Григорьевна не выдержала:
– Куда же ты, шалапутная, косу дела? – проговорила она, улыбнувшись.
Увидев материнскую улыбку, Катя несмело ответила, чуть ли не шёпотом:
– Под перину засунула…
Тут уж и Наташа не выдержала – громко рассмеялась. А мать проворчала:
– Нашла место! Наташа, ты хоть подравняй её немного, а то глядеть страшно. Да смотри, деду не покажись, он ведь всегда твоей косой любовался, убьёшь старика-то.
Так окончился этот немаловажный для того времени в крестьянской семье эпизод со стрижкой Кати. Надо сказать, что новая причёска не только не испортила её лицо, а даже придала ему больше миловидности и задора.
Вы, вероятно, заметили, что мы почти ничего не говорим о Петре Яковлевиче Пашкевиче, и это неслучайно. Дело в том, что после возвращения с севера, получения им прав на новые наделы земли и проведения кое-каких ремонтных работ по дому и сельхозинвентарю, он как-то почти совсем оторвался от крестьянского хозяйства семьи. Если, находясь на севере, Пётр Пашкевич почти совсем не пил, то теперь запои участились и удлинились. Он опять начал пропадать неделями, возобновил дружбу с охотниками, а ещё больше – с китайцами-земледельцами, бесплатно поившими его. Бывали случаи, когда соседи подбирали опьяневшего Петра и приводили его домой.
Такое поведение в известной мере, может быть, явилось следствием того, что после возвращения вину за поездку на север жена и сын как-то незаметно переложили на него, хотя на самом-то деле он этой поездке сопротивлялся. Все семейные дела, вернувшись в Шкотово, мать с сыном стали решать, не советуясь с ним. А ему, вероятно, стало даже удобнее, и, выполняя между запоями те или иные домашние и полевые работы, он относился к ним так, как делал бы наёмный батрак.
Это не могло не обижать Акулину Григорьевну и, пользуясь предоставленными ей новой властью правами, она решила с мужем развестись.
К тому времени, о котором мы говорили в последней главе предыдущей части, к январю 1928 года произошло следующее. В семье Петра Яковлевича Пашкевича, ещё продолжавшего жить в Шкотове, хозяйничала Акулина Григорьевна Калягина, его бывшая жена, вернувшая себе девичью фамилию после развода. В этом же доме жили её дочери: Катя, окончившая школу в прошлом году и готовившаяся, как мы знаем, выйти замуж за Алёшкина; Женя, учившаяся в последнем классе девятилетки и собиравшаяся стать учительницей; Тамара, учившаяся в восьмом классе, и младшая – третьеклассница Вера. Вместе с ними жила жена Андрея Наташа с двумя сыновьями – Всеволодом восьми лет и Вадимом шести лет. Сам Андрей, как мы помним, убедившись в невозможности содержать свою семью и семью отца только одним крестьянским трудом, работал в Дальлесе и был направлен этой организацией на станцию Ин.
Старшая дочь Людмила вышла замуж за Дмитрия Сердеева и, родив в Шкотове своего первенца Руслана, последовала с ним в Хабаровск к месту службы мужа. Сопровождала её в этом путешествии сама Акулина Григорьевна. И вот, как раз перед самой посадкой в поезд она была огорошена Борисом Алёшкиным, его заявление о женитьбе застало её врасплох.
Может быть, оно и не было совсем неожиданным: о сближении дочери с Борисом своим материнским чутьём она уже знала. Но такое необычное сватовство её встревожило. Проводив Милочку до Хабаровска и оказав ей кое-какую самую необходимую в первые дни помощь, мать заторопилась домой в Шкотово, чтобы успеть хоть как-нибудь собрать и подготовить к замужеству свою следующую дочь. Она знала уже от Бориса, что Катя обещала на днях приехать к нему. Ей, к счастью, удалось уговорить будущего зятя, чтобы приезд Катерины был кратковременным, чтобы настоящая их совместная жизнь началась лишь после того, когда она Катю «соберёт».
Теперь, когда мы вкратце ознакомились с историей и жизнью этого семейства, один из членов которого скоро официально станет самым близким, самым дорогим человеком для нашего героя до конца жизни, можно продолжить прерванный рассказ.
Глава шестая