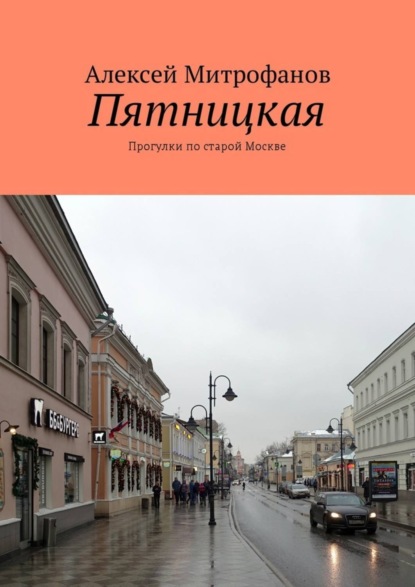
Полная версия:
Пятницкая. Прогулки по старой Москве
– Михаил, я начал писать поэму… Вот послушайте начало:
– Великолепно! – говорю я. – Превосходно! И больше ничего не надо…
– А я решил писать дальше, – отвечает Иосиф. – Уже начал продолжение:
Чека пришло в движенье. Абакумов…
– Не надо, не надо, – говорю я. – Умоляю вас – не надо! Это так прекрасно – удаляющееся под землею «кишки!.. кишки!..»»
Даже шашлычная в комплексе бывших варгинских домов была литературным местом.
Однажды Берия приходит в мавзолейИ видит, что в коробке кто-то рылся.Он пригляделся: точно, кишек – нет!– Кто с…л кишки! – прокричал Лаврентий.Ответа не было… Лишь эхоЧуть слышно повторяло: кишки!.. кишки!..
Военное метро
Станция метро «Новокузнецкая» построена в 1943 году по проекту архитекторов И. Таранова, Н. Быкова, В. Гельфрейх и И. Рожина.
Эта станция относится к так называемой третье очереди московского метро. Ее открыли в ноябре 1943 года. Сам же перегон «Театральная» – «Новокузнецкая» заработал значительно раньше – первый поезд отправился в тот же год, первого января. «Новокузнецкую» же проезжали без остановок – строители запаздывали.
Архитектор И. Таранов говорил в интервью «Архитектурной газете»: «Архитектурное оформление станции «Новокузнецкая» задумано нами с тем расчетом, чтобы осуществить указания Л. М. Кагановича о радостном и легком впечатлении, которое должны производить станции метрополитена… Мы пытались достичь этого следующим образом: прежде всего не маскировать зрительно силу давления свода, передаваемого в землю. Исключив всякие архитравы, якобы несущие свод, и всякую фальсификацию конструкции, мы даем такие своды, которые в сочетании с монументально обработанным низом помещений создают впечатление легкости и радости… Проемы в среднем зале обрамлены порталами из золотистого газганского мрамора и слегка наклонены внутрь. Путевые стены боковых тоннелей станции выложены глазурованными плитками. Цоколь из черного мрамора…
Станция «Новокузнецкая» является первой станцией метро в Замоскворецком радиусе и основным фактором реконструкции Замоскворечья. Это побудило нас посвятить вестибюль станции теме «реконструкция Москвы»».
Станцию создавали в войну – в этом был особый смысл. Таким образом давали понять – и советским гражданам, и вражеской стороне – что никаких сомнений в окончательной победе нет, что речь идет всего лишь о времени, и уже сейчас советские люди готовятся к удобной мирной жизни по окончании боевых действий. Мозаичное панно на потолке сделали по эскизам знаменитого Дейнеки. Выполнял их ленинградский художник А. Фролов. Ленинград был в блокаде, и он умер от голода. А готовые панно вывезли на большую землю уже после его смерти.
Так что «Новокузнецкая» – мемориал Великой Отечественной, притом мемориал не придуманный, не созданный искусственно. Подлинность его – высшего градуса.
Кстати, скамейки этой станции взяли со смотровой площадки взорванного ранее храма Христа Спасителя.
Вадим же Семернин в своей «Метропоэме» свел личность этой станции к ее названию. Глава, посвященная «Новокузнецкой», получилась такая:
Эта «Метропоэма» – характернейший памятник советской поэзии позднего брежневизма. А «Новокузнецкая» – просто невероятное скопление параллелей, смыслов и историй, в котором нашлось место даже такому курьезу.
С этой станцией метро связана одна забавная история, описанная уже упомянутым Михаилом Ардовым: «А вот другой визит Ч. (боевого офицера, классического вояки, над которым в доме Ардовых принято было приятельски потешаться. – АМ.). Он говорит:
– Слушай, Виктор… Я сейчас проходил по Пятницкой, там у метро продают ананасы…
Тут отец решил пошутить со своим гостем и говорит:
– Так что же ты нам не купил ананас?..
– Анна Андреевна, – обращается он к сидящей на диване Ахматовой, – вы когда-нибудь слышали, чтобы в приличный дом приходили без ананасов?
– Никогда в жизни, – отзывается Ахматова.
Эффект такого диалога превзошел все ожидания.
Ч. поспешно вышел из-за стола и через двадцать минут вернулся с ананасом».
Этот Ч., кстати, очень гордился знакомством с Ахматовой, которая часто гостила у Ардовых. Бравировал этим знакомством перед приятелями. Те часто интересовались: дескать, как там поэтесса, все ли у нее нормально?
– У нее все в порядке, – отвечал на это Ч. – Я даю ей рекомендацию в партию.
Для него это, ясное дело, было высочайшей похвалой.
* * *
А до 1934 года здесь стояла церковь Параскевы Пятницы на Пятницкой. Она была построена в 1744 году купцами Журавлевыми на месте старой церкви, той же Параскевы Пятницкой, впервые упомянутой в 1564 году. Путеводитель по Москве 1833 года так ее описывал: «И в сей храм невозможно войти, не почувствовав благоговения, внушаемого не одним святым местом, но также величеством архитектуры и внутренним благолепием храма».
Про колокольню там были отдельные строки: «Прелестный вид с оной во все стороны – вот место, откуда советуем художникам снимать красоты столицы нашей».
А Иван Кондратьев, автор фолианта под названием «Седая старина Москвы», писал о ней: «По имени этой церкви и улица, идущая от Водоотводного канала до Серпуховских ворот, называется Пятницкой. Церковь построена в 1739 году купцами Журавлевыми, а колокольня и трапеза пристроены в 1748 году. Архитектура храма величественна. Внутри храм отличается своим благолепием. Иконостас, ризница и утварь храма очень хороши и богаты. Настоящая церковь – во имя Живоначальной Троицы. Приделы: Артемия Веркольского, Великомученицы Параскевы и Пророка Ильи (на колокольне). В храме чудотворная икона Великомученицы Параскевы.
Близ этой церкви в старину существовал Введенский мужской монастырь, именовавшийся «у Новой Проши» (место прощания с отъезжающими), названный так для отличия от Старой Проши, бывшей на левой стороне Москвы-реки, у Каменного моста, где теперь церковь Николая Чудотворца в Башмакове. Монастырь уничтожен давно. Один из переулков, проходящих с Татарской улицы на Пятницкую, по имени монастыря носит название Введенского».
А в 1766 году у этой церкви остановилась страшная процессия. Историк М. Пыляев так ее описывал: «По московским улицам при громадном стечении народа отряд солдат с заряженными ружьями, со священником с крестом провожал босых, скованных мужчину и женщину в саванах, с распущенными волосами, которые падали на глаза; это были Жуковы, убийцы своей матери и сестры.
Они останавливались пред дверьми Успенского собора, перед церквями св. Петра и Павла в Басманной, Параскевы Пятницы на Пятницкой, у Николы Явленного на Арбате и т. д. Там читался им манифест.
Преступники, стоя на коленях, должны были прочесть сочиненную на этот случай молитву и неоднократно повторять перед народом покаяние».
То было время публичности казней.
Кстати, одно время старостой этого храма был известнейший строительный подрядчик Петр Ионович Губонин.
Дочь же одного из настоятелей этого храма, Валентина Неаполитанская, писала о том, что здесь происходило в советское время. О том, как настоятель, отец Сергий Фрязинов взял на сохранение Плащаницу Божьей Матери у монахинь Крестовоздвиженского монастыря: «Папа сам перенес ее в церковь, где она отстояла всенощную и две обедни, а потом вернулся с ней домой. Жили мы в пяти минутах ходьбы от церкви, на Большой Татарской улице, в доме №14. Плащаницу поставили в нишу буфета, между верхним и нижним его отделениями… Время было страшное. В Поволжье начался голод. Распространялся слух, что большевики собираются отбирать у церквей все ценные предметы церковного обихода. Узнав об этих бедах, отец отправился в исполком Замоскворецкого района и подал туда два заявления. Первое о том, что он просит все ценности не отбирать, а оставить церкви священные сосуды, т.е. чаши и ложечки для причастия, взамен чего он обязуется возместить государству их стоимость путем сбора средств у прихожан. В те годы это было реально. Верующих было много, а отец пользовался любовью и уважением. Однако большевики и сборы приняли, и ценности все отобрали, предварительно арестовав отца… Второе заявление было просьбой – разрешить открыть при церкви Параскевы Пятницы приют на шесть ребятишек из голодающих мест. Это – разрешили!
…Около часу ночи у входной двери раздался резкий звонок. Отец сразу встал и молча пошел отпирать дверь. Через несколько минут папа вернулся в сопровождении человека в черной кожаной куртке с наганом у пояса и двух солдат, в руках которых были ружья со штыками. Начался обыск. Солдаты перевертывали мебель. Согнали нас с наших постелей и стали протыкать их штыками. Принесли ключи от буфета, солдаты перерыли все его ящики. Кочергой ворошили пепел в «буржуйке». Вскрыли висящие на стене часы и извлекли оттуда листок отрывного календаря. На обороте его были перечислены подлинные фамилии некоторых членов большевистского правительства. Кто этот листок сунул в часы, одному Богу известно! Это был единственный изъятый «документ»… Обыск кончился около пяти часов утра. Папа получил ничего не значащий акт и получил предписание утром, к девяти часам, прийти самому на Лубянку с вещами. После их ухода мы, измученные и опустошенные, сидели на наших кроватях. И вдруг – сейчас уже не помню, кто из нас, возможно, что и я, бросил взгляд на белевшую на буфете белую простыню с плащаницей и отчаянно ахнул, показывая на нее пальцем. Мы в ужасе оцепенели. Казалось, что вот сейчас они вернутся и будет что-то ужасное! Они не вернулись. Они ее не увидели! Даже сейчас, через многие годы, вспоминая этот удивительный случай, я чувствую, как по моей спине бегут мурашки! Это было подлинное чудо!»
Настоятель скончался в 1925 году: «Останки отца Сергея Фрязинова перевезли в храм Параскевы Пятницы на Пятницкую улицу. Похороны состоялись по всем канонам православной церкви и при большом стечении народа. Улица против выхода из храма была заполнена толпами людей вплоть до противоположного тротуара. Все пятнадцать километров, отделяющие Пятницкую улицу от села Богородского, родня и друзья, и в первую очередь хор Братства и многие из прихожан прошли с нами пешком за катафалком, изредка останавливаясь, чтобы пропеть „Со святыми упокой“ и „Вечную память“».
Последнее время он не служил – подорвал здоровье во время отсидки, его все же не отпустили с Лубянки домой. И подобных гонимых священников были в то время несметные тысячи.
* * *
А в глубине, за станцией метро – здание Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Эта организация определяла маршрут легендарного писателя Юрия Карловича Олеши. Он жил неподалеку, за Ордынкой, в огромном писательском доме. Сюда же ходил по делам. Ну и не только по делам: на углу Пятницкой и Климентовского переулка располагался винный магазин, в котором торговали не только на вынос, но и распивочно. Для Олеши – очень даже притягательный магнит.
Краевед и журналист Яков Белицкий писал о Юрии Карловиче: «Он часто ходил этой дорогой: в магазинчик на углу, в метро, в радиокомитет, который находился за вестибюлем метро, на Пятницкой, 25».
Упоминал этот маршрут и Лев Никулин: «Разговаривал он с самыми разными людьми. Я спрашивал его, о чем он мог говорить с теми, кого встречал на Пятницкой. Он отвечал:
– Очень интересно».
Сам же Олеша как-то раз обмолвился: «Я старожил, и я не помню такого жаркого сентября. Идешь по Пятницкой с такими ощущениями, как будто, приехав в Одессу, впервые спускаешься к морю. Даже пахнет смолой».
Он был частью Пятницкой улицы.
А упомянутый Яков Белицкий начал в том здании за метро «Новокузнецкая» свой путь в радиожурналистике. А посодействовал ему в этом известный Егор Яковлев, и оба тогда были очень даже молоды. Белицкий вспоминал: «Статью (в газете «Ленинское знамя». – АМ.) напечатали, как мне передали, материал похвалили на планерке, а посему, увидев в коридоре заместителя главного редактора Егора Владимировича Яковлева, я умышленно замедлил шаг, чтобы услышать эту похвалу из первых уст. Он действительно произнес какие-то добрые слова, а потом сказал:
– Сейчас из московской редакции радио звонили, работник им нужен, спрашивали, нет ли у меня кого-нибудь на примете. Я сказал, что вряд ли найдется среди газетчиков чудак, который согласится писать, чтобы все потом уходило в воздух.
– Егор, – сказал я, – есть такой чудак, пойди перезвони им. Мне уже давно хочется поработать на радио…
Пожав плечами, он вернулся в кабинет, набрал номер и сказал: «Нашелся все-таки один, завтра подъедет…«».
Виталий Аленин посвятил дому на Пятницкой фельетончик под названием «Говорит Москва»: «Есть в Москве дом, где прессуется время. Да, да, все именно так и обстоит: здесь в один астрономический час впрессовывается триста девяносто минут, в одни сутки – сто пятьдесят пять часов.
Это – Московский Дом радио.
Сто пятьдесят пять часов в сутки слушает страна голос Москвы по всем программам Центрального внутрисоюзного радиовещания. Это не считая передач для зарубежных радиослушателей, которые ведутся на семидесяти языках разных народов мира».
Правда, в эпоху Леонида Ильича массовый юмор был достаточно низкого качества. Утешает, впрочем, то, что он сейчас ничуть не лучше.
Поэт же Алексей Дидуров описывал другую популярную радиопередачу, тоже производившуюся в этих стенах: «Существовала в далекие уже советские застойные времена на Всесоюзном Радио (на бывшей Пятницкой) «Радиостанция «Ровесники». Это было вот что. По вечерам – ранним, само собой, – собирались в студии хорошие мальчики и девочки… в основном отличники и крепкие хорошисты, развитые, начитанные, уже что-то сочиняющие втихомолку, «со взглядом горящим», и обсуждали перед микрофонами почту юных радиослушателей – их горести, их проблемы, их вопросы из разряда срочных или, наоборот, вечных. Аж вот еще где и когда тем мальчикам и девочкам дали попробовать наркотик избранности и мессианства – по всей Империи от Тихого до Атлантического эти дети входили в каждый дом! В нескольких письмах встретилась им просьба побеседовать со мной и чтобы я свои стихи и песни в эфире исполнил – вот они меня и пригласили.
Занятное они представляли из себя сообщество. Сидели они за одним столом одесную и ошую их отца-наставника – был он изумительной внешности: при, скорее всего и судя по одежде, принадлежности к мужскому полу лицо имел он женственно-детское, сочетающее в себе черты подростка-перестарка и нежно-румяную девичью белизну кожи и таковую же выточенность и миниатюрность носика и губ. Голос – соответственный. И показалась эта радиовечеря мне инкубатором по выведению ангелов и архангелов – так они были чисты, романтичны, трепетны и уверены в пользе и гуманности своей радиомиссии, в своей правде «на вырост»… Ну, истинные были ангелочки!»
Даже не верится, что все это когда-то было.
Мы – новой кузницей сильны!Не наш ли молод дух?Куем мы счастье всей страны —проверь удар на слух.Заря – на наковальне дней…Как деды и отцы,должны мы тоже стать своейпобеды кузнецы!
Православный храм в честь папы Римского
Церковь св. Климента папы Римского (Климентовский переулок, 7) построена в 1774 году по проекту неизвестного архитектора.
То, что в самом центре Москвы – православного, а до революции официально православного города – стоит храм в честь папы Римского, объясняется просто. Священномученик Климент был папой Римским на самой заре христианства, когда еще не было разделения на православие и католичество. Загадочно другое: почему он, будучи в Москве, больше того, в Замоскворечье выглядит как абсолютно европейская церковь. Возможно, в сознании неизвестных нам авторов сидела та мысль, что Климент папа Римский пусть и почитается церковью православной, но все равно – папа Римский. А значит, надо сделать нечто иноземное.
И сделали. Искусствовед Игорь Грабарь писал: «По своему облику храм выпадает из круга московских памятников данного периода, будучи наделен скорее чертами петербургской архитектуры, но архитектуры высокого стиля, притом не имеющей прямой аналогии с творчеством ведущих мастеров Петербурга».
Грабарь не договаривал. Ведь петербургская архитектура – в минимальной степени архитектура русская, и старый Петербург – полностью европейский город, разве что сделанный с восточным размахом.
Впервые храм на этом месте был упомянут в начале семнадцатого века. В 1612 году у его стен произошло одно из самых знаменитых московских сражений так называемого Смутного времени: местные жители здесь задержали войска гетмана Ходкевича, шедшего на подмогу полякам, засевшим в Кремле. И это ускорило сдачу Кремля, приблизило окончание Смуты.
Рядом же с церковью был водоразборный бассейн. Вера Харузина вспоминала о детстве: «Арифметические задачи доставляли мне не раз большое удовольствие, но далеко не такое, какое могло бы радовать учителя. Условия задачи не раз доставляли мне пищу для творчества. Я, например, всегда прекрасно знала, для чего вышли из разных городов те два путешественника, которые должны были встретиться на дороге. Трубы, из которых опорожнялись бассейны, были трубами, свешивающимися своими рукавами из тех башнеобразных построек, которые мы видали на прогулках своих на Серпуховской площади или близ церкви св. Климента, – эти городские бассейны теперь исчезли, – и можно было так ясно представить себе, как около них толпились характерные фигуры тогдашних московских водовозов, работа которых мне почему-то тогда очень нравилась».
Такие вот милые детские ассоциации.
Храм в Вишняках
Церковь Троицы в Вишняках (Пятницкая улица, 51) построена в 1824 году по проекту архитектора А. Григорьева.
Этот храм значительно скромнее, нежели церковь Климента папы Римского. Но его история не менее занятна. Интересен хотя бы тот факт, что архитектор при сооружении этого храма использовал – такова была воля заказчиков – часть стены церковного сооружения, стоявшего на этом месте раньше. В планы архитектора такое явно не входило, однако же возникшую проблему он решил – не сразу и заметишь, где находится старая часть, а где – построенная А. Григорьевым.
Имя же церкви – «в Вишняках» образовано от названия этой местности – «Вишняково». Вишняково же так названо в честь стрелецкой слободы «Матвеевского приказа Вишнякова», которая располагалась здесь в семнадцатом столетии. Ягоды вишенки тут не при чем.
Искусствовед Ю. Шамурин в своих «Очерках классической Москвы» писал: «Самое прекрасное в этой церкви колокольня, построенная в духе классицизма. В ней гармонично сочетаются древнерусские формы с классической эстетикой, не уступая ни одной пяди своего художественного замысла. Высокая, квадратная в плане, в виде разнообразно украшенных кверху суживающихся ярусов, она завершается иглой-шпилем. Декорация усложняется с каждым ярусом. В нижнем ярусе гладкие стены, только четыре колонны у западного входа да пышный фриз по верхнему карнизу. Второй ярус рустованный, образующий как бы арки, легко и плавно несущий верх. Над ними самый нарядный ярус, облепленный полуколоннами, несущими узорный архитрав. Выше – вновь гладкие стены по сторонам пролетов, пролеты окаймлены двумя колоннами, их капители продолжены гирляндами на гладких стенах углов, и так и вьется по верху яруса, завершая четырехгранную композицию колокольни, прихотливый резной пояс узора. Еще выше восьмигранный тамбур, законченный высоким шпилем».
Этот храм связан с известнейшим звонарем К. Сараджевым. Он писал в мемуарах: «Мне было 7 лет. Раз весной, в вечернее время, гулял я со своей няней (няня любила меня исключительно сильно, всем сердцем) неподалеку от дома, у Москва-реки, по Пречистенской набережной, и вдруг, совершенно неожиданно, услышал удар в очень большой колокол со стороны Замоскворечья. Было это довольно-таки далеко, но в то же время колокол слышался очень ясно, отчетливо; он овладел мною, связав меня всего с головы до ног, и заставил заплакать. Няня остановилась, растерянная. Она обняла меня, я прижался к ней, мне было трудно: сильное сердцебиение, голова была холодная; несколько секунд я стоял, что-то непонятное, бессвязное пробормотал и упал без сознания. Няня сильно перепугалась и попросила первого попавшегося отнести меня домой. Дома все тоже были перепуганы и поражены, совершенно не понимая, почему это произошло. С тех пор этот колокол я слышал много раз, и каждый раз он меня сильно захватывал, но такого явления, какое было в первый раз, после уже не бывало. Этот колокол слышали и няня, и родные мои, для этого я водил их на набережную Москва-реки. Долго не мог я узнать, откуда доносится этот звук величайшей красоты, – и это было причиною постоянного страдания… Одиннадцати лет был я на одной колокольне в Замоскворечье, было воскресенье, утро, время, когда в церквах служба, при ней и звон. Вдруг услышал я удар в колокол, который, очевидно, был очень недалеко. Он заставил меня глубоко задуматься: он будто что-то напомнил мне. Затем еще раз был этот удар, я оглянулся в сторону гула и увидал колокольню. Это была Троица в Вишняках, на Пятницкой».
И впрямь – уникальнейшая колокольня.
* * *
В том же Вишняковском переулке, в доме №15 расположен еще один известный храм Москвы – церковь святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе, или Никола в Кузнецах. С этим названием все гораздо более понятно: в Кузнецкой слободе жили и работали мастера-кузнецы. Сначала та церковь была деревянная, затем, в 1683 году, ее заменили на каменную, в 1805 году соорудили новый храм, который, собственно, и сохранился до наших дней – разве что в 1847 году пристроили трапезную, надстроили колокольню и несколько реконструировали фасад собственно церкви.
Уникальность же этого храма заключается в том, что он не закрывался на протяжении всего существования СССР. Ходили слухи, что один из настоятелей – родственник Ленина, но даже если это так, то вряд ли в этом было дело – ведь существовали и другие настоятели. Тем не менее, факт остается фактом: храм не только действовал, но также был в разные времена пристанищем православного диссидентства. В частности, в 1924 году здесь служил всенощную опальный патриарх Тихон. А позднее настоятелем этого храма был известный протоиерей Всеволод Шпиллер, духовник писателя А. Солженицына. Его проповеди ходили среди верующих на магнитофонных бобинах. Власти, разумеется, знали об этом обо всем, но храм не закрывали. Вероятно, видели в том свой резон.
Хотя не все было так гладко. Вот как излагает события тех лет один из современников: «Кто не знает в Москве храма Николы в Кузнецах, кто не знает чтимой иконы Божией Матери с чудесным названием «Утоли моя печали»? Кто, наконец, не знает настоятеля этого храма, одного из самых уважаемых и просвещенных московских протоиереев о. Всеволода Шпиллера? Мирно и тихо шла жизнь этого прихода, причт которого производит хорошее впечатление своей религиозностью и интеллигентностью. Так было до 1965 г., когда во время автомобильной катастрофы погиб староста этого храма. Его преемник (хорист из Малого театра) сразу провел новую линию. Он сменил всех работников храма (свечниц, уборщиц и т.д.). Вновь назначенные им люди не сочли нужным даже познакомиться с настоятелем, с духовенством держали себя грубо и вызывающе. Желая показать свою благонадежность, новый староста, не довольствуясь обычной процедурой проверки документов у родителей крещаемых, стал требовать у отцов еще и военные билеты, что было совершенно незаконно. Наконец, староста ввел новый порядок: в церкви начали шляться антирелигиозники – «общественники» из соседнего института внешней торговли. Антирелигиозники ходили в храм, проверяли документы, присутствовали на всех заседаниях двадцатки.
К о. Всеволоду начали поступать «предложения» прекратить свои проповеди. С этими предложениями адресовывались и непосредственно к нему, и через его родственников. О. Всеволод начал протестовать против подобных порядков. И был снят личным указом Патриарха, вместо него назначен прот. Константин Мещерский, который умер 19 августа 1966 г., когда он должен был вступить в настоятельство. Над ним совершился суд Божий».
После этого о. Всеволод продолжал быть настоятелем храма вплоть до своей кончины в 1984 году.
С точки зрения человека невоцерковленного, суд Божий должен был бы покарать не протоиерея, а отставившего отца Всеволода патриарха. Но у церкви – законы свои.
Юрий Бахрушин – сын основателя театрального музея – вспоминал о своем, детском еще, посещении этого храма: «Порой мне приходилось заходить к отцу Симеону на квартиру в его маленький домик при церкви Николы Кузнецкого. Там меня всегда поражали хитроумно устроенные звонки на дверях, особые запоры на окнах и тому подобные усовершенствования работы самого батюшки. Отец Симеон оказал большое влияние на мое духовное развитие – слушая его фантазерство, я незаметно поддавался его увлечению и невольно, оставшись один, начинал так же фантазировать и строить воздушные замки».
Фантазии этого батюшки были оригинальными и для священника сомнительными. Юрий Бахрушин писал: «Часто, рассказывая мне тот или иной эпизод из Священной истории, он вдруг прерывал свой рассказ, устремлял взгляд своих маленьких глаз куда-то вдаль и начинал фантазировать. Он говорил о том, как люди будут жить в будущем, какая у них будет замечательная жизнь, как будет развита техника, строительство. Он так же резко обрывал свои отвлеченные речи, как и начинал их, и, обратив на меня свой добрый взгляд, смущенно спрашивал:



