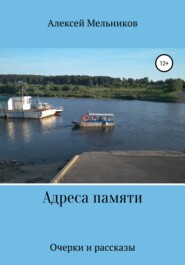 Полная версия
Полная версияАдреса памяти
Насыпь где-то впереди. Столбы в темноте едва угадываются. Можно особо не торопиться – в конце ноября светает поздно, и на перегоне до восхода солнца работа не закипит.
Сегодня – плети. Длиннющие восьмисотметровые рельсы кладутся взамен коротких двадцатипятиметровых. Народу нужно много: на каждую сотню метров – по два монтера, плюс краны, плюс стропаля на кранах, плюс моторка, плюс борона, плюс люди под бороной… Словом, глухой 207-й километр Киевской трассы сегодня точно глухим не будет.
– Все, вперед! – обрывается неначавшийся перекур.
Фонариками нащупываем подъем поположе. Щебенка мерзлая. Ботинки скользят. Цепляемся за камни монтажками и ключами, точно альпинисты. Вскоре вершина насыпи начинает вспыхивать короткими белыми молниями – это лучи фонариков натыкаются на светоотражательные полосы наших монтерских жилетов. Долгое шуршание щебенки под тремя десятками пар башмаков. Идем вдоль путей молча. Разговаривать неохота. Наверное, так солдаты на войне подтягиваются к рубежу атаки. Светает…
– По скольку сегодня дадут? – интересуются мужики у подошедшего начальства.
– У нас одна мерка – по сто.
Если на войне «сто» – это граммы (скажем, наркомовские), то на «железке» «сто» – это метры (уже монтерские). Есть подозрение, что самые длинные в мире.
Стометровка на плетях – это не спринт, это – марафон. Время «забега» – часов пять. Если не повезет, то все восемь. Отличие от классической стометровки еще и в том, что проходишь ее «раком». Не разгибаясь. Орудуя ключом на 36 с приваренной к нему длиннющей ручкой. Каждой шпале – сначала по четыре поклона с ключом в одну сторону, потом – по два в обратную. Затем снова команда «кругом» – и в шпалу дважды челом бить. А шпал на каждого – по 184. И вновь поворот на 180 градусов – и по шесть приседаний с инструментами (или падений – это уже у кого как) возле каждой из этих самых 184 шпал. Все вместе это зовется «пайкой». В смысле дали тебе твой кусок работы – вот с ним и разбирайся…
Наконец, полностью высветлело. Прогремел последний состав. Началось «окно». Можно согнуться. Вздыхаешь и упираешься лбом в землю.
– Интересно, – бросаю копошащемуся где-то поблизости Сане, – вот, если мы бьем тут столько поклонов за день, то там, на небесах, это как-то зачтется?
– А кто его знает… – продолжая звенеть ключом, не сразу откликается скорчившийся над разбираемой шпалой напарник. – Я на кирпичном за пятнадцать лет их знаешь сколько наделал? Теперь на старости лет здесь спину ломаю.
Саня – бывший машинист. Пермяк. Рассказал, почему зовут пермяков «соленые уши». Потому что мешки с солью на плечах тягали. «Соликамск – слыхал? Ну вот это как раз там. Потому, выходит, и уши у нас соленые». Я поглядел на него: уши как уши. На кирпичном ради квартиры оказался. Получил. Детей вырастил – теперь вновь на «железке». Но уже не в кабине тепловоза…
В приказе «на плети» всегда слышится что-то такое «плеточное». Хлесткое. Будто тебя собираются выстегать. И ты весь как бы сжимаешься в ожидании скорой боли в спине, ногах и правой кисти руки. Той самой, что все «окно» не расстается с гаечным ключом. Рука почему-то немеет не сразу, а потом. Точно отмороженная, она мешает спать ночами, не находя себе путного пристанища во всей кровати.
Час–полтора – и по закрытому пути начинают тащить плеть. Изморенный тепловоз яростно дымит, волоча за собой 800-метровое железо. Отчаянно сопротивляясь, новый рельс ползет по бетонным шпалам, выдавливая из них вонючие искры и жалобный стон. На стыке движение замирает. Здесь устанавливается борона – этакая хитрая тележка, что ловко поддевает с пути старые рельсы и заряжает в освободившиеся шпалы новую плеть.
Ждем «вспашки». После бороны наш черед класть очередные поклоны – крепить ключами и монтажками уложенную плеть. С каждым шагом становится все теплее. Позолотивший березки и осины утренний иней перестает напоминать о зиме, а только – в редкие разгибы – отдается где-то внутри мягким сочувствием нежно припудренным ранними зазимками далям.
Долой теплую куртку!Только свитер и непременная «желтуха» – путейский, стало быть, оранжевый жилет. Холодно только от проносящихся по соседнему пути товарняков. Те предупредительно гудят. Мол, будь начеку. Ладно, разогнусь – хоть спина чуток отноет. Да и машиниста зачем нервировать?
Один приятель, было дело, зазевался. В междупутье вроде как замешкался. С одной стороны кран гудит – рельсы старые снимает. С другой – пассажирский летит, трубит: мол, поди прочь! С третьей стороны путейцы благим матом орут: убирайся скорей, дурында! Тот мечется. Растерялся. Не соображает. Дело к печальной развязке движется, так стропаля с крана его за шиворот чуть ли не из-под колес пассажирского достали.
– Видал? Парень-то в рубашке родился, – это я дяде Пете, что на соседней пайке крючится.– Теперь ему одна дорога – в храм. Свечку за здравие ребят поставить.
– Да, жди, поставит… Он и пятьдесят грамм-то тебе не нальет…
У дяди Пети возраст и позвоночная грыжа. Наверное, от этого он ехидничает и часто ссорится. Хотя пайку крутит как черт – не угонишься. Было дело, пил, но сейчас бросил. И курить бросал, но, правда, опять начал. Дядя Петя делится горестями: «Я говорю дочке: ну, ты отцу-то с зарплаты хоть полторашечку пива поставь». А она: «Пива, папа, покупать не буду, а вот лучше тебе, папа, билеты в театр куплю». «Тьфу, – говорю, – микроба, ты и есть микроба». Так две недели с ней не разговаривал. Представляешь?..»
К вечеру от паек начинают отпадать первые оранжевые пятнышки. Это самые проворные путейцы заканчивают крутить свои стометровки. Менее шустрые продолжают скрюченный марафон на спринтерской дистанции. Их жалко. Обреченно они провожают взглядом тех, кто устало шагает мимо них к костру. Кому-то из отстающих помогают, кому-то – нет. Почему – не спрашивай…
Но кончается в конце концов и этот день. Сон сбарывает уже в кабине вездехода на обратном пути с перегона. Сон, в общем-то, и не сон: машина отчаянно прыгает по мерзлым комьям и корягам. Голова бьется о замерзшее окно. До выезда на асфальт километра полтора–два. Кто-то пытается курить, кто-то устало шутит. За окнами темно – там поздний вечер. Можно погасить плафон и закрыть глаза. В кабине становится тихо, только слышен стон рессор и чье-то беспокойное похрапывание на заднем сиденье уставшего вездехода…
Рост кристаллов
Растил детей, сады и кристаллы. С первыми двумя понятно – тянутся вверх. Наперекор гравитации. А к последним приспосабливаешься – вниз головой развиваются. Да еще крутятся – чтобы здоровья кристаллического прибыло. Чтоб без дефектов и всяческих бяк. Как дети. Разве что не прыгают и скачут. А так все то же самое: рост – в движении.
У тех – ссадины на коленях, сопли, прыщики… У этих – дислокации, двойники, дендриты и тоже… прыщики. Точечные, так сказать, дефекты. Приходится лечить. Но лучше – профилактика. Для первых – зарядка по утрам, обливание, проветривание. Короче – глаз да глаз. Для вторых – закупоренные комнаты, мелочность в расчетах, неподвижное нависание над лункой смотрового окна. И тут не без пригляда…
«Режется, – бросает на ходу всегда стремительный Геша. – Сбрось пару десяточек». Я принимаю у него смену. Из расплава вытягивается кристалл. У нас говорят: по Чохральскому. Похоже, капризничает: «играет» диаметром и злит всегда терпеливого Гешу – «поймал градус» и непредвиденно «худеет». Может «провалить» размер. Для опытного ростовика – почти оплеуха. +1240 чувствуешь нутром – без термопар, пирометров и проч. Как? Не спрашивай. Как настроение собственных детей – по громкости молчания или отблеску озорных глаз…
У меня впереди – сутки. Ровно столько растет 80-милли-метровая буля монокристаллического GaAs. Это – если с чисткой камеры, ее загрузкой, неотступным бдением возле смотрового окна, выращиванием, охлаждением и т.д.
Ровно 24 часа длится детство, отрочество и юность «кристалло-потомства». Впереди – взрослая жизнь: сделаться чипом, схемой, светодиодом, лазером… Достичь приличных высот. Если повезет – космических. Но сначала – «пеленки»…
Наследственность – это затравка. Скажем так – материаловедческий ДНК. Что в затравке – то и у «детей». Яблоко – от яблони: черточки, черты, родимые отметины… На идеальный вариант надежд немного. Все равно юный кристалл нахватает структурных бацилл. Задача – их минимизировать. Скажем так, материаловедческая педагогика…
Вертящееся озерцо вязкой раскаленной гадости (несколько раз вырывало термопары – вонь чесночная, сладковатая, мышьяком: даром, что ли, пенсию в 50 дают…). Жар отсекается толстыми станками ростовой камеры. Блики – светофильтром. Расплав трепещет и ищет упорядочения – как ребенок соску: к кому бы прильнуть и обрести покой?..
Важен момент касания затравкой. Как транспортного корабля с космической станцией – асимметрия масштабов аналогичная. Тут важно не убиться и не задушить росток в объятьях – нежно так поцеловать расплав изюминкой будущего кристалла. И зорко следить за последствиями свершившейся любви.
Она может быть разной. Бурной, с выкидыванием по сторонам угловатых дендритов – признак пересыщенных чувств и упрямых вожделений. Перспективы никакой – «бешеный» кристалл сплавляешь. Может, напротив, быть крайне целомудренной, никак не продвигающейся дальше поцелуев. Куда деваться – ждешь…
Рост кристаллов – это терпение. Не так ли с детьми? У них режутся зубы, и они предпочитают не спать до утра. И ты – с ними. Режется кристалл – и точно так же дремать приходится над ним стоя. У мальца опух палец – и ты не знаешь, чем сбить эту припухлость. По телу юного арсенида пошла аллергия («шуба», как мы ее зовем) – и ты всяческими заклинаниями пытаешься уговорить ее оставить кристаллического подростка в покое…
Вроде колыбели – кварц. Точнее – кварцевый тигель. В нем все и происходит: от зарождения – до выхода в свет. Кварц очень терпим: и к мышьяку, и к пельменям. Толерантность беспредельная: практически ни во что не вмешивается. Для нас это важно: лишний атом из колыбели к младенческому GaAs – беда. Нужным параметрам не сбыться.
Да и – аппетит какой? В ночные в кварцевых тиглях мы варим ароматный суп на всю бригаду. Это, если тигель боль- шой – двухсотмиллиметровый. Если поменьше – на 135 – завариваем чай. Впрочем, Геша предпочитает кофе. Чтобы не спать. Дети-то растут – тут глаз да глаз нужен…
Здравствуйте, Хайдеггер!
Вы спрашиваете: «Что есть бытие?..» Увы, человечество мало продвинулось в постижении сути бытия за последние пару тысяч лет. Причина, как посчитал в начале XX века профессор Марбургского университета Мартин Хайдеггер, – обманчивая «самопонятность» термина. Настолько, как трактовали целые плеяды философских школ, банального, что утруждаться его научным препарированием многие века считалось необязательным. И даже гигантские интеллектуальные вспышки масштабов Аристотеля и Канта не вырвали у бытия ответа на безостановочно мучающую человечество загадку: «Что же, в конце концов, ты есть такое, бытие?»
Видимо уже вполне отчаявшись найти отмычку к бытийному замку, Гегель в сердцах почти признал его принципиальную неоткрываемость, назвав бытие «неопределенным непосредственным». «Когда говорят: «бытие» есть наиболее общее понятие, – написал в 1927 году в качестве вступления к своей эпохальной книге «Бытие и время» Мартин Хайдеггер, – то это не может значить, что оно самое ясное и не требует никакого дальнейшего разбора. Понятие бытия скорее самое темное».
Его-то ровно 90 лет назад и попытался «высветлить» один из крупнейших мыслителей XX века Мартин Хайдеггер. Он же – основоположник немецкого экзистенциализма. Хайдеггеровское «Бытие и время» растолковало-таки многовековую загадку бытия. Что сразу же поставило книгу в ряд философских бестселлеров XX века. Заодно забронировав ей VIP-места в веках последующих. Поскольку разгадка бытия ничего не упростила.
Обострение бытийного вопроса не случайно пришлось на пик философских изысканий экзистенциалистов. Ибо учение последних возвращало недостающее доселе звено в рассуждениях на тему бытия, некоего сущего, а именно: того, кто спрашивает об этом самом бытие. Стало быть, постановка вопроса «что есть бытие?» уже бытийна и вскрывает сущность бытия через бытийную возможность спрашивания. Ее Хайдеггер определил, как присутствие.
Ранее первые шаги в этом направлении сделал Кьеркегор. Как отмечал Мераб Мамардашвили, «основная мысль Кьеркегора – мысль о том, что философы почему-то забывают, описывая мир, что они сами часть этого мира, что инструмент, на котором они исполняют свои философские арии, тоже бытийствует определенным образом и что сам вопрос о бытии, который задают философы, есть проявление бытия». Короче, озабоченность бытием, заявляет Мамардашвили, и есть способ бытия. Хайдеггер поименовал его Dasein, или «здесь-бытие», «человеческое бытие», «уже-бытие». То есть – бытие опосредованно бытием присутствующего.
Философская мысль Хайдеггера продвигалась к вопросу о бытии через бытийность личности. А – не наоборот. Хайдеггер меньше всего на свете был настроен объяснять бытие через сущее. Или – бытие посредством накопленных «внутри него вещей». Подобные вульгаризмы, как правило, характерны для ультраматериалистических воззрений.
Те гласят, что законы Ньютона истинны «от сотворения мира и до скончания веков». И истинность эта вполне может обойтись и без самого Ньютона. То бишь – человека. Хайдеггер готов посмеяться над этакой «бесхозностью» истин, замечая, что «законы Ньютона и всякая истина вообще истинны, лишь пока есть присутствие». И далее: «до бытия присутствия, и когда его вообще уже не будет, не было никакой истины и не будет никакой».
«Очеловечивание» бытия, к коему склонился экзистенциализм, оснастило его довольно устрашающими обывательский слух терминами: смерть, ужас, страх, падение, брошенность. Вместе с тем обнадежило, философски узаконив, казалось бы, такие вполне житейские и малонаучные понятия, как вина, забота, любопытство, совесть.
Последняя, скажем, по канонам экзистенциалистов на равных участвует в формировании ответа на вопрос о сущности бытия, экстраполируя проблему на бытие присутствующего, которому, чтобы все-таки быть надобно, как пишет Хайдеггер в «Бытии и времени», «вернуться из потерянности в людях назад к самому себе». В итоге главный философский вопрос о бытии экзистенциализм перепоручает человеку, нагружая его непосильной ношей ответственности (а в равной степени – и свободы, что, в принципе, подразумевает эту самую ответственность) за это самое бытие.
«Человек, – уточняет Хайдеггер, – то, что он делает». И даже не то, чем он стал. Поскольку он бытийствует, выбирая предложенный ему природой потенциал присутствия до дна, то есть – до смерти. Последнюю Хайдеггер вполне по-экзистен-циалистски определил, как «способ быть, которое присутствие берет на себя, едва оно есть». В итоге всех этих философских изысканий человек обременился заботой о своих деяниях в контексте бытия вообще. Причем деяниях не гарантированно (что проповедуют апологеты теории исторического прогресса) успешных. «Экзистенциализм, – поставил чуть позже точку (или – многоточие) в определении ключевого философского учения Жан-Поль Сартр, – философия действия без надежды на успех».
На вопрос «что есть бытие?» человек, в принципе, ответ получил. Но сказать, что он кому-то облегчил жизнь – было бы изрядной натяжкой. Он не облегчил жизнь. И даже – несколько ее усложнил, обременив ответственностью за свои мелкие (и часто низкие) поступки не только перед лицом своих ближайших родственников и сослуживцев, но и бытия в целом. Тем самым, не исключено, хоть как-то застраховав оное от небытия.
Непримиримые
Он не дожил до возраста Христа ровно год. Но точно так же умирал распятым – параличом и слепотой на инвалидной койке. Умирал многажды. Воскресал столько же. Даже после смерти не оставлял начатого: воскресать и умирать заново. Чтобы потом опять стряхнуть пепел забвения со своей судьбы. А заодно – и своих деяний…
Бунтовал против святош и сам был причислен к лику ангелов. Еще при жизни. Но уже после распятия. «Это – святой!» – произнесет один из Нобелевских лауреатов, его «идейных врагов», после встреч с «распятым». Не было такого несчастия, которое обошло бы его стороной. Но и не нашлось такого проклятия, которое бы он не вынес.
Отречение от Господа родной матушки после смерти младшей своей сестры. Каторжный детский труд посудомойкой и кочегаром. Мясорубка Гражданской за недостижимый рай для всех бедных людей планеты. Ранняя юность, брошенная под копыта свирепых конниц. Жадный и хваткий ум, кинувшийся на приступ праведности. Жестокая горячность, готовая расправиться с каждым, кто станет на пути к пролетарскому счастью…
В 18 он уже искалеченный ветеран кавалерийских атак. Умудренный жизнью, прошедший пожар революции. В 22 года – перестает ходить. В 24 – видеть. Постепенно набирается багаж для главного подвига – сочинения книг. О вихре жестоких схваток. О жизнеутверждающей силе разрушающих бурь. О том, как закаляться в этой стихии до крепости стали. И – не умирать в ней, будучи распятым заживо…
Сочинять слепым и неподвижным. Терзаемым периодическими приступами сотней недугов, каждый из которых способен был загнать идейного страдальца в гроб. «Сейчас у меня только крупинка здоровья, – пишет он старому приятелю по «комсе» в Харьков, – я почти совсем слеп, не вижу, что пишу. Я… жестоко загнан в физический тупик… – такая радость жизни. Разгромив меня наголову физически, сбив меня в этом со всех опорных пунктов, никто не может лишь унять моего сердечка, оно горячо бьется».
И он решает наполнить разгромленную жизнь содержанием. Написать книгу об этом самом содержании. А именно – о поисках его. В борьбе, сражениях, потерях и победах… Победах, которые даются порой ценой жизни. А значит – побеждают смерть. «То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, – сплошное недоразумение, идиотская шутка, сатанинская! Если мне сейчас дать хоть одну ногу и один глаз, – я буду такой же скаженный. Как и любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки».
Он был боец. С детства. И непримиримым – тоже с самого начала. Таким, как правило, нужны враги. Точнее – они для непримиримых неизбежны. И необязательно классовые. Но в данном случае классовые пришлись как нельзя кстати. Потому что без борьбы не может быть жизни. И жизнью для прикованного и обессиленного недугом революционера становится книга.
«… я сгораю. Чувствую, как тают силы. Одна воля неизменно четка и незыблема. Иначе стал бы психом или хуже… Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Неправ тот, кто думает, что большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось бы, безнадежном положении. Если меня разгромят в Госиздате, я еще раз возьмусь за работу. Это будет последний и решительный. Я должен, я страстно хочу получить «путевку» в жизнь. И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче мое устремление».
Не примириться с «распятием» – удел подвижников. Победить смерть – удел святых. Даже – с большевистским билетом в кармане. Он яростно пишет. Водит еле подвижной рукой вдоль деревянного транспаранта. Буквы наползают одна на другую. Резь в слепых глазах. Тяжесть одеревеневшего тела. Движения становятся все скупей. Когда они прекращаются вовсе, приходится диктовать. Благо память – феноменальная. Сочинительство стало напоминать шахматы вслепую. Вполне гроссмейстерский уровень…
Впрочем, особых иллюзий насчет своего литературного дара он не питает. И мужественно признается в этом другому Нобелевскому лауреату – в последнем письме: «Помни, Миша, что я штатный кочегар и насчет заправки котлов был неплохой мастер. Ну, а литератор из меня хужее. Сие ремесло требует большого таланта. А «чего с горы не дано, того и в аптеке не купишь…»
Здесь он ошибся. Было дано… А может, и по-другому: сотворено. Сотворено собственной судьбой. Собственной жизнью. Собственной смертью. И последующим за всем этим бессмертием…
Однажды в Тарусе…
…родилось знаменитое стихотворение советской оттепели. Это «Физики и лирики» сегодня вполне забытого Бориса Слуцкого – одного из самых пронзительных и точных поэтов XX века. Соавтора незабвенных «Тарусских страниц», овеянных больше именами Цветаевой, Паустовского, Окуджавы, Казакова, Самойлова, Заболоцкого. Но почему-то – не философски драматичного, изысканно угловатого и лирически нервного Слуцкого. Того, кто как бы мимоходом в провинциальном калужском литературном альманахе блестяще зарифмовал смысл жизни, смысл времени… Но прежде с тарусских берегов Оки выступил с поэтическим «обращением к нации», стремительно удаляющейся из гуманитарных сфер в технические. Что-то она там обретет?..
Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы,
Что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья –
Наши сладенькие ямбы.
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони…
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне…
«Физики и лирики», – вспоминал впоследствии Борис Слуцкий, – не совсем мое, отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 года в лодке на Оке близ Тарусы, где с Таней мучились от жары и мух. Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно. Как космополит из «Крокодила», ругал литературу, своих тестей, Арбузова и Паустовского, а потом, разошедшись, до Л. Толстого включительно. Говорил о своем происхождении, о том, что «Таруса была наша», и т.п. Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю. А потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался. Что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте… Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом… Товарищи по ремеслу сперва отнеслись к «Физикам и лирикам» как к оскорблению профессии… Ругали горячо, зло… Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Ашукин включил название стихотворения в свой сборник «крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести».
Борис Слуцкий, скорее всего, ошибался насчет малой «крылатости» своих строк. Просто крылья его метафор и рифм не так просто было расправить и разогнать до обретения ими нужных подъемных сил. В тех же провинциальных «Тарусских страницах» размаха «крыльев» этих было вполне достаточно для высоконравственного поэтического полета.
Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять – и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат
К жизненному опыту
Не принадлежат.
(«Тарусские страницы», 1961 г.)
Если забыт нынче Слуцкий, то это – не его проблема. Это – наша беда. Экономящих время, экономящих честность, экономящих жалость…
Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши.
Вы, спички-палочки
(так это называлось).
Я вас жалел, а немцев не жалел.
За них душой нисколько не болел.
(«Тарусские страницы», 1961 г.)
Когда фронтовой советский офицер вдруг, как бы извиняясь, признается в том, что «не болел душой» за немцев – это странно. Но только – поначалу. Потом – больно за него, за насмотревшегося военных зверств и, тем не менее, сумевшего сломать в себе тотальную ненависть к врагу в лице пиликающего на гармошке перед неминуемой смертью пленного фрица.
Мне – что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно,
ни жарко!
Мне всех – не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
что на гармошке
вальс крутил.
(«Тарусские страницы», 1961 г.)
Если кто-то жизненный опыт собирает по крупицам, то Слуцкий – по осколкам: мин, снарядов, судеб, эпох… Оттого, видимо, так колючи с виду и нарочито угловаты его накрепко сбитые рифмы и выкованные из них стихи. От этого же, скорее всего, тяга Слуцкого к не менее тертому судьбой Николаю Заболоцкому, обретшемуся после тюрьмы в Тарусе. И, очевидно, сыгравшему не последнюю роль как в целеуказании ненадолго пришвартовавшегося к окским берегам поэта-фронтовика, так и подарившему литературное бессмертие захолустному городишке альманаху.



