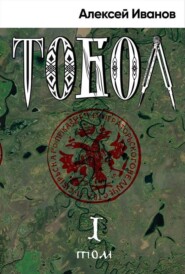
Полная версия:
Тобол. Том 1. Много званых
Табберт шёл через ворота вместе с другими пленными и озирался, разглядывая эти громадные и нелепые сооружения. На белёных стенах русские художники намалевали латинские девизы – ошибка на ошибке – и разные поучительные аллегории: уродливые шведские солдаты с маленькими пушечками, толстощёкие ангелы с трубами, смешные львы, грызущие свои хвосты, чудовищный орёл, на котором летел мелкий русский царь. Табберт думал: вместо колонн – брёвна, вместо мрамора – доски… Римский триумф, изображённый варварами. Русские – галлы. Великий народ, но варварский. И галлам никогда не стать римлянами, даже если они разрушат Рим.
А сейчас шум и брань позорного парада уже давно остались в прошлом, но шествие побеждённых всё продолжалось и продолжалось. Под ногами скрипел снег ледовой дороги, шуршали полозья саней, всхрапывали лошади, негромко переговаривались усталые люди, где-то вдали по густым лесам порой разносился почти призрачный шум от внезапного шевеления ветра. Табберту дышалось легко. Он приучился воспринимать голод как целебное благо, а потому чувствовал себя бодрым и уверенным.
По узкому зимнему тракту шагала сотня пленных шведов вперемешку с десятком русских солдат и десятком лошадей с санями. Длинная извилистая река, хмурые еловые кручи, тысяча вёрст без дорог и почти без жилья… Погибнуть здесь было куда проще, чем на поле Полтавы.
Берег по левую сторону поднимался всё выше и, наконец, встал отвесно, будто пробудился, высунув острый скальный выступ, как колено из-под одеяла. С излучины Табберт увидел, что весь берег – высокая гора, такая огромная, словно была создана для моря, а не для реки. Она обрывалась в реку протяжённой грядой косых разновеликих утёсов. Между их каменных клиньев в тушу горы глубоко вваливались лога, заросшие хвойной шерстью. Мороз освежевал растрескавшиеся стены, прокалил пятна лишайников до нервного багрянца, иссушил щетину травы в расщелинах. В глухой толще белёсых известняков чудилось какое-то стиснутое отчаянье, даже воздух замер неподвижными ударами жути. Казалось, тяжёлое небо само подбирает свой облачный испод, перебираясь через рубеж, обжигающий стужей.
Но Табберт заметил и другое. На вытертой плоскости камня у подножия одного утёса красной краской врассыпную были начертаны странные знаки: круги, стрелы, кресты, олени с рогами, человечки. Так рисуют дети. Табберт, щурясь, с дороги всматривался в эти каракули, а потом догнал старого солдата Савелия и взял его за рукав зипуна.
– Савелий, кто рисовать? – по-русски спросил Табберт и указал на скалу.
– Там, что ли? – удивился Савелий и пожал плечами. – Да не знаю я. Камень Писаный, значится, писали на нём. Всегда было.
Табберт отстал от русских, дожидаясь товарища – Юхана Густава Рената, артиллерийского офицера.
– Посмотрите, господин штык-юнкер, – заговорил он по-шведски. – Вы тоже видите эти непонятные изображения на скале?
В самом начале войны с русскими капитан Табберт несколько месяцев прослужил в гарнизоне Гётеборга – риксдаг опасался, что Дания высадит в порту Гётеборга десант. И здесь Табберт услышал о петроглифах викингов на древних валунах, что лежат в сосновых борах на склоне холма Танум. Когда появилась возможность, Табберт нанял проводника с лодкой и отправился мимо шхер Скагеррака к удивительному холму. Он нашёл эти валуны. На шершавых каменных лбах и вправду были высечены знаки – стрелы, кресты, человечки, лодки… Такие же, как здесь, – на богом забытой скале. Табберта глубоко взволновало это необъяснимое сходство.
– Мне нет дела до русских скал, – раздражённо пробурчал Ренат.
– Вам не случалось видеть письмена викингов на валунах Бохуслена? Готов биться об заклад, что эти линии чертила та же рука.
– Моя цель – выжить в этой проклятой стране, – глухо сказал Ренат. – А вы, господин капитан, не расходуйте себя на посторонние предметы.
Табберт понял, что Ренат замёрз и обессилел.
– Вы пали духом, господин штык-юнкер, – Табберт глядел на Рената внимательно и с сочувствием. – А ведь вы моложе меня. Возьмите, это поддержит вас до вечера.
Табберт расстегнул тулуп, достал из кармана сухарь и протянул Ренату. Пряча глаза, Ренат взял сухарь и сразу принялся грызть. Табберт усмехнулся, расстегнул камзол и вытащил из-за пазухи своё сокровище – тетрадь для записей и грифель. Бумагу и кусок графита ему подарил господин Пипер.
Эти петроглифы следовало зарисовать. Для чего? – Табберт ещё не придумал, но свидетельство о подобных удивительных изображениях когда-нибудь в будущем может оказаться очень ценным. Табберт сошёл с дороги, погрузился в снег и побрёл к скале, оставляя за собой борозду. Тетрадь он держал повыше, чтобы не замочить. Шведы и русские в изумлении оглядывались на безрассудного капитана фон Страленберга.
– Эй, шальной! – закричал Табберту солдат Савелий. – Ну-ка вернись!
– Да пёс с ним, – сказал солдат Юрка. – Жить захочет – догонит.
Глава 2
От бога ветер
В Сибири Юрку всё тяготило, и эта белая ночь с её обволакивающим жемчужным светом тоже казалась невыносимой. Юрка заворочался, сбросил с себя кафтан, поднялся и побрёл на корму дощаника. Там у длинной рукояти сопцового руля на обносном брусе боком сидел Ерофей и лузгал кедровые орешки. Юрка подобрал под лавкой берестяной ковшик, наклонился за борт, держась за становой трос от мачты-щеглы, и зачерпнул обской воды.
– Не могу спать, дядя Ерофей, – пожаловался он. – Измучился себя пристраивать. Свет этот негасимый прямо душу сосёт, глаза не закрыть.
– Лучше на полночном свету, чем в гнусе, – возразил Ерофей.
Спасаясь от гнуса, служилые люди ночевали в своём дощанике прямо на реке – на расстоянии от берега. Спустили райну и спали на парусе, растащив его по доскам подмёта на дне. Плечи и головы от света укрывали армяками и кожухами. Судёнышко стояло на якорнице, тихая вода изредка плескала в просмолённый борт. Перо руля безвольно вытянулось вниз по течению. Служилые храпели, Ерофей караулил. Это был ладный невысокий мужичок, на вид сразу хитрый и добродушный, по-детски большеротый, с плотной и короткой русой бородёнкой.
– Как вы живёте тут, дядя Ерофей? – страдальчески спросил Юрка. – Почто господь такую нелюдимую землю создал? Вечный день этот, мошка…
– Ну, не за всё бог виноват, – рассудительно заметил Ерофей. – Остяки, инородцы здешние, говорят, что гнус – это пепел ведьмы, которую сожгли заживо. Он от сатаны. А от бога – ветер.
Неоглядная Обь простиралась на три стороны и таяла в розово-голубом бессолнечном мареве. С четвёртой стороны виден был длинный невысокий берег, по которому ползла синеватая пелена – всё, что к рассвету осталось от остяцких костров-дымокуров. Из пелены торчали рогатые макушки чумов остяцкого селения Певлор, к которому и плыли служилые. Дощаник сидел в Оби как влитой и даже не отражался в воде. Её и видно-то не было, этой воды, – лишь вдали на неосязаемой плоскости реки вдруг зажигались пятна мягких отсветов и сразу исчезали. Пространство рассеивалось в тонкой и прозрачной пустоте, но влажно ощущалось в каждом вздохе.
– Ты сам-то откуда? – спросил Ерофей.
– Из Воронежа.
– А как в Берёзов занесло?
– Шведов привёл. Буду здесь куковать, пока с ума не сдвинусь.
В конце 1710 года турецкий султан объявил войну царю Петру, Дон оказался в опасности, и царю пришлось убрать оттуда тысячи шведских пленных, которые строили бастионы Азова и рубили корабли на верфях Воронежа. А с Кубани, где правил крымский хан, мятежные игнат-казаки грозили ударить по Волге, и царь приказал уводить пленников с адмиралтейских плотбищ Астрахани, из Саратова, Сызрани и Самары. К тому же в феврале 1711 года раскрылся заговор шведов в Свияжске. В общем, каролинов отправили подальше от соблазна бунта – в Сибирь.
Юрка думал, что они доведут шведов до Тобольска и вернутся в Россию. Не тут-то было. Тобольск был переполнен пленными. Обер-комендант Бибиков рассылал их по другим своим городам: в Берёзов и Тару, в Сургут и Нарым, в Томск, Иркутск и Братск, в Енисейск, Якутск и Селенгинск. У Бибикова не хватало тобольских служилых людей, чтобы конвоировать такую орду, и всех солдат, которые приходили с пленными, оставляли в Сибири. Вот так Юрка и угодил в Берёзов. На верфях в Воронеже ничего хорошего, конечно, он не видел, но там хоть ночи бывают, и теплее, и народу русского куда больше, и нет гнуса.
– Слышь, молодой, – окликнул задумавшегося Юрку Ерофей. – А что у вас там командиры говорят? У нас слух пустили, будто царь приказал всех наших служилых по-новому в солдатов перевёрстывать.
Ерофею было любопытно: что это за люди – солдаты? И чем их армия отличается от войска? Вдруг там лучше? Не дай бог, конечно. Обидно опять судьбу менять, ведь только-только устроился.
– Не знаю, – пробурчал Юрка. – Мне-то что?
– Не Петька-царь первым такое затевает. Не выйдет у него ни рожна, – уверенно заявил Ерофей.
Он спорил не с царём и не с Юркой, а сам с собой. Ему не хотелось, чтобы царь отменил служилых людей. Такое уже бывало. Дед рассказывал Ерофею, что давным-давно воевода Хилков хотел переделать служилых в рейтаров. Привёз из Москвы немецких полковников и полуполковников в бабьих платьях, привёз ружья на крюках и мушкетоны с жаграми и принялся учреждать полки «иноземного строя». Не вышло. Потом – об этом Ерофею рассказывал уже отец – за перетряску взялся воевода Годунов. Урезал жалованье ротмистрам и майорам, отменил хлебную выдачу и начал строить линию крепостей, чтобы охраняться от степняков. Служилые вроде как должны были жить в этих крепостях и сами себя кормить. Тоже не вышло.
– У нас в Берёзове служилому человеку по прибору воевода пять рублей в год платит, шесть четей ржи и столько же овса. А солдату сколько?
– Солдатам, дядя Ерофей, совсем не платят. Ты же лошади не платишь.
– Лошадь и не сбежит. А служилый человек, ежели ему не платить, уйдёт через год, когда урочный срок закончится.
– Не знаю, как у служилых, а нас в солдаты на всю жисть забривают. Удерёшь – поймают и повесят. При мне повесили одного. Служи, пока тебя полковник не спишет. А списывают по старости или калек. Разве не знаешь?
Ерофей не знал. Служилых людей, беломестных казаков и стрельцов он знал, а солдат – нет. Когда восемь лет назад воевода Черкасский объявил по городам Сибири набор рекрутов в Тобольский и Томский полки, Ерофей Быков по прозвищу Колоброд пропадал в туруханской тайге. Он считался «гулящим человеком», не приписанным ни к делу, ни к месту, и болтался от Мангазеи до Албазина. На Турухане он зверовал, но ушёл с промысла – слишком обдирали приказчики. Потом торговал с китайцами в Иркутске. Из Якутска плавал на кочах за моржом. Собирал ясак для воеводы Братска. Рыл серебряные жилы на Колывани. Последним его занятием был Бикатунский острог. Ерофей вступил в казённую артель: рубил лес, рыл канавы, ставил башни и частоколы. А потом с Алтайских гор спустились джунгары и напали на острог. Всё сожгли, многих зарубили, Ерофей еле ноги унёс. Приплёлся в Берёзов, и тут повезло: воевода Толбузин принял его к себе.
– Так вы навроде казаков? – спросил Юрка.
– Казаки при своей земле, а мы – свора воеводова. Куда пошлёт, туда несёмся. Казаки без жалованья, но и подати не платят, а мы на коште.
– Хорошо вам, – позавидовал Юрка.
– Да разве же? – усмехнулся Ерофей. – Я-то, дурень, сам думал к вам в солдаты наняться. Авось выберут каким-нибудь майором – заживу!
– В армии командиров не выбирают.
– Ладно, не помирай. Может, перелицуют вас в Сибири?
– Ага, жди, когда рак свистнет, – вздохнул Юрка.
– Что за рак? – не понял Ерофей.
– Ну, рак. Который в реке живёт. Такой вот, – Юрка скрючил пальцы, изображая рачьи клешни. – Клешни, панцирь, хвост, усы.
– Тьфу, пакость, – суеверно сплюнул Ерофей. – Никогда не видел. У нас в Сибири таких тварей нету.
– А что там за ладья плывёт? – вскинулся Юрка, глядя Ерофею за плечо.
Ерофей встревоженно повернулся. Вдали в ясной мгле, словно между небом и землёй, висела тёмная муха – другой дощаник под парусом.
– Кажись, знаю, кто это, – щурясь, сказал Ерофей. – Бухарцы.
– Кто такие?
– Проныры хуже твоих раков. Буди робят.
Ерофей положил ладонь на рукоять руля. Кроме Ерофея с Юркой, в дощанике было шестеро служилых Берёзовского острога и есаул Полтиныч, командир. Служилые, просыпаясь, зевали, крестили рты, с хрустом разгибали спины, черпали из-за борта и умывались. К Ерофею пробрался Полтиныч.
– Почему думаешь, что бухарцы? – спросил он.
– Со стрежня сошли, значит, хотят причалить к Певлору. А кому туда надобно, кроме бухарцев? Да и время ихнее – лето.
– Багры готовь, вёсла вынимай! – приказал Полтиныч служилым.
Служилые вытаскивали из-под лавок вёсла и вкладывали в уключины, роняя лопасти в воду. Безмятежная и невидимая гладь реки вмиг проявилась: подёрнулась кругами, зарябила, и стало ясно – вот синяя вода, вот синее небо. Полтиныч, работая локтями, вытянул со дна якорницу – многорукую корягу с привязанным камнем. Судёнышко закачалось. Не поднимая паруса, служилые вёслами с натугой погнали дощаник навстречу бухарцам.
– Никита, а кто это – бухарцы? – спросил Юрка у соседнего гребца.
– Торговцы сибирские. Басурмане. Мимо нашей казны скупают меха у остяков и в свою Бухару отсылают.
– Разве оно дозволено?
– Им можно, другим – по бороде.
– Почему?
– Отлезь, – раздражённо выдохнул Никита, налегая на весло.
– Точно – бухарцы, – сообщил Полтиныч. – Вижу Касымку.
Тобольские бухарцы, которых возглавлял Ходжа Касым, летом на судах объезжали становища инородцев на Оби ниже устья Иртыша и покупали пушнину. Лето – худшее время для торговли мехами, поэтому тобольский воевода – теперь обер-комендант – и разрешал такой промысел. Потом в Тобольске бухарцы сдавали соболей и песцов приказчикам Гостиного двора, те сортировали добычу, красной сучёной нитью увязывали шкурки в сорока, заливали узел сургучом, ставили печать и брали с Касыма пошлину.
Ходжа Касым сидел в кресле, крытом ковром, и вёл беседу с шейхом Аваз-Баки, который сидел напротив в таком же ковровом кресле. Шейх с семейством недавно переехал в Тобольск из Ургенча, чтобы руководить здесь новым мектебом – школой, открытой Ходжой. Касым хотел показать достопочтенному Аваз-Баки селения инородцев, так как инородцам скоро неизбежно придётся выбирать веру – Аллаху им поклониться или Христу. Но встреча со служилыми не сулила бухарцам ничего хорошего.
– Почему? – спросил шейх по-чагатайски. – Разве твои люди ведут себя недостойно? Или ты нарушаешь русский закон?
– Нет, мой господин, – ответил Касым. – Неприязнь к нам нужна русским для того, чтобы легче было притеснять моих работников. Сожалею, что тебе придётся стать свидетелем неучтивости, но это дикая страна.
Касым омыл лицо руками, соединив ладони под острой, ухоженной бородкой, встал и подошёл к борту дощаника.
Два судна сближались. Ерофей подруливал, четверо служилых гребли, а двое достали багры и готовились подцепить дощаник бухарцев. Полтиныч стоял возле носовой упруги и держал в руках лёгкий кованый якорь-кошку на тонкой снасти, чтобы забросить его, если багры не дотянутся.
– Касымка из Тобольска? – окликнул Полтиныч. – Не ошибся я?
– Ты не ошибся, добрый человек, – ответил Ходжа Касым по-русски. – А вы кто будете?
– Служилые люди воеводы Толбузина.
– Нынче положено говорить «коменданта Толбузина», мой друг, – вежливо уточнил Касым.
– Нынче положено говорить «давай, что взял, Касымка»!
Касым открыто стоял перед русскими – красивый, широкоплечий, в синем кафтане-чапане с затейливой вышивкой по рукавам, подпоясанный дорогим кушаком из красного шёлка. Голову Касым повязал небольшой походной чалмой из синего холста. Ветер пошевелил хвост чалмы.
– Я торгую по закону, уважаемый, – сдержанно сказал Касым.
– Здесь я закон, – самодовольно заявил Полтиныч.
Касым полез за пазуху и вытащил сложенный вчетверо лист.
– Господин обер-комендант милостиво приказал своему писцу снять для меня копию с указа царя Петра, в котором царь подтверждает давние права бухарцев на торговлю с остяками. Вот эта бумага, она с печатью.
– Предусмотрительный, стервец, – хмыкнул Ерофей.
Он с любопытством присматривался к бухарцам по привычке «гулящего человека»: не пригодится ли знакомство? Вроде крепкий хозяин Касым.
– Воевода Толбузин приказал мне по второму кругу остяков ободрать. По Оби Берёзовский уезд, не Тобольский, – ломал Касыма Полтиныч. – Твой хабар – это мой хабар. Я ведь и силком забрать могу.
– Это слова разбойника, а не воина. Они не коснулись моего слуха.
Гребцы-бухарцы не вынимали вёсел из воды, чтобы в случае нападения отталкивать дощаник русских. Один из гребцов незаметно вытащил из ножен на поясе кинжал и положил рядом с собой на скамейку. Рулевой бухарцев наматывал на кулак ремень. Аваз-Баки внимательно слушал, склонив голову в белой чалме. Два дощаника медленно двигались вниз по течению.
Полтиныч озадаченно покачивал в руках якорь-кошку на верёвке.
– Не поделишься, значит? – с угрозой спросил он. – Тогда я тебя дальше не пущу. Угребай восвояси.
– Я пожалуюсь на тебя в Тобольске обер-коменданту Бибикову.
– Да хоть Магомету, – ухмыльнулся Полтиныч.
– Вот этот благородный старец – шейх Аваз-Баки, – Касым указал на шейха. – Он привёз из Ургенча щедрые подарки для обер-коменданта. И обер-коменданту не понравится, что его гостя прогнали, как собаку.
– Не пужай, пужаные. А Певлор тебе не отдам. Это моя добыча.
Остяцкое селение Певлор лежало вдали на берегу, не догадываясь, что сейчас русские делят его с бухарцами.
– Хорошо, – сдержанно произнёс Ходжа Касым. – Будь по-твоему.
Касым оглянулся на своих гребцов и рулевого.
– Поверните парус, – приказал он по-чагатайски. – Мы возвращаемся.
Касым был взбешён, что его унизили при работниках и при шейхе, но не дрогнул лицом. Придёт время – и воевода Толбузин заплатит ему.
Дощаники начали потихоньку расходиться друг от друга.
– Ну и лады тогда, – с облегчением сказал Полтиныч и со стуком бросил кошку на дно. – Касымка всех остяков впереди уже обобрал, значит, мы тоже домой поедем. Вот только Певлор ещё обыщем. Руль на берег, Колоброд.
– У воеводы и без того сапоги сафьяновые, – рассудительно заметил служилый Никита, толкая весло.
Глава 3
Брать всё
Стёсанный на грань носовой брус дощаника, волнорез, корабельщики называли «лемех» – на ходу он как плуг вспарывал воду, отваливая её по обе стороны двумя пенными пластами. «Лемехом» дощаник с разгона проехал по мягкой отмели, поднимая донную муть, и волна от судна по мелководью побежала к берегу и хлопнула на приплёске. Служилые вытаскивали вёсла, перелезали через борт и спрыгивали в воду. Им было здесь по колено.
На берегу в траве, пробивающейся сквозь холодный северный песок, лежали лёгкие остяцкие лодки – похожие на сушёных тайменей калданки из бересты или смолёных шкур и вогнутые долблёные обласы. У воды валялись выброшенные рекой древесные стволы, обмытые до белизны, будто кости. На крестовинах из жердей висели сети с клочьями водорослей, рядом сохли огромные плетёные корзины – рыболовные морды. Остяки Певлора уже давно заметили на Оби русский парус и теперь ожидали пришельцев на покатом склоне берега. Их было человек сорок – два десятка мужиков в кожаных рубахах, чернокосые бабы в расшитых халатах и детишки.
Служилые не брали с собой ружей. Бунты инородцев остались в далёком прошлом, когда остяцкая княгиня Анна Пуртеева, злая вдова Игичея, сына князя Алачи, подбивала своего сына и своего внука на мятеж и рассылала по селениям краснопёрые стрелы, призывая всех к войне с русскими. Кода, городок княгини Анны, давно был разорён, и его пустырь уже зарос берёзами, хотя оставалась Кодская волость, где князьцами стояли потомки Анны и Алачи. В Певлоре молодой князь Пантила тоже был записан в воеводских ясачных книгах Алачеевым: он приходился свирепой старухе Анне прапрапраправнуком.
Пантила тоже встречал служилых.
– Еду надо? – сразу спросил он, хмуро вглядываясь в лицо есаула Полтиныча. – Муксун жарим, кровяной хлеб дам, порсу можно делать.
Пантила надеялся, что русские причалили только на горячий обед.
– Не обессудь, князь Пантила, мы приехали взять, что осталось, – усмехнулся Полтиныч. – Но пожрать не откажемся.
– Почему взять? Зачем взять? – рассердился Пантила.
– На подарок Агапону Иванычу боярину Толбузину.
Полтиныч уверенно шагал вверх по склону берега к селению. Пантила поспешил за есаулом. Служилые тоже шли к жилищам остяков, не обращая внимания на хозяев. Остяки взволнованно переговаривались по-хантыйски.
– Олень в горы Нум-То на тебенёвку ушёл – мы Толбузе ясак принесли! – взволнованно принялся объяснять Пантила. – Стерх по небу вернулся – мы «поминки» Толбузе принесли. Твои люди на реке туда-сюда всю зиму ездили – мы коней и быков давали, собак давали, сами в упряжках бегали! Нам нечего больше дать!
– Мы ж берём не то, что дают, – беззлобно ответил Полтиныч, не глядя на Алачеева. – Мы берём то, что есть.
– Ничего нет! Певлор бедный, Берёзов богатый! Толбуза сытый давно! Ему вместо пояса железную цепь надеть надо – у него брюхо дует!
– Агапон Иваныч ране был воевода, а теперича стал комендант, – снисходительно объяснил Полтиныч. – По нашему закону, Пантила, человека надо поздравить. Подарки ему дарить надо.
– Сам поздравляй!
– Я уже поздравил, – посмеиваясь, сказал Полтиныч. – Твоя очередь.
Полтиныч считал остяков глупыми, как детишки.
Селение Певлор располагалось на широкой опушке соснового бора, по-северному приземистого, но светлого. Три больших бревенчатых домины с толстыми крышами из дёрна казались по брови вкопанными в землю. Всюду торчали шесты с развешенной проветриваться зимней одеждой и гроздьями юколы – вяленой рыбы. Рядом с домами высились летние печки из камней, скреплённых глиной. Образуя околицу, выстроились чумы из шкур или бересты, и громоздились «костры» – составленные на просушку длинные лесины. Певлор, как сухопутный ковчег, был хорошо снаряжён для жизни на огромной и вечно холодной Оби, где зима в семь раз длиннее лета. Даже лабазы – хозяйственные избушки из колотых брёвен – стояли на столбиках-опорах, но не от медведей и росомах, как в тайге, а от собак.
У собак имелась своя деревня, выгороженная жердями, – с домиками, спальными ямами и с уличной печкой-дымокуром. Остяки считали собак особой породой людей: с собаками разговаривали как с равными, объясняли им жизнь и рассказывали сказки, чтобы они знали таёжных духов по именам. Мохнатые улыбчивые псины всегда толклись среди людей, но старались соблюдать правила общежития. Такая головастая зверюга могла разорвать волка, но терпела, когда ребёнок хватал за уши или трогал крепкие зубы.
Самостоятельными, как собаки, были и олени. Летом они уходили в леса на кормёжку, но время от времени всем стадом возвращались к Певлору и, путаясь рогами, забивались в большой щелястый сарай, выстроенный за околицей. Сарай остяки окуривали дымом, чтобы прогнать или выморить гнус. Всё большое селение людей, собак и оленей было затянуто пеленой дыма, как на пожаре. В небе шевелилось тусклое солнце, а предметы не отбрасывали тени. И казалось, что пожар в Певлоре разожгли русские.
Служилые обшаривали селение в недобром оживлении дурного дела: ходили везде, всюду заглядывали, всё хватали и рассматривали. Мужики-остяки стояли растерянные, как чужие. Бабы прижимали к себе ворохи тряпья и шкур. Старики безучастно сидели на бревенчатых колодах. Только детишки в кожаных рубашках, не понимая, что происходит, бегали меж людей и смеялись; в руках у них были игрушки – заячьи хвосты, куколки из связанных нитками щепок и погремушки из утиных клювов.
Служилый Никита растянул на просвет какую-то овчину.
– Всё проедено, одни дырья, – разочарованно вздохнул он.
Другой служилый рылся в расписном коробе, что стоял на летних нартах под лабазом. Ещё один – Терёха Мигунов – снял с головы старого остяка меховую шапку и нахлобучил ему свой суконный колпак.
– Носи! – улыбаясь, сказал Терёха. – От сердца оторвал!
Остяки не противились грабежу, даже мужчины. Остяки не понимали, как можно воровать или отнимать, ведь у каждой вещи, у самой последней рваной тряпки, есть свой дух, и он отомстит за хозяина. А вот русские легко брали чужое, и потому остякам казались колдунами. Откуда русские столько всего знают и умеют? Остяки смотрели на русских с суеверной опаской и отчаяньем. Вещей, конечно, им было жалко, но гнев отступал перед страхом.
Ерофею грабёж остяков был не особо интересен. Много ли получишь с тех, кого и так уже трижды ободрали? Ерофей приглядывался к хитростям остяцкой жизни: как остяки плетут из лозы ловушки на песца? как выгибают полозья лыж? как сушат юколу, распирая потрошёную рыбу прутиками? Ерофей долго стоял над глухой скрюченной старухой, которая, не обращая ни на что внимания, на коленях ползала у перевёрнутой берестяной лодки и сшивала полосы варёной бересты костяной иглой с оленьими жилами.

