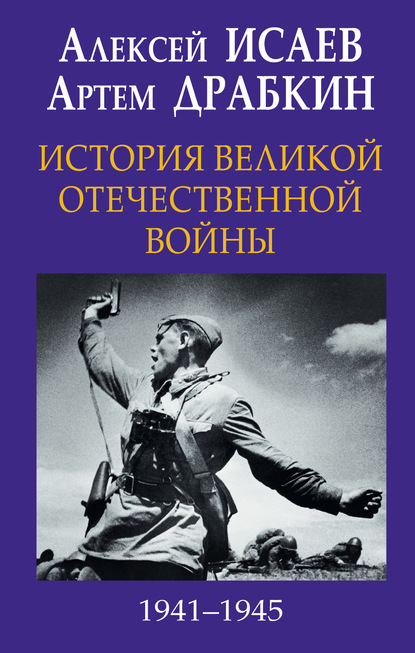
Полная версия:
История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в одном томе
Ошибкой Великобритании и Франции было нежелание рассматривать ситуацию «от войны». Именно это предопределило развитие событий как за столом переговоров в августе, так и на поле боя в сентябре 1939 г. Советский Союз, напротив, с самого начала отстаивал позицию «от войны», но не был услышан. В итоге Сталин оказался перед выбором условий вступления в мировую войну. Для Москвы пакт Молотова – Риббентропа в военном отношении стал тем же, чем для Лондона был Мюнхенский договор – минимум годичной паузой на подготовку страны к войне. В любом случае рассматривать этот документ как поворотный пункт европейской политики накануне Второй мировой нельзя, поскольку он определял лишь условия и сроки вступления в войну самого СССР. Все прочие события развивались именно так, как их определяли правительства остальных ведущих европейских держав.
Заключая договор с Гитлером, Сталин никак не мог предвидеть, что будущая Большая война пойдет по совсем иному сценарию, чем он предполагал. Советский лидер, например, совсем не ожидал, что в мае 1940 г. случится катастрофа Дюнкерка и Франция, которая в Первую мировую почти четыре года успешно держала Западный фронт, капитулирует перед Гитлером всего через полтора месяца после начала активной фазы боевых действий. Конечно, пакт Молотова – Риббентропа был циничной сделкой с дьяволом ради интересов нашей страны. Однако дальнейший ход событий показал, что эта сделка для нас все-таки была оправданной.
Начало Второй мировой войны
В разгоревшейся 1 сентября 1939 г. Второй мировой войне очень быстро вскрылись те пробелы в планировании, которые обнаружились еще на переговорах в Москве. Осмысленной коалиционной стратегии, четкого плана действий у западных союзников и Польши просто не существовало. Более того, было потрачено время на совершенно бесполезный ультиматум Гитлеру. Война Германии была объявлена Великобританией и Францией только 3 сентября. Импровизированное наступление французской армии в Сааре уже ни на что повлиять не могло. Даже применение авиации было ограниченным. Страх бомбардировок, оказавший негативное влияние на решения Чемберлена в 1938 г., еще присутствовал, поэтому британцы не спешили бросать в бой свои Королевские ВВС – они могли пригодиться им самим для защиты метрополии. Все это сделало коллапс Польши столь стремительным, что Польская кампания вермахта получила впоследствии название «рождение блицкрига». Рецепт успеха был достаточно прост: против Польши были сосредоточены превосходящие силы немецких войск, а на Западном фронте оставлен лишь относительно слабый заслон.
Ни пакт Молотова – Риббентропа, ни даже секретный дополнительный протокол к нему не накладывали на Советский Союз никаких обязательств, касающихся вторжения в Польшу с целью помощи немецким войскам. Сроки вступления войск в районы к востоку от советско-германской демаркационной линии также никак не оговаривались. Секретный дополнительный протокол вообще не содержал никаких уточнений относительно необходимости использовать вооруженные силы. Когда 8 сентября последовало сообщение о выходе танков вермахта к Варшаве, на следующий день командованием Красной армии были подготовлены приказы войскам Белорусского и Киевского военных округов «к исходу 11 сентября 1939 г. скрытно сосредоточить и быть готовым к решительному наступлению с целью молниеносным ударом разгромить противостоящие войска противника». Однако сообщение о захвате польской столицы оказалось преждевременным. В этих условиях ввод войск в «сферу влияния» СССР был отложен.
Советское руководство терпеливо ждало финала драмы. 6 сентября правительство Польши перебралось из Варшавы в Люблин, оттуда 9 сентября оно выехало в Кременец, а 13 сентября – в Залещики, город у границы с Румынией. В ночь на 18 сентября польское правительство покинуло пределы своей страны. Впрочем, с точки зрения принятия советской стороной решения о вводе войск конкретная дата перехода польским правительством границы с Румынией значения не имеет. Части Красной армии получили приказ о наступлении еще 14 сентября. Однако немцы уже продвинулись далеко на восток, вышли к Бресту и Львову. В 4 часа 20 минут утра 15 сентября Военный совет Белорусского фронта издал боевой приказ № 01, в котором говорилось, что «белорусский, украинский и польский народы истекают кровью <…> Армии Белорусского фронта с рассветом 17 сентября 1939 г. переходят в наступление с задачей – содействовать восставшим рабочим и крестьянам Белоруссии и Польши в свержении ига помещиков и капиталистов и не допустить захвата территории Западной Белоруссии Германией. Ближайшая задача фронта – уничтожать и пленить вооруженные силы Польши, действующие восточнее литовской границы и линии Гродно – Кобрин».
17 сентября Красная армия вступила на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Ни о каком ударе в спину уже не было речи. Польская армия была разгромлена, и даже без советского вторжения она в лучшем случае продержалась бы неделю. Сопротивления продвигающимся на запад советским танковым бригадам и стрелковым дивизиям практически не оказывалось. После нескольких дней маршей и вялых стычек с деморализованными частями Войска польского Красная армия вошла в соприкосновение с дивизиями вермахта. В Бресте состоялся даже торжественный вывод немецких войск и передача города советским войскам, в котором участвовали подразделения 29-й танковой бригады комбрига С. М. Кривошеина. Под контроль СССР перешла территория площадью 196 тысяч квадратных километров (50,4 % территории Польши) с населением около 13 миллионов человек, практически полностью находящаяся в границах так называемой линии Керзона, рекомендованной Антантой в качестве восточной границы Польши в 1918 г. Территория Виленского края вместе с Вильно была передана Литве согласно «Договору о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», подписанному 10 октября 1939 г. В ноябре 39-го территории Западной Украины и Западной Белоруссии, после организованного при участии советской стороны «народного волеизъявления», были «воссоединены» с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками.
Реакция Запада на вступление Красной армии в Польшу была достаточно осторожной. Когда польский посол Рачиньский обратился к Галифаксу с вопросом, почему Великобритания не объявит войну Советскому Союзу в соответствии с польско-английским договором, тот ответил: «Что касается советской агрессии, мы свободны в принятии нашего собственного решения и решить, объявить ли войну СССР или нет». В меморандуме для военного кабинета, подготовленном Уинстоном Черчиллем 25 сентября, указывалось: «Хотя русские повинны в грубейшем вероломстве во время недавних переговоров, однако требование маршала Ворошилова, в соответствии с которым русские армии, если бы они были союзниками Польши, должны были бы занять Вильнюс и Львов, было вполне целесообразным военным требованием. Его отвергла Польша, доводы которой, несмотря на всю их естественность, нельзя считать удовлетворительными в свете настоящих событий. В результате Россия заняла, как враг Польши, те же самые позиции, какие она могла бы занять как весьма сомнительный и подозреваемый друг. Разница фактически не так велика, как могло показаться. Русские мобилизовали очень большие силы и показали, что они в состоянии быстро и далеко продвинуться от своих довоенных позиций. Сейчас они граничат с Германией, и последняя совершенно лишена возможности обнажить Восточный фронт. Для наблюдения за ним придется оставить крупную германскую армию. Насколько мне известно, генерал Гамелен определяет ее численность по меньшей мере в 20 дивизий, но их вполне может быть 25, и даже больше. Поэтому Восточный фронт потенциально существует».
Бои на Халхин-Голе
В конце июля – начале августа 1939 г. разгорелся пограничный конфликт между Советским Союзом и Японией в районе озера Хасан в Приморском крае. Основной причиной конфликта была неопределенность линии границы в практически безориентирной пустынно-степной местности на востоке Монголии между Монгольской Народной Республикой и марионеточным государством Маньчжоу-Го, образованном японской военной администрацией на оккупированной территории Маньчжурии. Командование японской Квантунской армии и правительство Маньчжоу-Го считали, что линия границы проходит по реке Халхин-Гол. В свою очередь, монгольское руководство исходило из начертания границы восточнее реки, к востоку от небольшой деревни Номонган. Разночтения приводили к пограничным стычкам, которые начались задолго до 39-го года. Ни та, ни другая сторона не была настроена решить проблему границы дипломатическим путем.
Две захваченные японцами высоты были отбиты войсками Дальневосточного фронта под командованием В. К. Блюхера. Однако по мнению штаба японской армии Советский Союз не сумел показать на Хасане ни тактических новинок, ни искусства в развертывании войск, что подтверждало мнение разведки Квантунской армии о том, что чистки очень неблагоприятно сказались на боеспособности Красной армии. Как следствие, в начале 1939 г. штаб Квантунской армии принял более агрессивные правила применения вооруженной силы, направленные на сокрушение любых попыток СССР проникнуть на маньчжурскую территорию. В итоге в мае 1939-го цепочка пограничных инцидентов переросла в боевые действия с участием частей регулярной армии сторон и советских войск (у Монголии с 1936 г. был договор с СССР о взаимопомощи).
С середины мая на Халхин-Голе развернулись бои с использованием бронетехники, артиллерии и авиации. Правда, численность вовлеченных в боевые действия войск на тот момент не превышала нескольких тысяч человек. Решительного результата ни одной из сторон добиться не удалось, однако японская авиация быстро и уверенно завоевала господство в воздухе. Японские пилоты-истребители обладали опытом в воздушных боях в Китае, и советские летчики в Монголии не могли им противостоять на равных.
Неоднозначные результаты первых боев заставили советское руководство принимать срочные меры. Уже 29 мая из Москвы самолетами в район конфликта отправились лучшие авиаспециалисты и опытные летчики (в том числе 11 Героев Советского Союза) во главе с начальником ВВС Красной армии комкором Я. В. Смушкевичем. Также на Халхин-Гол был направлен Г. К. Жуков. Первоначально он направлялся в качестве наблюдателя, но уже в начале июня занял место командира 57-го особого корпуса. Вскоре корпус был переименован в 1-ю армейскую группу.
В середине июня 1939 г. японское командование спланировало наступательную операцию с целью разгрома советских и монгольских войск. План предусматривал переправу через реку и выход по западному берегу в тыл монголо-советской группировке на восточном берегу Халхин-Гола. Предполагалось, что для реализации этого плана достаточно будет одной усиленной танками и артиллерией дивизии. Общее руководство операцией поручалось генералу Комацубаре.
В течение июня стороны накапливали силы и вели воздушную войну. К началу июля советские ВВС завоевали качественное и количественное превосходство в воздухе, доведя свою авиационную группировку до 280 самолетов, в основном новых типов. Японские ВВС на Халхин-Голе к началу боев насчитывали около 100–110 машин.
Японское наступление началось 1 июля 1939 г. с захвата господствующих высот примерно в 20 километрах к северу от занимаемого советскими и монгольскими войсками плацдарма. 2 июля были захвачены переправа через реку Халхин-Гол и высоты Баин-Цаган на ее западном берегу. Однако переправочные средства японцев не позволили им переправить танки, и последние участвовали только в сковывающих атаках на советско-монгольский плацдарм. Тем не менее наступление в тыл главным силам 57-го корпуса могло привести к самой настоящей катастрофе. Реакция Г. К. Жукова была незамедлительной – высоты Баин-Цаган были атакованы танками. Контрудар готовился в большой спешке, танки и бронеавтомобили вступали в бой с ходу, без предварительной подготовки и поддержки пехоты. Однако обстановка требовала нанести удар по японцам как можно скорее. В итоге из 133 танков и 59 бронемашин, задействованных в контрударе, было потеряно 77 танков и 37 бронемашин. Несмотря на потери, наступление противника застопорилось: японская пехота не успела выйти в тыл советским войскам на восточном берегу Халхин-Гола. Вскоре японцы были вынуждены эвакуировать свой плацдарм под ударами танков и артиллерии.
Потерпев неудачу в обходном маневре, японское командование предприняло несколько попыток выбить советско-монгольские войска с восточного берега Халхин-Гола лобовыми ударами. Теперь ставка была сделана на артиллерию. Также в этот период усилились японские ВВС в районе конфликта, их численность возросла до 150 машин. Особенно сильными были атаки 23–25 июля, когда по советским позициям было выпущено 25 тысяч снарядов. Однако ответный огонь советской артиллерии был даже более интенсивным, и все атаки японской пехоты успеха не имели. Потеряв в боях с конца мая по 25 июля свыше 5 тысяч человек убитыми и ранеными, японские войска перешли к обороне. В свою очередь, советское наступление, предпринятое в начале августа, также успеха не имело. В последующие дни обе стороны накапливали силы и готовились к новым наступательным действиям.
К 20 августа 1939 г. войска 1-й армейской группы насчитывали около 50 тысяч человек, 530 самолетов, 438 танков и 385 бронеавтомобилей. Японские войска на Халхин-Голе на тот момент насчитывали около 30 тысяч человек, объединенных управлением 6-й армии. Поддержку с воздуха им обеспечивало около 200 самолетов. Японское наступление было назначено на 24 августа. На этот раз предполагалось обойти и смять правый фланг советско-монгольских войск и прижать их к болотистой реке Хайластын-Гол, притоку Халхин-Гола.
Однако этим планам не суждено было реализоваться. В 6 часов 15 минут утра 20 августа 1939 г. по позициям японцев был нанесен мощный удар советской артиллерии и авиации, а в 9 часов началась атака пехоты по всему фронту. Замысел советского наступления представлял собой «классические канны» – так в военной науке называют операцию на окружение со сковыванием противника в центре и ударами на флангах по сходящимся направлениям. С этой целью основная масса танков и бронемашин была сосредоточена на флангах, в северной и южной группировках советских войск.
«Изюминкой» подготовленной Жуковым операции была быстрота сосредоточения ударных группировок. И северная, и южная ударные группировки переправились на западный берег Халхин-Гола только в ночь на 19 августа. Тем самым была обеспечена внезапность удара утром 20 августа. До 19 августа на восточном берегу реки находились только хорошо знакомые японцам по июльским боям стрелковые части и монгольская конница.
Советское наступление действительно оказалось абсолютно неожиданным для японцев. Их разведка полагала, что атаками в начале августа наступления советской стороны ограничатся. Японские аналитики также отказывались верить в возможность снабжения крупной группировки войск в столь удаленном районе. Однако командованию 1-й армейской группы удалось решить все проблемы снабжения войск для крупной наступательной операции. Наступление танков и пехоты развивалось стремительно. Уже к вечеру 23 августа окружение японской группировки было завершено. Бои с окруженными японскими частями продолжались до конца августа 1939 г., а к 31 августа их сопротивление было окончательно сломлено.
Перемирие было объявлено 16 сентября 1939 г. Считается, что память о поражении на Халхин-Голе стала одним из факторов, помешавших Японии вступить в войну с Советским Союзом на стороне Третьего рейха в 1941 г. Для СССР этот конфликт был войной ограниченных масштабов, для победы в которой большая страна задействовала немалые ресурсы. На Халхин-Гол направили лучших летчиков, самолеты, большое количество боеприпасов всех типов. Все это позволило добиться впечатляющего успеха. Однако в грядущей Великой Отечественной войне ни одна советская армия на фронте не могла рассчитывать на такое внимание, какое было уделено 1-й армейской группе на Халхин-Голе.
Советско-финская война 1939–1940 гг
В конце 1939 г. начался вооруженный конфликт между Советским Союзом и Финляндией, известный также как «зимняя война». Конфликт возник после провала переговоров об изменении границы двух государств, начатых еще в 1938-м. Москва предлагала Хельсинки обмен территорий на Карельском перешейке на подступах к Ленинграду на обширные пространства Карелии и возмещение стоимости оставляемой финскими гражданами собственности. Финляндию этот территориальный обмен не устраивал, в том числе из-за потери строившихся в 1920–1930 гг. на Карельском перешейке между Финским заливом и Ладожским озером укреплений так называемой линии Маннергейма, предназначенной для сдерживания возможного вторжения со стороны советского соседа. При этом сам фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм отзывался о ней в весьма сдержанных тонах: «Ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Эту позицию народ и назвал линией Маннергейма. Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений».
Переговоры зашли в тупик, и 30 ноября 1939 г. Красная армия вступила на территорию Финляндии. В свою очередь, финские вооруженные силы уже успели отмобилизоваться и были почти полностью готовы к отражению агрессии. Советские войска вели наступление на нескольких направлениях: на Карельском перешейке, в пространстве между Ладожским и Онежским озерами, в Карелии и на Севере. По всему фронту 425 тысячам бойцов Красной армии противостояло 265 тысяч финских военнослужащих. Несмотря на массированное использование бронетехники, штурм линии Маннергейма в декабре потерпел неудачу. Причиной этого стали плохое взаимодействие родов войск Красной армии и неподготовленность бойцов к штурмовым действиям в атаках финских ДОТов – долговременных огневых точек. Многочисленные советские легкие танки с тонкой броней несли большие потери от огня противотанковой артиллерии противника. Вместе с тем танковые атаки финнов и их попытка контрнаступления провалились.
Если на Карельском перешейке Красная армия потерпела неудачу, то в пространстве между Ладожским и Онежским озерами и в Карелии наступление обернулось рядом катастроф. Пользуясь пассивностью командиров частей и недостаточным вниманием к защите тыловых коммуникаций, финны с помощью лыжных отрядов перехватили линии снабжения нескольких советских дивизий и фактически окружили их. Наступившие в январе 1940 г. жестокие морозы усугубили трагедию окруженных и привели к большим потерям. Лейтенант М. И. Лукинов вспоминал: «Мы стали подходить непосредственно к фронту. Первое, что нас поразило, – это неубранные замерзшие трупы наших солдат и офицеров, уже запорошенные снегом. Они лежали там, где их застала смерть, в самых разных позах». Фотографии многочисленных трофеев, доставшихся финским войскам, обошли страницы мировой прессы и нанесли большой урон репутации Красной армии. Впоследствии негативный опыт войны с Финляндией заставил советское военное руководство обратить более серьезное внимание на вопросы боевой подготовки войск и ведения боевых действий в зимних условиях.
Оперативная пауза в период сильных морозов в январе 1940-го была использована советским командованием для накопления сил, разведки укреплений линии Маннергейма и разрушения ее укреплений огнем артиллерии большой мощности. Приведение к молчанию большинства ДОТов, преграждавших дороги в глубь Карельского перешейка, позволило Красной армии 11 февраля начать новое наступление, которое завершилось прорывом линии Маннергейма на выборгском и кексгольмском направлениях. Потеря линии укреплений и истощение резервов заставило правительство Финляндии пойти на переговоры с руководством Советского Союза. 12 марта в Москве был подписан мирный договор, согласно которому боевые действия на советско-финском фронте прекращались на следующий день в ровно в полдень по московскому времени. Доброволец Г. В. Прусаков вспоминал: «По подразделениям, по цепочкам, по личному составу была команда – в 12 часов 13 марта должен быть прекращен огонь. И утром такая канонада была – как с нашей, так и с финской стороны! Лупили как могли. В 12 часов – муха пролети, слышно было бы. Ни одного выстрела. Мертвая тишина. Даже не верится, что так могло быть».
По мирному договору Советскому Союзу отходили территории на Карельском перешейке со вторым по величине городом Финляндии – Выборгом – и ряд островов в Финском заливе. Также СССР получал в аренду на тридцать лет военно-морскую базу в Ханко. 430 тысяч финнов были вынуждены оставить свои дома и переселиться в глубь страны. Когда накануне подписания договора глава финской делегации Юхо Кусти Паасикиви завел речь о компенсации за передаваемую территорию, Молотов, вспомнив, что по Ништадтскому миру 1721 г. Россия заплатила Швеции два миллиона серебряных талеров, ответил: «Пишите письмо Петру Великому. Если он прикажет, то мы заплатим компенсацию».
Безвозвратные потери Красной армии в Советско-финской войне составили почти 127 тысяч человек. Финны потеряли убитыми и пропавшими без вести в пять с половиной раз меньше – около 23 тысяч солдат. Не менее сильным был и удар по престижу Советского Союза на международной арене. Как отмечал известный немецкий военный историк, бывший генерал вермахта Курт фон Типпельскирх, «во всем мире сложилось неблагоприятное мнение относительно боеспособности Красной армии. Несомненно, впоследствии это оказало значительное влияние на решение Гитлера (напасть на Советский Союз. – Прим. авт.)».
Реформирование и перевооружение Красной армии
Первым шагом руководства Советского Союза сразу по окончании войны с Финляндией стало реформирование структуры Красной армии. Размер советских вооруженных сил вырос с полутора миллионов человек в августе 1939 г. до 5 миллионов к июню 41-го. Приграничные дивизии содержались в штате, составлявшем примерно 70 % от численности военного времени, а дивизии в глубине страны – около 30 % от штата военного времени. В танковых войсках от бригад 1930-х гг. перешли к более сбалансированным соединениям – дивизиям, объединявшим в единое целое танки, моторизованную пехоту и артиллерию. Правда, в этом процессе не обошлось без перегибов: весной 41-го из стрелковых дивизий и корпусов изъяли легкие танки поддержки пехоты, тем самым оставив их без штатных танковых частей и породив массу формально механизированных, но неспособных к самостоятельным действиям соединений. 5 мая на выступлении перед выпускниками военных училищ Сталин с гордостью говорил: «Раньше существовало 120 дивизий в Красной армии. Теперь у нас в составе армии 300 дивизий. Из общего числа дивизий третья часть – механизированные дивизии».
Другим важным шагом советского правительства в рамках реформирования армии была модернизация военной промышленности. В 1930-е гг. СССР строил свою оборонную промышленность практически с нуля и крайне нуждался в новых станках, материалах и технологиях. Однако из-за войны с Финляндией Страна Советов оказалась в международной изоляции, и только торгово-экономическое сотрудничество с Германией позволило приобрести крайне необходимые материалы, оборудование и технологии, недоступные в то время на других рынках, в обмен на поставки некоторых видов сырья. Закупленные у немцев оборудование и новейшие образцы вооружения способствовали интенсивному развитию советской военной промышленности. К примеру, самая массовая противотанковая пушка Красной армии, знаменитая «сорокапятка», была усовершенствованным отечественными конструкторами орудием фирмы «Рейнметалл-Борзиг» («Rheinmetall-Borsig» AG). Авиационный двигатель М-17 являлся не чем иным, как лицензионным авиадвигателем BMW VI, 203-миллиметровые снаряды на головы солдат рвущейся к Ленинграду немецкой группы армий «Север» обрушивал тяжелый крейсер («карманный линкор») «Петропавловск» – бывший «Лютцов» («Lützow»), заложенный в 1937 г. на верфи в Бремене и в феврале 1940-го купленный у Третьего рейха. Немецкие станки использовались при производстве новейших советских средних танков Т-34—76.
Приоритетной областью расхода советских бюджетных средств стала авиапромышленность. В 1940 г. ассигнования на ее развитие составили 40 % от всего военного бюджета СССР. Уже к осени советские авиазаводы, перейдя на режим работы военного времени, перескочили «немецкий рубеж» – 25 самолетов в день – и выпускали до 70—100 самолетов в сутки. Аналогичные процессы шли и в других отраслях. 1940 г. стал знаковым в перевооружении танковых войск, вместо танков с противопульной броней и батальонными (серии БТ, Т-26) или полковыми (Т-28) пушками в производство пошли танки с противоснарядным бронированием и пушками дивизионного класса (средний Т-34—76 и тяжелые КВ-1 и КВ-2). Зима 1941-го стала финалом в выпуске артиллерийских систем, доставшихся Советскому Союзу в наследство от Российской империи, – 122- и 152-миллиметровых гаубиц, созданных еще до Первой мировой войны и модернизированных в начале 30-х гг. Их место на конвейерах заняли орудия образца 1938 г. Опыт «зимней войны» с Финляндией заставил советское военное руководство пересмотреть свои взгляды на пистолеты-пулеметы как дорогое оружие сомнительной эффективности. Было восстановлено свернутое в 1939 г. производство 7,62-миллиметровых пистолетов-пулеметов конструкции В. А. Дегтярева, и к июню 1941-го в дивизиях приграничных армий их количество исчислялось уже сотнями штук, тем самым вплотную приближаясь к штату дивизий вермахта – один пистолет-пулемет на вооружении командира отделения пехотинцев. Также на вооружении советских войск состояла самозарядная винтовка СВТ – оружие, не имевшее аналогов в немецкой армии. В то же время в перевооружении Красной армии были и слабые места. К примеру, производство технологически сложных зенитных автоматических пушек калибра 37 миллиметров, являвшихся незаменимым средством борьбы с авиацией противника, промышленность СССР освоила только в 1939–1940 гг.



