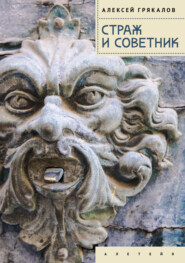
Полная версия:
Страж и Советник. Роман-свидетель
Розанов бы хорошим советчиком был и у Жириновского, и у коммунистов, правда, до поры до времени. И у верующих был бы своим, под случай даже и у безбожников. Поэтому утяжелить нужно слова, девушка-библиотекарша приставлена ко мне временным предписаньем. Совсем по-розановски голос дала аромату из чашки, бурому тростниковому сахарку и невнятному потоку слов, что я вслух произнес. Противятся вещи, настигнет голод, страх повсеместен – тела не могут разрастаться до бесконечности и не могут скукоживаться в литоту.
Измена, измена, измена – тут, по-моему, какая-то сплошь измена. Зрадник батькищины? – хохол из делегации слова нашел, видит, что понимаю мову.
Давно знакомые лица и выражения лиц, примиренных трапезой.
А где нет измены?
Розанова нигде среди всех не видно.
Кондиционеры над головами гоняли воздух, повседневность рассеяла розановские переживания, где легко играли тела, любовь и свобода.
Как быть?
Вслед зверобойству пришло человекобойство – Розанов хотел окоротить скорости, ведь роднят только пол и кровность. Но и разделяют страшные столкновения на почве расы, нации, крови и веры. И человеческое более всего предстает на пределе, где страшно приближена апокалиптичность. Розанов как бы возвращает мысль к переживанию жизни – так скажу Президенту.
Где больше всего энергия? – в сфере пола.
Эстетика нужна – движение по следу, у древних греков эстезис означал просто звериный след. Идти по следу, распознавать отпечаток, устанавливать нравы и расшифровывать заячьи или лисьи узоры. Волчары ступают след в след, сотрудники наружного наблюдения тоже с волчьей повадкой. А либерал-нарушитель через контрольно-следовую полосу идет вперед пятками, да еще неразумную детвору вперед вышлет.
Сбивает, сбивает каждый со следа, хочет неузнанности и неуязвимости.
Существованье – сила, чтоб преследовать и ускользать, хитрость и ум, прорыта волчицей дыра в крыше овчарни, петушок в лапах у лиски, обглоданы голодным зайчишкой стволы саженца. И нумизматы суть последние следователи, а спецслужбы суть последние слуги палеографии – восторг осязательный знаком каждому, кто расшифрует коварный след. Монета – металлическое зеркало древнего мира, монеты – зеркала, тут охота, движенье по следу, но есть немножко и магии. Нумизматика есть немножко древнее жертвоприношение, последнее оставшееся нам.
А икона не только умозрение в красках, а самый знающий информатор, только надо знать шифр. В древе жизни пульсирует внутренняя энергия – в государстве своя сила, нет другого способа сохранить. Все дело в силе, без которой нет жизни. И ориентировка – экфразис, только вместо описания картины художника, представлена картина поиска и погони. Почему в России так хорошо могли описать человека? – фотографии не было, а спецслужбы всегда.
Тут микроскоп, тут же и телескоп. Тут вещи и тела сочетаются браком со свободой и эросом, воля волит, а либидо либидит.
– А как немец хохлушку-женушку звал? Которая доклад делала про любовницу Достоевского? На ней Розанов потом женился? – Президент заинтересовался рассказом о конференции.
– Либишка!
– Libischka?
Немец либишке-дружечке по округлое плечико, не говорил по-русски, она по-немецки знала и ненавидела три слова.
Verboten!
Sparen!
Nur für!
Приспособленье тел к языку-язычку, слова к объятьицу.
– Запрещено! Продается со скидкой! Только для!
– Так он ее назвал либишка?
– С большой буквы!
– В немецком все существительные с большой.
Lieben – любить, Liebe – любовь, грубое verloben – не для воркующей пары.
Монета-либишка на древний лад, перебирать словца нумизматично.
Нужны новые люди.
А где их взять?
Запущенность, запущенность, – Розанов на подмогу, – заброшенность человеческого сада, сокрушался, что ни о ягодке не говорят, ни о борозде. Как будто Россия не была никогда садовою и земледельческою страною – будто даже расположена не на почве, а висела в воздухе. А что крестьянину до обедни, когда у него на огороде чертополох растет? Выродившийся сад, нужен инстинкт садоводства, нужны наставники, нужен университет садоводства, которым воспользовалось бы государство. Так было бы, если бы имело у себя когда-нибудь Конфуция или Лаодзы в наставниках. Но имело, увы, только мистического философа Сковороду.
И это Президент знает.
А в кафе Думы изобилие и благодать.
Что не дает свершаться утверждению? – отсутствие героического человека. Не скажу Президенту, может, он думает, что он герой. А смертельная болезнь европейская нигилизм поражает всех.
Кто восстанет? – жизнь восстает.
Телá, эх, цыганщинка да страстишки!
Прощанье славянки – любимый марш спецслужб, чтоб вернуться.
Ах, так вот отчего бывают святые – солнце! Венчик на голове, венчик на голове: какой инстинкт заставил всех людей, все народы, все религии окружить головы своих любимых – солнцем. Иначе, жизнь как в балагане. Вот отчего болезнь – жизнь в балагане, в хороводе дурацком, где так прирастают маски, что не отодрать. И сам о своей жизни балаганной под конец встосковал: оттого-то вся жизнь прошла с полной бесплодностью для себя и для окружающих, что в детстве слушал, как молоденький портной детям рассказывал сказки! Потом уже, поступив в гимназию, зачитывался Розанов сказками братьев Гримм. И, наконец, перешел к философии, но и ее понимал, как сказку о мире, которая просто наиболее нравилась.
Отчаяние.
Ни философом, ни ученым, ни политиком такой русский народ не станет.
Президент в юности любил фильм о героях спецслужб? Возненавидел навсегда удержание.
Философы тут особенно не нужны, а ученым надо платить. И политиков много не надо – одного хватит. Но что одному остается? Композитор-немец, чтоб быть выше всех, продал душу хвостатому. И был наказан мгновенно – где ближе всего смерть? – там, где любовь. А где ближе всего ад? – там, где отделен от всех. Каждый носит свой ад с собой. Простейшее наказанье невыносимое – никого не может любить. И все, что приближались к продавшему душу с любовью, гибнут.
Значит, надо создать воображаемый мир – для этого меня выманили из уединения между диковатым названием Выра и просветленным Рождествено? Личный апокалипсис – конец света каждый носит с собой. Не думает же Президент, что часть его ноши я смогу взвалить на свой нажитый в библиотеках горб? Призраки при зраках топочут, козлёкают бунинской рыбкой, гомонят рядом, – не уныния, ни печали, ни сожалений. И я призрак при зраке?
Пастушок-свидетель – вот коршун над цыплятами круги нарезает, сейчас сложит крылья и вонзит когти, вот лис подбирается к зазевавшемуся петушку, а друзья – Кот и Дрозд остались далеко в сказке. Вот чужие эйдосы пробираются прямо в зрак, чтоб смотрение исказить.
Зачем мне?
Сейчас за окном редкое сентябрьское солнце, на подоконнике монстрец из глины, купленный у хмельной вырицкой бабы, – вместо свиста только шипенье, запах ядовитых красителей не выветривался уже третью весну. Книги справа и слева – хватит отшельнического зрака. И почти невыносимо много у меня собственных призраков.
Чтоб стал письмоводителем и книжным счетоводом?
У Президента таких полторы сотни, а у тех – свои тысячи и миллионы. А у меня только неопубликованная рукопись да заимствованные у Василия Васильевича и всех прочих строчки. Но призраки должны быть выявляемы во внимательном взгляде: иначе как противостоять? И верные в своей наивности слова о том, что дьявол борется с Богом в человеческой душе, уже мало кого волнуют. Но что-то все-таки есть – Розанов удивлен и обрадован: бытие постоянно превозмогает небытие и замещает его, восполняясь недостающим.
Почему так?
Девочка-библиотекарша не отрывает глаз от телефона – она уже не может жить без посланий. И Розанов сам себе телефонирует: почему превозмогает бытие над небытием, а не наоборот? Потому, что изначальная потенция существует. А среди политиков, судя по жестам, много все-таки импотентов. И что-то есть, неведомое для либерала и атеиста. Такое, где предуготовлено реальное бытие, в нем ничего, что могло бы увеличивать небытие. Розанов говорит о природе, но понимает так всю жизнь.
Реализация потенции через всю множественность изменений.
Внимательно, внимательно! – Скажу Президенту. Начинается любовно, кончается смертно. Изменения же, скажу, могут быть совершенно непредсказуемы, даже неуловимы. О чем подумает при этих словах? – ведь ему кажется, что изменения предсказуемы, о предсказанной предшественниками пандемии еще никто ничего не знает, но до объявленной президентом специальной военной операции уже совсем недалеко.
Поэтому следует внимательно всматриваться в поток изменений, стремясь дойти до истоков мутаций. Тут французы всегда первые. Метафизические мутации в глубинах, на поверхности уэльбековское смиренье Парижа – террорист больше не действует по-картезиански-причинно. Террорист теперь непредсказуем и вездесущ. И надо не допускать удержания, ровнять дыхание, не впадать в ярость. Вдохнуть перед ударом или броском, не показать момент вдоха – всегда держать в себе тайный запас дыхания, который спасет. Мысль, что следит, отпустить на свободу, пусть вплывает во все возможное, предупреждает опасности, не изменяет себе. Жизнь – это свободная вещь. У нее есть тело, независимость, плотность, своя внутри угловатая необъятная сфера.
И нет подобий.
Так миру смыслов предшествует свободная вещь – простые вещи развенчивают и удерживают под подозрением производство смысла. Нужно иметь дело с проявлением самой вещи – постоянно обращать себя к далее неразложимым родникам.
Помощники Президента – только исполнители, они его будто бы боготворят, но не любят. Это сообщество создает себе божество из своего Президента, так насельники отсвечивают в его лучах. И кажется, что случайности нет вовсе – можно предугадать и устроить.
Они не думают ни о порядке космоса, ни о случайности, а о потенциях говорят с китайскими лекарями, когда начинают стареть. Существование всего видимого мира необходимо признать произведением случая? – никогда. Случай уже состоялся – он всегда позади, а настоящее избавилось от случайности. Но у Розанова случай вовсе не самозванец. И кто думает о том, что его когда-то не станет?
Я об этом скажу Президенту.
Все реализации ему, конечно, известны.
Ведь есть – Розанов еще больше щурит глаза, – охотник по следу, – пред-идеальные потенции, из всех видов наиболее чистый, беспримесный, трудно постигаемый вид. Это существование не связано ни с каким определенным пространством или временем – нет ничего, на чем человек, остановив свое внимание, мог бы сказать: здесь оно существует. И между тем это, нигде не указуемое есть, существует.
К этому виду потенций принадлежит геометрически обученный разум?
Разум, разум, разум: Кант отделял разум от рассудка, что есть у всех. А Розанов, размышляя о потенциальности, смотрел на реальное положение дел. Думал о понимании, что открывает скрытое: такое положение трудящихся, от которых остается скрытым и то, чтó именно возводится ими, и то, зачем оно возводится и где предел возводимого, – не может быть удобно. Не говоря уже о невольных ошибках, к которым ведет это положение, оно неприятно и потому, что всякий труд, цель и окончание которого не видны, утомителен.
Но и это Президенту, конечно, известно. А что такое люди? – отход военного производства?
Русь станет иною.
Лучшею.
Светозарною.
Я наименее отрицающий человек из всех людей! – Розанов впадает в гордыню.
У каждого свой путь к Богу? – известно, только пути неведомы. А что Розанов?
Против подступил Бердяев: боюсь, что Розанов требует от религии фактического смешения подлинного и ценного с лживым и ничтожным. Розанов хочет имманентного спасения мира и отвергает трансцендентное спасение как небытие и смерть, он ощущает божественное в творении, но глух и слеп к трагедии, связанной с разрывом между творением и Творцом. Освободиться нужно от физиологизма и быта – от вечно-бабьего в русской душе.
Но как мальчик, выросший на асфальте, – ставший Президентом, вдруг стал чувствовать, что Бог есть? Только не надо в ответ про то, что у каждого свой путь. Да ведь и сам Розанов, пишет Бердяев, зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось гениальному воображению.
Органичность, народность космичности?
Подделка, иллюзион, маскарад. Камуфляж.
Знак гибридной войны.
Где такая сила? – само преклонение Розанова перед фактом и силой есть лишь перелив на бумагу потока женственно-бабьих переживаний, почти сексуальных по своему характеру. Бердяев-персоналист не терпел органики – от нее совсем недалеко до идеологии крови и почвы. А у лучшего колхозного пахаря как раз кровца на ладонях, почти не отличимых по твердости от чепигов плуга. Так упирался награжденный полетом пахарь в борта кабины самолета-кукурузника, чтоб не кувыркнулась машина в черные борозды.
Вот сила! Ведь редко, редко человек понимает конечный смысл того, что он делает. И большею частью понимает его слишком поздно для того, чтобы изменить делаемое. Конечный смысл? – тридцать лет назад был коммунизм. Президент тогда написал, что хочет быть в первых рядах.
Но не человек делает свою историю, он только терпит ее, в ней радуется, или, напротив, скорбит, страдает, – неведомый сегодня никому, кроме историков литературы Федор Шперк, поддержал Розанова и меня – даже царь не мог удержать империю в повиновении и ладе.
Левиафан переменил облик, да не может переменить участь.
Ныне же человек с темой и воплями Достоевского пусть даже с неугасимой папироской был бы немой: с землей во рту. И сама тема – с землей во рту. И мое говорение косноязыкое – ни к селу ни к городу? Но хоть гляну на внутреннюю жизнь власти. От мережковской литературы болезнь: что вы, больны чем-нибудь? – Нет, я не болен: но мною больна эпоха. Не будь в ней Мережковского, эпоха явно была бы здоровее. Апокалиптики, воистину апокалиптики. А у Президента никакой апокалиптики, каждый день полтора часа плаванья, два раза в неделю додзё – разминка, растяжка, повторение техники и легкий спарринг.
Дзю-кумитэ – свободная рука – вольный бой.
У меня тоже пустая рука, в ней нет оружия. Совершенно пустая – только в пустоте сила. Секущий удар, три уровня атаки – глаза видят все, но не пойманы чужим взглядом. Наколка-дракон не мигает, не отведет взгляд. Но если сказать, что не человек определяет историю, – он определен природой с того момента, как она существует и до того момента, как она перестанет существовать, – то зачем нужна власть?
А Розанов-литератор все жалуется литературе на литературу.
России – жалуется на Россию.
Жизни жалуется на жизнь.
Одно проявление смещает другим, полагая, что есть подлинное существование. Оно до конца не определено, но с ним можно иметь дело посредством ума. Жалуется на литературу, ее вовсе не отрицая. Противно что-то одно, а не вся литература, она же противна тогда, когда сливается недостойно с этим одним.
Не надо никому навсегда доверять. Может, Президент, сейчас в библиотеке я подумал, – монах в миру? Аскеза, воздержание, внимание к плоти – откровение только в молитве, доверие только к святому, одиночество среди всех.
Президент это знает, он на службе.
И Француз на службе, и Американец, и Немка умело правит, хоть боится собак.
Но они пришли и уйдут, придут другие. И мозоли кровавые давно сошли – звезда в навершье креста на могилке красного пахаря. Немощь там, где нет кровности и силы. И хорошо бы не любить одну женщину, чтоб не впасть в соблазн, чтоб не было удержания, но всегда хочется любить беззаветно.
Быть с одной, а словно бы обладать всеми.
А помимо объятий с кем быть?
Тогда нужно считать, что женщина просто природа – нужна для существования. В ней нельзя оставаться – невыносимое удержание. И чем жить? Не мелкими же делами, в них все становится мелким.
Тут снова в библиотеку Розанов: выше русской литературы, вот именно в этих мелких ее течениях, в течениях незаметных, может, не было ничего во всей всемирной литературе – по служению народу и человеку. Одно служение, одно бескорыстное, одно – самоотверженное. Человек письма может представать как страдательное существо.
Так и человек власти?
Не о себе, отвечает за всех нас.
А и в самом деле – толпа мучеников христианства, выведенных в цирк на сражение со львами, причем самые имена их неведомы, выше проповеди всех Апостолов, которые глаголом жгли сердца людей. Если и пострадали, зато – и велики.
Прославлены. И вообще с них началось новое Небо.
Незаметность авторства, закон ниндзя – отрабатывай искусство быть незаметным для любого взгляда, неуязвимым, неуловимым. Не зажатым в удержании. Иначе, прихватят, сделают обездвиженным.
Свои записки в тот вечер я забыл в библиотеке и не захотел возвращаться, иначе не будет дороги. Да ведь рукописи не пропадают бесследно, даже если их сжигают вместе с библиотеками.
Розанов сокрушался, что всех настигает немощь.
Как бы не погореть мне по-розановско-офицерской метафизике пола.
5. День, где я простой персонаж
Жизнь в деревне простирается от земли до неба, а в городе – даже в Кремле-столице – от подвала до чердака. Утро обычное, Домовой затих где-то в укромном углу – скрытое наблюдение. А наблюдаемое открыто.
Пища, враги и паразиты.
И Дракон-виртуал прикрыт рукавом неизменной для официальных мероприятий белой рубашки.
Но в паузе между докладами Президент вспомнил о читанной на ночь книге, листал страницы, высматривая свое. Строки про господство и силу, про тотальную мобилизацию, про внедрившуюся в господство и силу боль. А ведь совсем недавно об Эрнсте Юнгере, он помнил, даже с немцами нельзя было говорить. Юнгер на двух мировых войнах ранен четырнадцать раз. И странное, хотя понятное: то, что Юнгер писал в воспоминаниях о России и о войне, о людях в житейском существовании было настолько не похоже на представления Президента, что начинало казаться, никакой иностранной правды совсем нет.
Но главное, что Юнгер не терпел удержания.
И странный выбрал эпиграф из поваренной книги для домашнего хозяйства всех сословий.
«Из всех животных, которые употребляются человеком в пищу, раки, по-видимому, умирают самой мучительной смертью, поскольку их помещают в холодную воду и ставят на сильный огонь».
Вздымались наводнения посреди ночи, подтаивали разбуженные рукотворным теплом айсберги, сорвавшаяся с размякшей горы сель смела на своем пути селение, взрывались этажи от газа, дежурные эскадрильи были готовы к взлетам в режимах погоня или перехват, ракетные части готовы к залпам на поражение – об этом он узнает с утра в первых докладах. До утра отстранялся от несчастий и переживаний, иначе не мог бы заснуть, к дурманящему настою шуиманджу не хотел привыкать. Завтра с утра узнает обо всем, что в страшных снах могло привидеться ночью. А тут еще страдания красных раков из поваренной книги времен первой революции в Европе.
И все потому, что существует удержание-боль.
Но тот, кто способен превозмочь боль, обретет доступ к силе и власти. И к тайне господства: скажи мне, как ты относишься к боли, и я скажу – кто ты. В сумерках перед сном все становилось не то чтобы яснее, но понятней.
Но неужели источник всего боль?
Сова Минервы всегда запоздает с ответом, вылетев в сумерки. Но ответ уже есть в сумеречности перед сном. Тут пустота, тут скоро настигнет исчезновение всего. Тут будто бы можно назвать все своими именами. И совсем странный новый Советник, даже будто бы его уже раньше видел – тень полутени. Гегель выпустил сову в сумерки не для того, чтоб показать всеобщее и всегдашнее опоздание: сумерки только и есть настоящее существование. Что-то стоит одиноко посреди мельканий… совсем пожилая женщина, вот такой станет цветущая через тридцать лет – завтра придет в сон, тень ее юная уже навсегда здесь.
Постаревшая стоит рядом – тень не отбрасывает, откуда у тени тень?
Или так склонилась, что тени не видно.
На коленях стоит у его постели, будто молится без отдельного слова, все слова сошлись в немом разговоре. Особое существо, которое только для того, чтобы быть явленым, приняло облик женщины. Видны старые ручки, не течет горячей любовной влагой, как из каждой женщины, которую любят и которая сама хочет любить. И надо бы остановить приблазнившийся поток, перестать замечать, не всматриваться, не вслушиваться. И тогда он сам собой уплетется в сонм собственных теней и полутеней, сольется с пустотой, из которой вытек. А Домовой-топтун пусть остается – больше от него нет страха. Он просто напоминает давний страх детский, которого теперь нет. Но удержанье теперь не на минуты сна, а в каждом миге. А если удержание бесконечно, надо выкручиваться и жить. По возрасту почти старик – по древнегреческим меркам давно миновало сорокалетнее акмэ, возраст в две ровных шестерки, – трансгуманисты хотят продлить жизнь до ста двадцати лет.
Что потом?
Сова крыльями рассечет воздух, где в сумерках тени. У них боли нет, страха нет, тел нет, а обличия есть. Женщина с любовным лицом, при пробужденьи безликая, – любая может во сне обрести плоть, налиться телесно-природно, склониться неприкасаемо, а в ответ – горячечный выплеск. Будто женщина всех женщин посетила отрока-старика – видна в чужом сне, стоит нагая на горячем прибрежном песочке. Будто отбросила тень сразу в две стороны – видят и старик, и отрок. А то, что посередине, просто-напросто не существует – не отбрасывающая тени жизнь.
Домовой приходит давить, чтоб ничего не забыл.
Отрок боится, а старик забывает наутро все, даже страх. Четыре отверстия и одна голова – уши и глаза в сумеречных потемках.
Плывут тени, плывут, проплывают, снова наплыли – плывут. И только в потоке сна-шуиманжду у Президента нет права на боль, словно вовсе нет органики, не нужно от нее по-человечески ускользать, бежать, даже понимая, что от одной боли живое существо стремится к другой. Но боль только у того, у кого есть любовь. Принять боль можно только потому, что любишь.
Какие адские трубы зазвучат из неминуемой будущей боли?
И Президент – просто-напросто человек. Атомный чемоданчик – придаток существования, символ защиты и мгновенного нападения, знак боли. Самодельный сапожный ножик нужен, чтоб домового прогнать, необходим самим собой выкованный взгляд. Но в предутрии особенно ясно, что нет защиты от боли, дракон навел взгляд – тоска настигает.
Кто еще здесь из родного советского времени?
Высоцкий и Гагарин. Еще красивый герой из фильма про разведку.
А еще тысячи с болью или даже без боли, не успев почувствовать и пережить. И когда Президент время от времени посещал по церковным праздникам храмы уединенных мест, там все становились невидимо рядом.
Советник толковал вчера про Апокалипсис. Но Розанов, видно, персонаж сосем странный, впору бы в разработку. Унылая ориентировка, то перед одними грешит, то перед другими, то перед всеми кается. На кого работал? Но от себя не отказывался никогда. На войне не был, все время воюет.
А тут потепление, сель плывет, дожди полмира накрыли, куриный грипп, собачье бешенство, террор повсеместный, пандемия над всеми, а юрод Розанов все про придуманный конец света. Да и юрод ли? – все к молоденьким да девственницам: как да что? Какого цвета сосочек?
А если конец света уже произошел?
Сказано же, каждый носит ад в самом себе. И знаки на встречу: если волк встопорщит загривок – удача военным, если вран поперек дороги каркнул – вопрос к спецслужбам, заяц перебежит – задание дипломатам: если с той стороны порскнул, что в пазуху – к удаче на переговорах, если из пазухи – жди новых санкций.
Почему штурмовик летел без прикрытия истребителей, когда турки сбили?
И поверх всех вопросов, невыносимое молчание двух минут – несемся, будто со стороны себя вижу, по Кутузовскому проспекту.
Президент молчит.
И мне молчать. Поэзия – соединение вещей совсем-совсем далековатых. Поэзия даже и не литература – это особенное состояние человеческое.
– О чем задумался? – Президент так у любого может спросить. Мы учились в одном университете.
– О веранде!
– И что? – Он смотрел со странным вниманием. Немигающие глаза дракона вбирали в себя – удержание.

