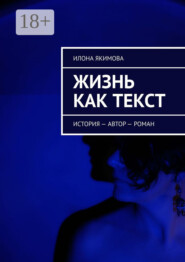
Полная версия:
Жизнь как текст. История – автор – роман
Жизнь как текст: автор
В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ. (Марина Цветаева)
Книга – памятный знак, отмечающий место кровопролития в моей жизни. Примерно как глыба на поле Куллодена с перечислением павших шотландских кланов. Очень редко (практически никогда) книги для меня про веселье и радость, обычно они про рост и трансформацию. В некоторых случаях надо дать себе откровить до конца – именно чтобы выжить.
Мне доподлинно неизвестно, почему в человеке есть это свойство – осваивать жизнь пересказом. Иные осваивают жизнь отыгрышем (актеры), цветом (художники), звуком (музыканты). Но всегда это реакция на дискомфорт (радость, кстати, тоже может быть дискомфортна, положительный стресс – тоже стресс). Острота воспрития жизни изначально выкручена на максимум – мне в этой жизни слишком много всего, звуков, цветов и людей. Для отдаления я использую слова, высевая, высаживая их в буферной зоне текста.
Никогда не было никакого желания «сотворить себе биографию». Что-то пишется, чтоб избегнуть подобного в реальности, что-то – чтоб, напротив, приманить подобное в свою жизнь. Поверх ремесленного пласта сам собой жирненько вспухает шаманизм, и в сплавлении его с мастерством образуется творчество.
Жизнь как текст, жизнь персонажем некой высшей книги – слишком сильная аскеза, чтоб выбрать ее сознательно. Да сознательно и не выбирают, каким-то конкретным действием или словом, выбор осуществляется незаметно, годами склонений и приближений к одной единственно возможной линии поведения. В период личных бурь и неурядиц восприятие себя как персонажа, некая отстраненность от процесса «здесь и сейчас» как раз могут быть целительны. Творчество для меня – не жреческое искусство, а прикладное, не борьба за власть и установление места в иерархии, а личный способ освоения мира. Я пережила свое «мне есть что сказать миру» до стадии «миру есть что сказать мне».
Есть автор, есть жизнь автора в тексте, есть авторская легенда. Три ипостаси, порой не пересекающиеся до крайности. Творец здесь автор, как сущность реального мира, обладающая физической возможностью к действию, к творению; живущий в тексте – дух, одухотворяющее начало; и легенда – побочное дитя тех двоих. Законное дитя, лелеемое, конечно же – текст, но иногда бастард выстесняет признанного наследника. До известной степени автор всегда формирует себя как персонаж – в своих контактах со внешним миром, в транслируемом наружу образе. Но есть моменты, когда персонаж одолевает человека в авторе. И тут важно не промахнуться. Нить Ариадны ведет к Минотавру, но не выводит на свет, легенда приводит к смерти.
Что общего у Эрнеста Хемингуэя, Ромена Гари и Хантера Томпсона, кроме точки, поставленной ими в финале? Легенда тащит писателя за волосы, словно Афина – Ахилла, обреченного на битву, до Тарпейской скалы, где разжимает хватку над пропастью, когда история рассказана до конца. Рассказчик не имеет возможности замолчать, пока жив, но ставит точку там, где она уместна именно по сюжету его личной легенды.
Надо понимать, что автор сам себе отменнейший крысолов. Мы слишком хотим нравиться всем, нравиться себе до самой последней строчки. Маниакальная потребность следовать легенде может быть сломлена только живейшим инстинктом самосохранения, чтобы с рельсов той самой легенды соскочить до столкновения поезда со стеной. И мертвому поэту я определенно препочту живого человека – и как поэт, и, тем паче, как человек, как женщина.
Я не жила внутри легенды, я сознательно балансирую на грани, потому что очень легко переступить и не вернуться с этого спектакля домой, когда именно над тобой опустят занавес – пусть Гамлета поднимут на помост, как воина, четыре капитана – и занавес станет тебе вместо покрывающих тело знамен; но мне представляется, что писатель ставит точку не на листе, а на виске первоочередно в том случае, когда больше не имеет сил следовать образу самого себя, который сам же многолетне и создавал; продолжать вести жизнь в том качестве, к которому привык. Прежде было принято стреляться от банкотства физического, сейчас все чаще мы имеем дело с банкротством духовным. Оно и непишущих настигает прекрасно, но пишущий с особым вкусом осознает, когда история рассказана до конца. Если есть у него костыли, подпорки, для всякого нормального человека – не для писателя – составляющие естественный смысл жизни, как то семья, дети, теплые близкие отношения, кот, наконец, которого стыдно бросить в одиночестве – у писателя есть шанс. Если же слово составляло для него единственную настоящую ценность, то уход легенды, темы жизни может оказаться фатален. Поэтому мастодонтам сидячей профессии, как никому другому, нужна мощная чувственная (в смысле чувств) привязка к реальности, преданная жена писателя, десяток мопсов, пятеров внуков, всё такое. Будет жизнь – будут и книги. Нет ничего более преходящего – и потому не заслуживающего ожидания – чем вдохновение.
Но есть бездна исчерпанности, пустота, которую я предчувствую, предвижу, до которой дожить было бы по-настоящему страшно – и не мне осуждать сделавших свой выбор. Крысолов сам себя уводит туда, где его никто никогда не найдет, и некоторое время дудочка его еще слышится из-под холма – все глуше, глуше. Пока не замолкнет вовсе.
Бывает, что зазор между живущим в тексте и живущим вне текста со временем образует не то, что трещину, а каньон, легенда отслаивается от реальной личности, отпадая, как слой штукатурки с лица престарелой кокетки эпохи барокко. И блажен тот, кто в эту минуту не соберет вокруг число свидетелей, достаточное для разоблачения.
«Хемингуэй играл Хемингуэя-крутого-парня всю жизнь, но одному Богу известно, что он прятал в себе, какой страх, какую тоску. Он был без ума от самого себя. Он построил свой образ на „мачизме“, но мне кажется, на самом деле это была неправда. Году в 1943-м или 1944-м, точно не помню, в общем, Лондон бомбили каждую ночь, и во время одной из таких бомбежек я потерял приятеля. Я обхожу все больницы. В больнице Святого Георгия повсюду раненые: в коридорах, на столах, и без конца поступают новые. Умирающие… Внезапно – драматическое появление: я вижу гиганта в плаще, все лицо в крови, и ведут его американские офицеры с не менее драматическим видом. Это был Хемингуэй. Он попал в аварию на джипе, в затемнение, – поранил кожу под волосами, пустяк. Он пробирается среди умирающих и вопит: „Я Эрнест Хемингуэй! Я Эрнест Хемингуэй! Лечите меня. Я ранен! Лечите меня!“ Вокруг было полно раненых, которые действительно отдавали концы. Когда сравниваешь такого Хемингуэя с человеком, которого он изображал всю жизнь, и с героями его романов… Там был один врач, доктор Роже Сент Обен, он может подтвердить… Он помнит. Тем не менее „Прощай, оружие!“ – один из лучших романов о любви нашего столетия; можно, оказывается, быть великим писателем и жалким типом одновременно. Я говорю не о Хемингуэе, я говорю обо всех, потому что все лучшее, что в нас есть и чем бы мы хотели быть, мы вкладываем в наше творчество, себе же берем, что останется…» (Ромен Гари, «Ночь будет спокойной»).
Если вам кажется, что в своей едкой цитате Гари немножечко соревнуется с Хэмингуэем за самые титановые яйца, то вам не кажется. Имеет право. Но уйдут они оба примерно одинаково и примерно по одной и той же причине. Когда же легенда одолевает автора-женщину, она выбирает иные способы расправиться с реальностью, менее громкие, но не менее трагичные. В диалоге с жизнью вопрос важен не менее ответа, другое дело, что вопросы нам всем задают примерно одни и те же, но у писателя есть инструмент, чтобы отвечать. Смерть – не ответ, единственный ответ – творчество.
Каково это – не изменять себе до конца? И многим ли удалось? Есть ли возможность прожить жизнь как текст без обязательной точки в финале? Можно ли сделать себя частью общекультурной легенды и избежать самосожжения? Жизнь – форма текста, это хорошо знали в средневековых монастырях. Монах – орудие для воплощения, вочеловечивания священных слов, не более того. Он служит слову по часам, в строго размеренном распорядке дня. А слово служит ограничению хаоса мира – не зря же оно было в начале творения.
Мы – то, что мы говорим, читаем и пишем. Слово формирует сознание. Жизнь как форма организации текста, человек есть то, что он думает, а думает он, облекая мысли в формулы языка. В этом плане литература выше религии, потому что и религия в своем оформленном виде возможна только благодаря письму, литературе.
Один из английских королей, пересекая Ла-Манш и попав в лютый шторм, выгнал на палубу всех своих придворных и сам встал с ними на колени, молясь – нам, сказал он, надо продержаться до первой мессы, когда проснутся монахи в аббатствах Англии. Тогда их молитвами мы спасемся. И они продержались, и буря улеглась, и король со своими людьми уцелел. Монахи аббатств трудились ежеденно, вознося молитвы круглые сутки, но иногда и они спали – в такой темный час следовало продержаться до поры, когда проснется первый монах, и снова воздвигнет свою молитву. Безотносительно наличия/отсутствия веры тут есть мощный образ слова как опоры земного на небесное. В каком-то смысле писатель осуществляет труд души за тех, кто плывет в этот момент на корабле по бурному морю, за тех, кто не пишет.
Мне нравится этот образ.
Писатель и псевдоним
Не печатают – правильно делают! Пишите о России или берите псевдоним.
Из бесед с маститым автором попаданческой литературы.
Забавно, я еще могу припомнить время, когда «у вас мужская рука», сказанное в адрес молодой писательницы, можно было счесть комплиментом. Более того, молодая писательница так и сочла, смутно чувствуя подвох. Более того, я сама и была той молодой писательницей.
Путь женщины к литературе – и в литературе – в историческом разрезе заслуживает отдельного повествования, тянет на отдельную книгу. Вкратце говоря, в патриархальном мире, сформированном античностью, иудаизмом, христианством, исламом, – нас здесь не ждали. Долгие века женщина считалась то вещью, то имуществом, то существом слабейшим не только физически, но и духовно, интеллектуально. Иные, помнится, вообще сомневались, есть ли у женщин душа. А способно ли существо, не имеющее души, подлинно творить?
Прошедшие века прекрасно продемонстрировали, что можно творить и без души (вещи совершенно чудовищные), просто будучи мужчиной. А женщины понемногу проникли в литературу – от огненных писем Екатерины Сиенской к вольным рассказам Маргариты Наваррской, от любовных песен Сафо и сонетов Елизаветы Сидни до философских диалогов Туллии д’Арагона. Ренессанс сделал для женщины дозволительной возможность рассуждать о земном и божественном, спрашивая на то, разумеется, позволения мужчин. Вне религии женщинам литература была позволена, как вариант дамского рукоделия – и в корзинку с вышивкой порой припрятывалась заветная рукопись, когда в комнату входил кто-то из мужчин семьи. Даже рабочий стол – вещь, столь привычная мужчине – женщине была не всегда доступна. Женщины в литературе слишком долго оставались девочками на побегушках, секретарями великих мужей, диковинными зверюшками – надо же, она умеет разговаривать! и писать! – чтоб не мечтать мимикрировать под мужчин.
Писательница XIX века, желая успеха, публиковалась под личиной мужчины: Аврора Дюдеван (Жорж Санд), Шарлотта, Эмили и Энн Бронте (Каррер, Эллис и Эктон Беллы), Мэри Энн Эванс (Джордж Элиот). Слишком большая опасность погубить репутацию, прослыв вредной сумасбродкой, слишком большое искушение стать – хотя бы через фальшивое имя – немножечко более своей в мужском мире, избежать предвзятого, учитывающего пол автора суждения о тексте. Двести лет назад – дело вполне понятное, но теперь, когда брак, семья, дом не являются единственной (и наилучшей) карьерой для женщины, к чему мы пришли?
К тому, что и теперь жанры делят на «женские» и «мужские», и в иные из них женщинам рекомендуется заходить, как Штирлицу в гестапо – строго под легендой.
Мужской псевдоним для женщины – печальная необходимость рынка? Я знаю писательниц, кому строго было рекомендовано в издательстве взять либо соавтора-мужчину (пусть для вида), либо мужской псевдоним, ибо «жанр не ваш, нас читатели не поймут-с». На сайтах самопубликации знакомые дамы писали мне: вы знаете, что это я, но не раскрывайте, пожалуйста! И на тех же сайтах, на стогнах литературного интернета порой раздавался зычный клич той самой публики-с, которая не поймет-с: «Героиня/автор – баба, читать не буду. Слишком много юбок в тексте. Дырка тут явно лишняя» – сохранена лексика оригиналов. Двадцатые годы XXI века. Женщине фактически отказано в праве не только быть автором любого жанра – она заранее обречена на неуспех, если не притворяется не собой, – но и быть активной героиней повествования. Это, видите ли, оскорбляет брутальных и скрепных, выражающих свое возмущение (и возмужание) с частыми грамматическими ошибками. Когда мне снова скажут: «ну, вы, женщины, уже добились равных прав везде и всюду, чего же вам еще?», я снова буду очень смеяться.
Мне, к сожалению, уже не поставить чистого эксперимента – потому что брутальные, скрепные, юбочные, дышащие маточкой etc так мне ни разу и не объяснили, как вслепую определить пол текста, не зная пола автора текста. В юности, рассматривая вопрос выбора псевдонима, я никогда не думала о мужском. Сейчас я с равной легкостью пишу от лица персонажей обоих полов, и считаю это просто навыком, должным быть у любого годного писателя. Но по юности была у меня идея писать так, без глаголов в прошедшем времени, чтоб по тексту было невозможно определить пол автора.
Причина? Все та же – чтобы с тебя спрашивали по-взрослому, а не за рукоделие. Потому что «женщина» у иных судей – это априори минус балл к качеству. Женское – стереотипически легкое, воздушное, милое, сентиментальное, пустое, но вездесущее и летучее, как одуванчиковый пух, заполоняющее со временем собою вообще всё, как сорняк – противопоставлялось интеллектуальному, яркому, талантливому, серьезному, весомому, жизненному, имеющему право на долгую литературную жизнь. Одним словом, мужскому. Хотелось, конечно, стать мужчиной, быть принятой за свою. Но, как и в любом другом случае, женщина, пытаясь буквально стать мужчиной, превращается в нежизнеспособного кадавра.
Интеллект не имеет пола. Не имеет пола талант. А вот жизненный опыт имеет пол, он различен, и это отражается в тексте. Проникнуть, понять, подделать чуждое мироощущение, вжиться – опция, доступная только весьма одаренному, высокоразвитому во всех смыслах автору.
У меня очень простая фамилия, я пишу под собственным именем, я женщина, и не намерена брать мужской псевдоним даже в «мужских» жанрах, что бы об этом не думали издатели в интересах коммерции и читатели в поисках гендерных стереотипов.
Это такой мой небольшой, личный, но очень крестовенький поход. Жги, Господь!
Пропп, Кембелл, Грейвс и прочие официальные лица
Схемы бесконечно привлекательны там, где речь идет о поточной работе – серийное написание романов, сценаристика. Проблема в том, что исторический роман, как правило, является работой штучной, уникальной. Разумеется, возможно объединение книг в серию, но это не значит, что писатель может с чистой совестью использовать один и тот же прием. Тем не менее, знать схемы и уметь по ним работать весьма полезно.
Человек ан масс понимает и любит знакомое. Не только знакомое, конечно, но знакомое ему безусловно предпочтительней. Потому нас цепляют те истории, которые мы ощущаем, как свои. Снова «про нас про всех, какие, к черту, волки». Какие именно истории мы ощущаем, как свои? Те, которые содержат сходный с усредненным набор переживаний и испытаний героя/героини. Говоря «герой» я, как правило, имею в виду персонажа вообще, без признаков пола, хотя о пути героини ниже поговорим отдельно.
Современная культура эпителиальна к телу Земли, да и ко всей истории человечества в принципе. Пугающе, но полезно осознавать, что под твоими ногами – толща тайн и загадок предков, слабыми отголосками напрямую определяющая формы твоего мышления даже и в современности.
Как человек технического образования, я искренне люблю инструкции и учебники. Во времена моей молодости таковых по писательству не существовало вообще, за исключением, пожалуй, упомянутого Парандовского с «Алхимией слова», которая, строго говоря, именно учебником не является, скорей, собраньем пестрых историй из жизни великих. Но при наличии на данный момент огромного количества курсов по писательскому ремеслу и не меньшего количества книг о писательстве, никто не даст вам точного рецепта вашей собственной книги, сообщив лишь общие границы, в которые можно вписать историю.
Перечислю несколько книг, которые, не являясь напрямую учебниками, тем не менее, считаю крайне полезными для прочтения не только автору исторического жанра, но исторического – в особенности. Говорим ли о современности или о событиях пятисотлетней давности, мы все равно будем пользоваться штампами поведенческих реакций и ситуациями, которым не менее (а многим и более) пары тысяч лет. Вот этот краткий перечень:
– Алексей Лосев «Античная мифология»;
– Джордж Фрейзер «Золотая ветвь»;
– Роберт Грейвс «Мифы древней Греции»;
– Владимир Пропп «Морфология сказки», «Исторические корни волшебной сказки»;
– Джеймс Кемпбелл «Тысячеликий герой»;
– Кристофер Воглер «Путешествие писателя»;
– Морин Мёрдок «Путешествие героини»;
– Мария Татар «Тысячеликая героиня»;
– Кларисса Пинкола Эстес «Бегущая с волками»;
– Роберт Макки «Персонаж. Искусство создания образа на экране, в книге и не сцене».
Эти книги содержат осмысление человеческой культуры, выраженной форме мифов и сказок, живущей многие тысячелетия – и то, чем мы являемся сегодня, как себя проявляем, как выражаем, что видим, чего боимся, неумолимо растет и оттуда тоже. И все наши персонажи, в том числе, родом тоже оттуда. Разумеется, полезной литературы неизмеримо больше, чем указано тут, и я продолжаю учиться, и продолжаю ее искать, и не могу знать, на какой книге меня настигнет ощущение того, что я всё знаю о писательстве и персонаже. Надеюсь, оно не настигнет меня вообще.
Потому что стагнация ума в ощущении своего совершенства для писателя есть чистая смерть, ведущая к загниванию создаваемого им текста.
Под лежачий камень не течет вода истории, ничего не поделаешь. Поэтому катим, Сизиф, катим, они золотые.
Сколько чертей помещается на острие пера
Довольно много, на самом деле.
Вопрос, который преследует меня постоянно – что было первым: архетип сказки/легенды или желание следовать архетипу? Мы пишем эти книги, живем эту жизнь, потому что проживаем эти легенды, или эти легенды вызывают неодолимое желание следовать за ними? Живем мы, потому что пишем, или пишем для того, чтобы жить?
Я пишу книгу по реальным историческим событиям, по пунктам биографии и поступкам реального исторического лица, однако вся она прекрасно описывается в архетипах Кемпбелла. Отчего? Они уже есть в этой истории изначально или я подгоняю историю под готовую схему, стараясь сделать ее читабельной? В случае «Белокурого» я ничего не строила специально, по схеме, я следовала своей интуиции, однако господин граф шел точно по лекалу античной трагикомедии, словно сам сочинил свою роль. Мифы, легенды, книги безусловно формируют тип поведения, так рыцарские романы его времени давали образец поведения, так плутовские романы отчасти формировали ловкача. Но те и другие книги имели в качестве прототипов реальных людей века.
Эта змея кусает свой собственный хвост. Рассказанные истории так же побуждают следовать им, как из любой истории жизни можно сложить легенду – надо лишь взять, приподнять правильные, целенькие кирпичики, а щербатые опустить в тень. Или, напротив, составить особый узор из щербатых.
Схемы, опирающиеся на разного рода учебники писательского мастерства, безусловно полезны. Но плохая идея – превращать костыли в ходули. Ни одна человеческая жизнь не ложится в схему по мерке, один в один, даже если человек прост и прозрачен, он почти всегда может удивить. Даже в самой серой, обыденной жизни есть шанс обнаружить двойное дно. Схема – она как скелет, на который надо наращивать мясо сюжета, своеобразие персонажей, и дело автора не облепить ее картоном, не превратить в автоматон, в танцующий скелет. Танцующий скелет все равно остается скелетом. Из схемы можно брать опорные точки, идеи образа действий. Но предлагаемая схема – в частности, схема пути героя, о которой речь пойдет дальше, – все же не вполне годна для художественной литературы. Кемпбелл писал свою теорию на основе мифа, Воглер пересказывал Кемпбелла для индустрии кино, Макки в «Персонаже» анализирует особенности создания персонажа на основе трех областей искусства – литература, кино и театр. Это не уменьшает ценность указанных авторов и их работ, но дает серьезные погрешности в применении схемы касательно литературы, потому что динамические искусства – кино, театр – используют и другие изобразительные средства, помимо художественного слова, подчиняются требованиям динамики действия, упакованного в жесткие рамки длительности сцены, акта, фильма. Литература и свободней, и сложней в этом смысле и театра, и кино.
Схема может быть общей, может быть очень простой, и, сравнивая сюжеты, мы придем к тому, что действительно отличает авторов друг от друга не столько сюжет, последовательность смены картин, сколько вложенное в сюжет содержание и стиль подачи сюжета. Схематизация не панацея, а инструмент. Схема – результат структурирования и одновременно средство передачи жизненного опыта посредством художественной истории.
Вначале было слово, была игла творца, а потом ее обсели черти воображения. Задача автора спугнуть их так, чтоб вспорхнули, обратясь ангелами, поблескивая пером.
Путь героя vs путь героини
Мужчине позволено в литературе всё, женщина по-прежнему должна иметь право на что-то. Текст не имеет пола, или это плохо написанный текст. Но жизнь женщины в писательстве оборачивается путем героини. Мне всегда было странно, что женщина фактически вынуждена спрашивать разрешения на творчество у общественного мнения, полагающего совсем в ином ее подлинную ценность – в воспроизводстве человеческого ресурса. Так было в условно атеистическом Советском союзе, так оно и в новоправославной России. Во времена моей юности писательство считалось неким докучливым хобби, мешающим верно разглядеть должные ориентиры и обрести истинный путь, позволительным лишь до брака/детей. Четверть века спустя в профильной писательской организации меня приветствуют словами «хорошо, что пришли, красивые девушки нам нужны». Посмотрела бы я на реакцию молодого талантливого автора мужского пола, если бы на входе в литпроцесс его приветствовали чем-то подобным. Что, и в голову бы не пришло? Вот когда и в адрес женщины не придет подобное в голову, тогда уже и не будет необходимости у женщин отвоевывать себе право на творчество.
Женщинам предписано не только не писать, женщинам предписано писать только на определенные темы. Женщинам предписано интересоваться определенными темами для чтения. Официально заверенной справки не существует, но на полном серьезе нет-нет да встретишь мужское мнение о собственных дочерях или внучках: «Нет, что вы, я не сексист, но, возможно, не стоит предлагать читать „Тараса Бульбу“ девочкам? Возможно, это им не нужно?»
До тех пор, пока «они» (независимо от пола) означает чуждость, женщине будет о чем поговорить в литературе. Или ты женщина, или писатель, третьего не дано. А что дано твоей героине?
Что предлагает изобретатель проблемы Кемпбелл? Вот краткое содержание постадийно.
Зов странствий; отказ от зова; сверхъестественное покровительство; преодоление порога; чрево кита; путь испытаний; встреча с богиней; женщина как искусительница; примирение с отцом; апофеоз; награда в конце пути; отказ возвращаться; волшебное бегство; спасение извне; возвращение домой; властелин двух миров; свобода жить.
Стоп, Кемпбелл предлагает это мужчинам.
Вот схема Воглера (для тех, кому лень читать интеллектуала Кемпбелла).
Обыденный мир; зов к странствиям; отвержение зова; встреча с наставником; преодоление первого порога; испытания, союзники, враги; приближение к скрытой пещере; главное испытание; награда; обратный путь; возрождение; возвращение с эликсиром. Постойте, но Воглер тоже предлагает это мужчинам!
Женщины в смысле пути как бы и нет. Чтобы написать путь героини, у нас не хватает данных, воплощенных в мифе. Достижения женщин не мифологизировались, потому что, по сути, мифологизировать было нечего – женщинам в патриархальном мифе (а их и сохранилось большинство) не отводится социальных свершений. Как мифологизировать то, что она «пряла шерсть»?



