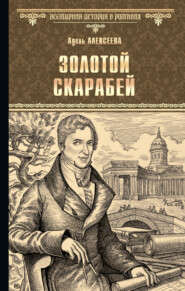скачать книгу бесплатно
Вечером, перед сном, Головин обходил комнаты, заглядывал в углы, молился и, крестясь, напутствовал себя: «Раб Божий ложится спать, на нем печать Христова и Богородицына нерушимая стена и всемощный Животворящий Крест… Враг-сатана! Отрешись от меня в места темные, безлюдные!.. Рожа окаянная, изыди от меня в ад кромешный, в пекло преисподнее. Аминь! Глаголю тебе – рассыпься, сатана! Дую на тебя и плюю!»
Еще перед сном он читал одну толстую книгу – «Жизнь Александра Македонского».
Позабавили Андрея и байки о кошках, которых в селении было множество. В комнате у самого Василия Васильевича семь кошек, и каждую на ночь привязывали к ножке стола, чтоб не прыгали на его кровать. А однажды любимый кот Ванька съел приготовленную для гостей рыбу и сам же утоп в той посудине. Слуги скрыли смерть кота, а барин распорядился его наказать – сослать в ссылку.
Андрей подумал было: «Не пожелает ли барин, чтобы я нарисовал портрет его?»
– Что ты, что ты, – отвечали ему, – этого он не любит! Приходили тут всякие мазилки вроде тебя… Да к тому же нет его тут, он еще в московских домах проживает. Вот придет первое мая – тогда он и явится со всем своим поездом, телег да экипажей штук двадцать.
Покинув Новоспасское село, лошади ехали вдоль реки Яхромы и остановились неподалеку от Москвы. Здесь Андрею предстала не деревянная, хоть и видная, изба Головина, а целая хоромина.
Издали виднелась поднимающаяся от реки великая терраса, уставленная белыми скульптурами. Вдали между елями сверкал на солнце дворец аж в два или три этажа. Рассмотреть дворец и скульптуры Андрею не удалось, но внутри у него шевельнулось какое-то нехорошее чувство: что он знает, что может? Ни сделать скульптуру, ни построить такое здание, а от него ждут проявления художественных способностей. С грустью обернулся он в сторону Юсуповского дворца (а именно князь Юсупов был его владельцем) и вздохнул. Впрочем – впереди была Москва, которую велел осмотреть графский управляющий…
Миновав деревянные домишки, утопающие среди елей, пихт, лиственных деревьев, они оказались на широкой улице. Но что предстало глазам Андрея? Расталкивая прохожих, коляски и кареты, бежали казачки невеликого роста в красных сапожках и выкрикивали: «Дорогу! Сам Архаров едет, Иван Петрович, с угощениями! Посторонись!»
Как писали современники, Архаров встречал гостей у себя с таким искренним радушием, что каждый из них мог считать себя самым желанным для него человеком. Особенно почетных и любимых гостей он заключал в объятия, приговаривая: «Чем угостить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я зажарю для тебя любую дочь мою!» Веселый, Архаров любил потешать своих приятелей разными прибаутками. За обедом подавали пиво, предпочитаемое им другим напиткам, и он, налив стакан, неизменно обращался с таким присловьем:
– Пивушка! – Ась, милушка?
– Покатись в мое горлышко.
– Изволь, мое солнышко.
Но вскоре Андрей увидел еще одну прелюбопытнейшую картину: в низкой коляске, совсем низкой, сидела барыня. Тележку ее, или таратайку, запрягли в старую, малую лошадку, и барыня сама держала в руках вожжи. Для прогулок Архаровой была сделана низенькая тележка, без рессор, с сиденьем для кучера, прозванная в шутку «труфиньоном». Выкрашенная в желтую краску, она была похожа на длинное кресло и запрягалась в одну лошадь, смирную и старую, двигавшуюся самой тихой рысью. Летом Архарова направлялась в труфиньоне к рощам и в хороших местах останавливалась. Труфиньон служил также и для визитов, весьма оригинальных. Поедет Архарова к знакомым и велит вызвать хозяев или, в случае их отсутствия, прислугу:
– Скажи, что старуха Архарова сама заезжала спросить, что, дескать, вы старуху совсем забыли, а у нее завтра будут ботвинья со свежей рыбой да жареный гусь, начиненный яблоками. Так не пожалуют ли откушать?
Современники писали о барыне, весьма характерной для столицы в XVIII веке:
«Проснувшись довольно рано утром, Архарова обыкновенно требовала к себе одну из приживалок, исполнявшую при ней обязанность “секретаря”, диктовала ей письма и почти под каждым приписывала своей рукой несколько строк. Потом она принимала доклады, выдавала из разных пакетов деньги, заказывала обед и, по приведении всего в порядок, одевалась, молилась и выходила в гостиную, а летом в сад. С двух часов начинался прием гостей, и каждый из них чем-нибудь угощался; в пять часов подавался обед. За стол садились по старшинству. Кушанья были преимущественно русские, нехитрые и жирные, но в изобилии. Вино, довольно плохое, ставилось, как редкость, но зато разных квасов потреблялось много. Блюда подавались смотря по званию и возрасту присутствующих. За десертом Архарова сама наливала несколько рюмочек малаги и потчевала ими гостей и тех из домашних, которых хотела отличить. По окончании обеда Архарова поднималась, крестилась и кланялась на обе стороны, неизменно приговаривая: “Сыто, не сыто, а за обед почтите: чем Бог послал”. Она не любила, чтобы кто-нибудь уходил тотчас после обеда.
– Что это, – замечала она, немного вспылив, – только и видели; точно пообедал в трактире. – Но потом тотчас смягчала свой выговор. – Ну, уж Бог тебя простит на сегодня. Да смотри не забудь в воскресенье: потроха будут.
После обеда она раскладывала пасьянс или слушала чтение, преимущественно романов. Ей очень нравился “Юрий Милославский” Загоскина; но когда герой подвергался опасности, она останавливала чтение просьбой:
– Если он умрет, вы мне не говорите…
Архарова относилась очень строго к людям предосудительного поведения. Когда речь касалась человека безнравственного, она принимала суровый вид и объявляла резкий приговор: “Негодяй, – говорила она, – развратник…”
А потом, наклонившись к уху собеседника или собеседницы, прибавляла шепотом: “Galant!..” Это было последнее ее порицание».
«О темпора о морес!» – так говорили древние. О времена, о нравы! А мы добавим: господа, встретившиеся на пути Андрея в Москву, были сколь самовластительны, столь же и забавны, – и подобных он не видал в уральских краях.
Несколько дней ходил-бродил Андрей Никифоров по московским улицам, переулкам, кривым закоулкам и, наконец, немного освоился с прежней столицей Российской империи. Послал депешу графу Строганову в Петербург – мол, готов немедля предстать перед его сиятельством. Каково же было его удивление, когда получил ответ, в котором граф велел ему явиться в Москве к старому Путевому дворцу и найти там архитектора Матвея Казакова: мол, будешь ему помощником в черчении и прочем, а попутно станешь набираться ума-разума. Вот радость, да еще двойная: и учиться будет чему-то, и по Москве можно еще бродить-глядеть…
Однажды, уже не в первый раз, Андрей оказался на Красной площади, на этот раз с мольбертом: решил зарисовать Спасскую башню, а может быть, и чей-нибудь портрет сделать. Лица изображать он любил с детских лет, сперва непохоже получалось, но теперь сразу можно было признать знакомого.
Он уже заканчивал карандашный рисунок Спасской башни, как к нему подошел солидный и красивый мужчина в белом парике. Спросил:
– Можешь мое лицо запечатлеть на фоне этой башни? Мне ехать надобно, путь не ближний, горы и море, а с собой портрет свой, да еще рядом с Кремлем, недурственно было бы взять – на сердце теплее.
Андрей вгляделся в лицо странного человека, а как взглянул, так не мог глаз отвести. Что за славный лик! Правильные черты, прямой нос, брови – две дуги, на губах приятственная улыбка, но главное – общее, какое-то необыкновенное выражение ума и доброжелательности. А ведь в парике, в шитом камзоле – богат, видать, но держит себя, словно ровня ему, безвестному вьюноше.
– Готов? – спросил господин, терпеливо дождавшись, пока художник очинит карандаши и приспособит этюдник.
– Пожалуйста, еще две-три минутки, и я буду готов, ваше сиятельство! – засуетился Андрей.
Ах, как ему хотелось запечатлеть, пусть и в карандаше, сей благородный лик! Он очень старался, казалось, вот-вот получится. Но улица есть улица. Откуда-то возник еще один господин и, состроив забавную рожицу, встал за тем, что в белом парике, да еще растопырил пальцы, а потом заговорил быстро, образно, весело, с многими прилагательными. Видно, они были знакомы, потому что «белый парик» забыл о неподвижности и воскликнул:
– Ба! Кого я вижу! Настоящее сиятельство, князь Иван Михайлович Долгорукий! Откуда и куда путь держишь?
– Дорогой Аполлон Аполлонович, славный наш друг Мусин-Пушкин, кому ты вздумал доверить свою персону? Я для тебя настоящего художника поставлю, Левицкого, он сделает тебе отменный портрет.
Лицо Андрея залилось багровой краской.
– Не смущайся, вьюноша, – заметил «белый парик».
А Долгорукий (тоже простой!), обращаясь к Андрею, произнес целый монолог:
– Молодой человек, знаете ли вы, кто перед вами? Запомни, друг ситный: граф Мусин-Пушкин – человек редких талантов, аристократ, но не вельможа, не барин, ибо посвятил он себя нау-ке! Обладающий обширными познаниями в химии и минералогии, это известный в Европе ученый, член академии наук Петербургской, Берлинской, Туринской и… Лондонской. Его сиятельство начальствует над горными производствами на Урале и на Кавказе! Ты понял – как тебя зовут? – И князь толкнул Андрея в бок. – Андрей, Андрэ? Из наших мест будешь? Уж не из шереметевской или какой усадьбы? Любят они учить дворовых.
– Я еду по приказанию графа Строганова, – окончательно смешавшись, понимая, что рисунок закончить не удастся, пробормотал Андрей.
– Ах, Строганова? Ну это другое дело. Этого – хоть он и граф, а не князь, – я уважаю, бывало, сиживали мы с ним за одним столом, не скажу, за каким.
– Дорогой князь, ты совсем перепугал нашего живописца, перестань шутить.
– Я не шучу: Строганов, а не Шереметев, первый богач в России!
– А что, разве мы с тобой бедны?
– Мы с тобой, Аполлон Аполлонович, богаты, да только не в сундуках и ларцах наши богатства хранятся, а вот здесь! – Долгорукий постучал по голове. – Да еще здесь. – И приложил руку к сердцу.
– Славные твои вирши я читывал, – все с тем же необычайно доброжелательным, ласковым выражением отвечал Мусин-Пушкин.
И тут же, взяв под локоть ученого, направился к спуску, к Москве-реке. Мусин-Пушкин успел лишь шепнуть Андрею:
– Прости, любезный! Авось встретимся, – и сунул ему монетку.
А спустя час или два князь Долгорукий у камина в скромном своем доме – его называли даже «захудалый князь». А он говорил: «Я беден, зато весел».
Глядя на горящие поленья, Иван Михайлович менялся неузнаваемо: вместо весельчака, играющего в пьесках при малом дворе в Гатчине, у будущего наследника Павла Петровича, был он весел и проказлив, а у камина в закатные часы его охватывали воспоминания. Вставали картины, которых он не мог видеть, но – видел.
Красные языки пламени – и кровь, капающая с его деда Ивана Алексеевича. Был он второй персоной при императоре-отроке Петре II – но жестокая судьба слепо осудила его на казнь… Четвертование… Отрубали ноги-руки, он потерял сознание… И все – за его верность юному императору, за то, что не скрыл недовольства к Анне Иоанновне и ее фавориту.
Горячий нравом казненный дед… и верная ему Наталья Борисовна Шереметева. Любовь их до гроба его и до ее пострижения в монахини, до кончины… бабушку он в детские годы видел в монастыре… Оба они лежали в «капище», в святилище его сердца.
Какое утешение находил молодой Долгорукий, потомок славнейшего рода? Театр, актерство, игра! Он научился управлять собой и, будучи ранен судьбой, изображал балагура, таратуя, весельчака. За то его и стали ценить Павел Петрович и супруга его Мария Федоровна…
В последнее время все более утешительными становились часы, в которые он писал свои вирши. Взял перо, бумагу, толстый фолиант подложил снизу и, не зажигая свечи, в отблесках пламени камина стал царапать гусиным крылом:
Пускай себе кружится сфера,
И пусть различная химера
Играет каждого умом!
Творец все к лучшему устроит;
Нас ныне стужа беспокоит,
Зато не страшен летний гром.
Португальский грех и русская расплата
Однако… Ведь у книги этой есть и пояснение: герои ее – друзья-приятели, живописцы, поднявшиеся из народа. Их двое. И пора уделить место жизни будущего друга Андрея Воронихина – Михаила. Для этого следует вернуться лет на десять назад, к окончанию Семилетней войны. Там воевал молодой генерал Александр Ильич Бибиков, а под его началом служил поручик Николай Спешнев.
Елизавете Петровне, русской императрице, царствовавшей безмятежно девятнадцать лет, в конце жизни пришлось-таки ввязаться в войну. Ее Россия вступила в союз с любимой Францией; к ним присоединились Австрия, Испания – и пошли против упорной Пруссии, мужественной Англии и примостившейся на краю полуострова Португалии.
Целых семь лет бросало русских солдат по прусским и шведским лесам, по горным кряжам Швейцарии и Португалии, по морским водам. Царица помрачнела и скончалась, так и не дождавшись конца войны.
А бравый поручик Спешнев шагал иноземными путями-дорогами. Участник Кунерсдорфского сражения, принесшего русским крупную победу, счастливчик! – он без единой раны, в том же бравом виде явился на другом фронте, португальском. Но как только обнаруживалась в боях пауза, он надраивал ботфорты, менял рубашку и отправлялся в местный трактир, то бишь таверну. В таверне «Желтый лев» в Португалии повстречалась ему миловидная девушка, весьма живая и сообразительная. Черные глаза ее то сверкали безудержным весельем, то наполнялись мрачной тоской, и было в ней что-то колдовское. Так что поручик, даже находясь под огнем, всегда чувствовал ее рядом. Смуглая донельзя, она имела талию, подобную тонкой осинке. И в один из заходов в таверну поручик своей медвежеватой ухваткой покорил быструю, как ящерка, смуглянку. В итоге во чреве ее образовалась некая таинственная смесь португальского огня с русской беспечностью.
Поручик был так очарован смуглянкой, что из головы его, как мотыльки, выпорхнули жена, ожидавшая его в сельской тиши близ Торжка, и тем более – богатый и властный тесть. Жили они с женой немало, лет семь, но детей Бог не давал. А тут смуглянка лепечет по-своему и что-то показывает – то на арбуз, то на себя: мол, скоро таким же круглым будет ее живот.
В тот год кончилась война, и настала пора поручику возвращаться домой. Что делать, как быть? Недолго думая, позвал он с собой смуглянку – мол, люблю и поедем вместе в Россию. Забросила она за спину мешок – и в кибитку. А морщинистая, как горный кряж, старуха, ее бабка, выбежала из домишка и долго что-то кричала, потрясая в воздухе кулаками, проклиная и девицу, и соблазнителя ее.
Но разве не прав был поручик Спешнев? У самого детей нет, жена не сподобилась, – неужто не примет она младенца, а заодно не простит и его? Всю дорогу сидела смуглянка на заднем сиденье и молчала. Ноги покрыты шкурой, на голове повязан красный платок, и сверкает глазами – драгоценными каменьями, а закроет их – видны только темные впадины да нахмуренные брови.
Чем ближе к Торжку, тем меньше погонял лошадей Николай Спешнев, и лицо его скучнело. Вспомнил сердитого тестя, жену – и страх подкрался к сердцу.
Кони встали в конце аллеи, возле усадебного дома. Он вышел из кибитки – Авдотья Павловна сбежала с террасы, всей своей дородной мощью навалилась на него, и некрупное, худощавое тело его скрылось среди пышных юбок и рукавов. Но тут пришла и минута расплаты: жена увидела, как из кибитки вылезла брюхатая, черномазая незнакомка на тонких ножках…
– Это чё это? – остолбенела супруга.
Николаю Петровичу, забывшему про храбрые победы, пришлось путано и косноязычно объяснять: мол, не бросать же с дитем девчонку? А супруга между тем, приставив ко лбу руку, похожую на солдатскую лепешку, рассматривала полонянку. Сама при этом каменела, и, казалось, еще немного – окаменеют и чернявая, и напроказивший муженек.
Однако… Никто не окаменел от взгляда горгоны. Напротив, она вдруг подобрела. Отвела беглянке флигелек за садом, дала девку дворовую, и с того дня – будто ничего в доме не случилось. Смилостивилась грозная супруга. Но мужу туда ходить – ни-ни – запретила. Николай Петрович, даром что храбрец на войне, притих – лишь бы дитя спокойно родилось. Супруга молчала, и он, герой Кунерсдорфа, помалкивал.
Надо сказать, что в том, полном приключений и забав XVIII веке подобные истории были не такой уж редкостью – жены смирялись и даже принимали родившихся на стороне младенцев в свои семьи.
Спустя месяца два донесся до усадьбы отчаянный младенческий крик: старуха-повитуха приняла на руки большеголового, черномазого мальчика, и стал он жить в тишине флигелька, набирать вес. Смуглянка кормила его грудью и совсем исхудала. Николай Петрович смотрел на нее с печалью, издали, и сердце его щемило. Однажды (супруги в саду не было) открыл дверь флигеля – черные маслины глаз блестели из угла – и подошел к колыбели. Там лежал синеглазый толстощекий младенец, молча, с любопытством глядевший на гостя. На груди его перекатывалась ладанка. «Откуда?» – спросил он незадачливую свою возлюбленную. Та, отведя в сторону глаза, что-то пробормотала про бабку, кожаный ремешок и старинную заколдованную ладанку… «Прости меня», – попросил он. Она ответила: «Хвораю я» – и отвернулась.
Между тем жаждавшая иметь детей Авдотья Павловна – чего только ни сделается, ежели человек очень пожелает? – забеременела. На глазах пухла она, пока не разобрались, что неспроста. И было как раз то время, когда смуглая полонянка стала кашлять, тосковать и худеть. Потом у нее горлом пошла кровь…
Отставной поручик крадучись ходил на ее могилку и так же – во флигелек к младенцу. А возвращаясь, с недоумением глядел на жену, которая день ото дня округлялась. А там и родила. И тоже мальчика. Тут слетелись кормилицы и няньки, и зашумел, заскворчал помещичий дом. Отставной поручик, конечно, тоже радовался новорожденному.
А Авдотья Павловна между тем задумала черное дело. Зима в тот год будто нарочно вступила с ней в заговор против сиротки: флигель промораживало, продувало – и годовалый малыш, которому мать дала имя Мигель, а отец – Михаил, стал болеть.
«Не расти моему родному дитяти с чертенком иноземным! – поклялась Авдотья Павловна. – Надумает еще супруг и в завещании упомянет его». И вот однажды, когда муженек был в отлучке, а чертенок опять кашлял, приказала она девке Палашке увезти младенца в Москву да и подбросить его там возле какого-нибудь богатого дома.
– Сказывают, живет там чудак один, барин Демидов, дом строит для таких-то… подкидышей да незаконных. Поняла?
Та все поняла – и дело было сделано. А супругу объявили, что заболел младенец горлом и похоронен рядом с матерью. Николай Петрович поплакал втайне и… отправился на новую войну.
…На чем въезжают в жизнь, в историю самые удачливые люди? На тройке легкокрылых коней, один из которых – жизненная сила, другой – историческое благоприятствование, а третий – могучие крылья за спиной. Люди эти не очень грамотны и не брезгают никакими приемами. Зато потомки их пересаживаются на других коней. И снова тройка птицей летит по просторам. Тут один из коней – беспутная трата денег, другой – милосердие, служение Богу, а третий – чудачества и прихоти от великого богатства. Ну и образованность витает…
Так было в том веке с уральскими Демидовыми. Прокопий Акинфович, которому уже близилось к шестидесяти, был не только образован, не только объехал европейские страны, но имел и сугубый интерес к наукам. Каким? Естественным. Развел сады в Москве, и росли там невиданные цветы и деревья, вызревали даже ананасы и виноград. Особенное пристрастие имел он к травам лекарственным, даже издавал «Травники». А еще пустил капиталы, нажитые отцом и дядьями, уральскими заправилами, на собственные причуды, которым не было конца. Это он заложил над Москвой-рекой Нескучный сад, и было в нем пять террас, восемь оранжерей, множество кустов и деревьев, а в уединенных уголках играли невидимые эоловы арфы.
Екатерина II не без презрительной мины как-то сказала, что, мол, москвичи так любят свой город, что думают, будто нигде, кроме Москвы, и не живут люди. И к городу этому, кичившемуся знатностью, императрица обратила свои взоры: Петербург, мол, давно распланирован, а Москва растет сама по себе, без всякого порядка, как трава под ногами. Занялись по ее указанию архитекторы проектами Большого Кремлевского дворца, Университета, Царицынского дворца…
Кто-то написал докладную бумагу о том, что по Москве вольно бегают беспризорные дети, брошенные нерадивыми родительницами. И тут же был создан проект Воспитательного дома, да таких гигантских размеров, что он бы всю ширину Москвы-реки занял.
Заманчивый был проект – одним махом всех убивахом! В здании разместились учебные комнаты, спальные, столовые, мастерские. И надпись снаружи: «Для благородного и мещанского юношества, для приносимых детей Дома и Госпиталя, для бедных родительниц в столичном городе Москве». Воспитанники должны были в том доме становиться башмачниками, красильщиками, перчаточниками, огородниками, садоводами, ткачами, граверами. И притом – оставаться «вечно вольными людьми».
Только вот беда: проект Воспитательного дома был столь грандиозен, что у казны не хватило денег на строительство, – и дело застопорилось. Но императрица издала новый указ (не без влияния, кажется, Руссо): чтобы богатые жертвовали деньги на сие благородное дело.
Тут-то и показал свои великие возможности Прокопий Акинфович Демидов. Жертвователей и меценатов в течение долгих лет было немало, но первый – Демидов, который сразу выложил двести тысяч ассигнациями, написав императрице, что желает «иметь о несчастных попечение и начатое в Москве каменное строение достроить своим иждивением».
Екатерина задумала еще и спрямить улицы в Москве, сделать кольцо бульваров и осуществить целую серию других градостроительных работ. Золотой век московского дворянства! В городе сохранился еще усадебный стиль, а Матвей Казаков и Василий Баженов ставили здания так, чтобы придать им «наивеликолепнейший вид». Так же величественно поднялся на берегу реки Москвы Воспитательный дом.
Сюда-то, в этот дом, после многих мытарств по гостиницам с актеришками и иными непутевыми людьми и попал наш подкидыш по имени Мигель, или Михаил. На бумаге при нем было начертано: «Михаил, Богом данный». И фамилию ему определили – Богданов.
Когда-то царь Петр I издал указ, чтобы незаконных детей определять к учению, рисованию, резьбе по дереву и камню. Предметы эти были и в московском Воспитательном доме. Одевали воспитанников в серые платья, кормили как придется, а учили «передовыми» способами: линейкой по спине, розгами по мягкому месту и коленками в угол – на горох.
Каждое утро собирали учеников и читали гласно и внятно отрывок из Евангелия, по одним дням – из «Апостола», а по средам и субботам – из катехизиса. Задумано было недурно, только ученики почему-то от тех чтений впадали в сон да в меланхолию. Что уж говорить о Михаиле, душа которого наполовину была португальской?
Мишка-Мигель сидел на уроках неспокойно, егозил, успевал давать соседу подзатыльник, а глаза свои – синие камушки – не спускал с учителей, будто со всем вниманием слушает. На переменах был подвижен и ловок, словно чертенок. И изобретателен в полной мере – по весне кораблики выделывал, пускал по ручьям на зависть ребятам, в прочее иное время брал что ни попадет в руки (гусиное перо, мел, палочку) и рисовал разные фигуры – на снегу, на песке, на доске. Однажды нарисовал учителя-чертежника, опускающего длань на голый зад воспитанника, учитель узнал себя и еле остроганной палкой раз десять огрел сорванца, так что потом ему полвечера вытаскивали занозы.
Часто забегал Миша в комнату, где в углу голубел-синел глобус, вертелся возле него и мечтал о том, чтобы побывать в неведомых краях.
На уроке словесности читали Ломоносова, запоминали «Письма о пользе науки», а также стихи:
…Фортуну обижаем,
Как власть ее советам причисляем:
Что счастьем сделалось, что случай учинил,
Величеству своих приписываем сил.
Что это стихи – Миша не понял, но в словах чудилось что-то похожее на глобус. Фортуна, судьба, высшая воля – разве не они определяют жизнь? И екало в груди: не может судьба летать на крыльях по небу и не заметить его, Мишатку безродного, одинокого! Только не догадывался он, что судьба есть дама весьма капризная, которая является лишь по своей прихоти.
И все же она явилась! Явилась на страстный его зов. Не в виде ангела с крыльями, а в виде громадного, как каланча, мужика в халате. То был Демидов Прокопий Акинфович. Он приехал в Воспитательный дом в бархатном халате, в сафьяновых сапогах, и всякий, взглянув на него, понимал, что такой важный животина может принадлежать лишь начальственной особе. Выражение лица его было любопытствующее и насмешливое, а на лбу две кочки болотные – кустики широко разбежавшихся бровей.
Смотритель Воспитательного дома расшаркался, но важный великан сразу осадил его:
– Скажи-ка лучше, кто тут у тебя… имеется посметливее… Паренька надо, у которого мысли в голове скоро бегают.
Привели к Демидову Михаила.
– Экой ты чумазый, чертенок! А ну, покажи, что умеешь.
Мишка кувырком перевернулся, на руках походил, на листе бумаги корабль изобразил…
– А теперь замри… на одной ноге. Сколько можешь простоять?
Замерев на одной ноге, паренек считал про себя: раз, два, три, четыре… До сорока досчитал.