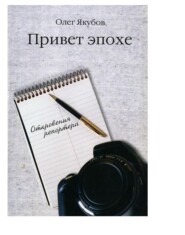 Полная версия
Полная версияПривет эпохе
И тут же получил подарок, поистине для журналиста сказочный. Не отвечая впрямую на мой слишком уж прямолинейно построенный вопрос, Абу-Мазен заговорил об ином:
– Вы, как я понял, гражданин Израиля. Так вот, известно ли вам что-нибудь о нашем намерении изменить текст палестинской Хартии и об изъятии из него тех пунктов, которые касаются Израиля и евреев?
– Известно, что Нетаниягу получил письмо по этому поводу от Арафата, но особых подробностей, честно говоря, не знаю.
– Вот видите, – с удовлетворением отметил Абу-Мазен. – Даже израильская пресса не удосужилась сконцентрировать свое внимание на этом поистине историческом для нас всех моменте. Как же вы не понимаете, что Хартия имеет для нашего народа особое, святое значение? Это и наша Конституция, и наше знамя, и наша идеология. Да, еще вчера палестинцы и думать не могли и не смели, что текст Хартии может быть изменен, а сегодня мы эту работу уже проводим. У нас даже готов вариант, рабочий конечно, в котором изъяты все касающиеся Израиля пункты. Понятно, что мы испытываем сильнейшее сопротивление внутренней оппозиции и для того, чтобы это сопротивление преодолеть, нужно время и время немалое. Я уж не говорю, что сам технический процесс – составление нового текста, его обсуждение, да, в конце-концов, чисто техническое издание новой Хартии – на все это тоже требуется время. И когда мы говорим, что новая Хартия не просто будет составлена, а уже и опубликована через полгода, в Израиле нам не хотят верить. Разве это не обидно? – заключил он свой горячий монолог.
И тут у меня появилась поистине шальная мысль, которую я тут же и озвучил:
– Господин Абу-Мазен, вы уже знаете, что я главный редактор «Международной газеты». Эта газета распространяется в Израиле и еще в одиннадцати странах мира. И я хочу предложить следующее. Вы предоставляете мне сейчас текст Хартии в том виде, каким он является сегодня, и подчеркиваете те пункты, которые намерены из документа изъять. Я, как главный редактор «Международной газеты», обязуюсь на двух развернутых страницах опубликовать оба варианта. Это будет очень наглядно: на левой странице – текст существующей Хартии, на правой – проект предполагаемой. Разумеется, в своем комментарии я укажу, что новый текст представляет из себя рабочий вариант. Если через полгода, как вы утверждаете, будет опубликована новая палестинская Хартия, эта газета, а она официально зарегистрирована министерством юстиции Израиля, станет лучшим документальным подтверждением вашей правоты и намерений.
Абу-Мазен задумался надолго, я уж стал опасаться, что его молчание – форма вежливого отказа, когда он вновь заговорил:
– Это очень интересное предложение. Но я не могу принять решение по такому важному для нас вопросу единолично. Насколько я знаю, Арафат уже приехал. Подождите здесь, я попробую к нему зайти переговорить с ним.
Его не было около часу. Но побыть в одиночестве мне не давали. Каждые несколько минут появлялся какой-то человек, вежливо, но настойчиво предлагающий мне поочередно то кофе, то чай, то прохладительные напитки или сэндвичи. Я полагал, что мои отказы дадут понять, что в его услугах я не нуждаюсь, но он, с видом человека, который добросовестно выполняет порученную работу, появлялся вновь и вновь. Наконец, вернулся и Абу-Мазен.
– Идемте, у председателя очень мало времени, но вас ждут, – поторопил он меня…
Арафат в своем просторном кабинете явно демонстративно стоял возле палестинского флага. Выглядел он точно так, как на портретах, известных всему миру. «Раис» произнес одну-единственную фразу: «Я согласен», и на этом аудиенция была закончена. Вполне возможно, он считал, что сделал для израильского журналиста и так слишком много, удостоив его чести лицезреть себя. Как бы там ни было, но уже через несколько минут мне принесли текст Хартии на русском языке и в брошюрке чьей-то аккуратной рукой были отмечены пункты-призывы, предлагающиеся забвению. Конечно же, я все это опубликовал, но по прошествии полугода никаких изменений в Хартии не произошло и материал этот, как говорится, канул в Лету.
А теперь – анекдот времен парвления Арафата. На одной из конференций по проблеме урегулирования израильско-палестинского конфликта, кто-то из выступающих со стороны Израиля политиков сказал:
«Прошу заранее прощения за небольшой экскурс в древнюю историю в качестве вступления к моей речи. Когда Моисей вывел народ свой к земле обетованной, то увидел он реку Иордан. Снял с себя Моисей одежды, ступил в прозрачные струящиеся воды святой реки, смывая с себя пыль пустынных песков и сорокалетнюю усталость, и вознес хвалу Господу Богу за то, что помог ему вывести евреев из рабства. А когда Моисей вышел на берег, то обнаружил, что одежды его нет, ее украли палестинцы…
– Наглая ложь! – гневно прервал израильтянина вскочивший со своего места Арафат. – Никаких палестинцев здесь тогда еще и в помине не было.
– Вот как раз об этом я и хочу сегодня поговорить более подробно, – ответил израильтянин.
Х Х
Х
…Весь год, что издавалась наша «Международная газета», я недоумевал, на кой ляд это сдалось моему издателю. Ларчик открылся очень просто. Как-то на три дня улетел в Москву на всемирный конгресс русскоязычной прессы. А когда вернулся, узнал, что газета продана. Юридически наше партнерство с издателем оформлено не было, все зыбко держалось на джентльменских договоренностях, так что на сей раз я, действительно, оказался безработным.
Вот тогда-то мне и пришла в голову идея создать международное информационное агентство. Его регистрация в израильском министерстве юстиции заняла у адвоката двадцать минут и агентство «Континент» в 1996 году пустилось в самостоятельное плавание.
ОКНО СВОБОДЫ
С Сергеем Михайловым мы познакомились сначала заочно. Как-то, дежуря по номеру в израильской газете «Время», увидел коротенькое официальное сообщение пресс-службы в полиции. В сообщении говорилось, что в тельавивской гостинице «Хилтон» обнаружены два трупа, идентифицированные, как граждане России Аверин и Михайлов. Год спустя, я уже был главным редактором международного информационного агентства «Континент», встречаю заметку: «В Женеве арестован гражданин России Михайлов».
Позвонил знакомому адвокату, зная, что он большой любитель криминальной хроники. Тот, услышав мой голос, аж закричал:
– Ну, надо же, какое совпадение. Я тебя повсюду ищу, а ты сам звонишь.
– А что стряслось-то?
– Понимаешь, в Женеве арестован Сергей Михайлов, там у него есть кое-какие эпизоды, связанные с Израилем, так что я еду в Швейцарию. Но дело даже не в этом, а в том, что человека арестовали абсолютно без всяких на то оснований. И я тебе хотел кое-какие материалы показать. У тебя сейчас как со временем, а то я вечером улетаю.
– Если устроит, через час подъеду. Ты мне только скажи, это не тот Михайлов, про которого год назад писали, что его труп в «Хилтоне» обнаружен.
– Тот самый, то самый! – воскликнул адвокат. – И тогда врали, и сейчас о нем в Европе такого вранья понаписали, что самое время кому-то объективно разобраться.
Я познакомился с документами. Арест Михайлова выглядел, по меньшей мере, каким-то недоразумением. Бельгийская газета «Ле суар» опубликовала статью, где сообщала своим читателям, что Сергей Михайлов возглавляет русскую мафию, замешан во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. «Бельгийцы написали, швейцарцы охотно поверили и тут же арестовали – чушь собачья, еще б написали, что он детей малых ест, -подумалось мне, – с такими обвинениями через пару дней отпустят.
Надуманность обвинений была настолько очевидна, что в скором освобождении не сомневался ни сам Михайлов, ни его адвокаты. Мне так прямо и заявил об этом известнейший бельгийский адвокат, бывший президент коллегии адвокатов Бельгии и потому носящий титул «батонье» Ксавье Магне, единственный из европейских адвокатов награжденный орденом Почетного легиона.
Знакомство с Магне началось для меня не очень приятно. Условившись заранее о встрече, я приехал к нему в брюссельский офис. Чуть не с порога Магне заявил мне, что этот порог вот уже больше десяти лет не переступал ни один журналист.
– Отчего же? – поинтересовался я у мэтра.
– У меня была самая большая в Европе коллекция карманных часов. Лучшие экземпляры в специальных шкафах находились в этом офисе. Однажды ко мне пришел репортер, который хотел узнать, за что я награжден орденом Почетного легиона. Я сказал, что не смогу удовлетворить его любопытства, так как дело, которое я вел, связано с интересами сразу нескольких государств Европы и время приоткрыть завесу тайны еще не наступило. Репортер ушел, а на следующий день у меня украли коллекцию. Правда, не всю, но то, что сейчас вы видите, лишь жалкое подобие былого собрания.
– Так вы полагаете, что после моего визита у вас украдут остатки коллекции?
– Время покажет, – без тени улыбки произнес мэтр.
В этот момент в кабинет батонье зашла секретарь в строгогм темном костюме. На серебряном подносе стояла крохотная рюмочка с каким-то янтарным напитком и внушительно размера хрустальный стакан, доверху наполненный водкой. Магнэ взял рюмочку, водку же предложили мне.
– Прошу прощения, мадам, но я не пью водку.
Секретарь опешила, потом произнесла строгим наставительным тоном: «Господин адвокат сказал, что у него будет сегодня русский. Я читала Достоевского, русские пьют водку».
– Сожалею, мадам, но с некоторых пор пить водку мне не велят врачи.
Удовлетворенная этим объяснением, она с достоинством удалилась.
А мэтр долго, со вкусом, рассказывал мне о своей жизни, о любви к музыке, но когда мое терпение иссякло и я довольно невежливо напомнил ему, что пришел за комментариями по поводу дела Михайлова, Магне заявил, что никакого дела нет, раздуть его не удастся и вскоре мсье Михайлова несомненно освободят.
Тогда еще никто не ведал, что швейцарская юстиция затеяла не уголовный, а сугубо политический процесс и что Михайлову предстоит томиться в одиночной камере два года и два месяца.
Каждые три месяца в женевском Дворце юстиции заседали судьи и каждый раз объявляли подследственному и его адвокатам, что не видят оснований для изменения меры пресечения. На каждом из этих заседаний, что для дальнейшего рассказа немаловажно, мне довелось присутствовать. Но вот, наконец, дело было передано в суд, методом лототронного жребия избрано жюри из шести присяжных и шести дублеров присяжных, процесс начался.
В самом начале прокурор Жан Луи Кроше ( с французского языка «кроше» переводится как «крючок) сделал обескураживающее для меня заявление. Он потребовал от председателя суда Антуанетты Стадлер немедленно удалить меня из зала, пояснив при этом:
– Я считаю господина Михайлова криминальной личностью. А журналист Якубов на протяжении двух лет, единственный в мире, защищал господина Михайлова в своих статьях. Поэтому я считаю господина Якубова криминальным журналистом и требую его удаления из зала судебного заседания». Председатель суда проверила мою аккредитацию на процессе, лицензию журналиста-международника, на основании которой я был аккредитован во Дворце юстиции и сказала, что у нее нет юридических оснований запрещать господину Якубову выполнять свои профессиональные обязанности на данном процессе.
Судебные заседания продолжались две недели. В итоге жюри присяжных вынесло вердикт: не виновен. Антаунетта Стадлер объявила, что все издержки по содержанию подследственного Михайлова в тюрьме, а также расходы на производство судебного процесса она относит на счет юстиции кантона Женевы. В этот самый момент произошло невероятное. Одно из окон, находившееся под самым потолком зала заседаний, вдруг, само по себе, распахнулось и зал наполнился свежим декабрьским ветром.
Процесс завершился и остававшиеся на этот час в зале свидетели защиты бросились поздравлять Сергея Анатольевича с освобождением. Попытался протиснуться сквозь толпу и я. Оказавшись довольно близко от Михайлова, выкрикнул: «Сергей Анатольевич, полагаю, что и нам пришло время познакомиться лично».
– А кто вы? – резко обернувшись, спросил Михайлов.
Я представился, не понимая, чем вызвано такое удивление. Уже позже Сергей пояснил, что все два года, приходя на заседание суда, он принимал за меня совершенно другого человека. Ну, а пока мы обменялись крепким рукопожатием и расстались. По процедуре, установленной в Швейцарии, из зала суда никого не освобождают. Подсудимый, даже признанный невиновным, должен вернуться туда, куда его доставили в суд, то есть в тюрьму, а лишь оттуда его выпустят на свободу.
На высоких ступенях Дворца юстиции толпилась группа телевизионщиков. Они подошли и попросили о коротком интервью.
– Скажите, вас обидело, когда в первый день суда прокурор Кроше попросил вашего удаления из зала? – прозвучал первый вопрос.
– Напротив, я очень благодарен господину Кроше за то, что он присвоил мне звание самого справедливого журналиста мира.
– Как это? – не понял коллега.
– Да очень просто. В первый судебный день прокурор Кроше официально заявил, что я – единственный из всех журналистов, кто писал позитивные статьи о господине Михайлове. Поскольку сегодня жюри присяжных единогласно признало Михайлова невиновным, то, следовательно, я оказался самым справедливым из журналистов…
А на следующий день адвокаты Михайлова узнали, что швейцарские власти приняли решение депортировать Сергея в Россию. Была суббота, и адвокаты решили, что спокойно могут до понедельника отдыхать, так как никто этим делом в выходные дни заниматься не станет. Я же про себя решил, что депортируют именно сегодня, не дожидаясь начала новой недели. Причем, отправят непременно не самолетом швейцарских авиалиний, а рейсом Аэрофлота. О жадности и расчетливости швейцарцев рассказывают легенды и анекдоты. Бытует даже такая шутка, что швейцарец никогда не отправится спать, прежде чем не пересчитает несколько раз тот единственный франк, который заработал за минувший день. На этом фундаменте и основывалось мое логическое построение. Риск, конечно, был велик, но кто не рискует, тот не берет эксклюзивных интервью. К тому же мне очень хотелось первым поприветствовать Сергея на свободе.
Купив билет на самолет Женева-Москва, я сожалением убедился, что Михайлова на борту самолета нет. Не решусь повторять здесь слова по поводу собственных умственных способностей, которые я мысленно адресовал сам себе. Пассажиры уже начали проявлять беспокойство в связи с задержкой вылета, когда в проеме люка возник Михайлов. Не сдержав эмоций и с возгласом: «Какой я гениальный», я приветственно взмахнул рукой.
– Откуда ты здесь? – изумился Сергей.
– Я тебя вычислил, – ответил я ему фразой из дремучего анекдота.
После недолгих переговоров со стюардессой, мы заняли два соседних кресла, и я предложил выпить за свободу Сергея. Он отказался. «Тогда позволь мне выпить за твою свободу одному», внес я неоригинальное предложение. «Нет уж, позволь мне тебе этого не позволить», легко засмеялся Сергей и мы хлопнули по рюмке.
– Скажи, пожалуйста, а что случилось с окном в зале суда, когда огласили вердикт о твоей невиновности. Это что, кто-то из служителей тебя решил так здорово поздравить? – задал я Сергею вопрос, который точил меня со вчерашнего дня.
– В том-то и дело, что нет, – возразил Михайлов. – Я потом специально у служащих интересовался. Утверждают, что те самые окна, что под потолком, можно открыть только при помощи специального приспособления – это, во-первых. А во-вторых, специальная техническая инструкция Дворца юстиции категорически запрещает открывать окна в залах, когда там находятся люди. короче, за всю историю Дворца юстиции ничего подобного не было. Но я тебе более удивительную историю из вчерашнего дня расскажу. Я человек верующий.
– Да, мне твои друзья рассказывали.
– Так вот. За несколько минут до того, как выйти в зал и выслушать вердикт присяжных, я открыл Библию, ибо в ней все и о каждом из нас сказано. Открыл, заметь наугад и фразу прочел тоже наугад. Вот, слушай, что я прочел из Апостола Павла: «И будете оправданы не потому, что невиновны, а потому, что веруете в Бога». Так что вердикт я, можно сказать, уже знал.
О многом мы успели поговорить за тот рейс. Показал я Сергею в полете и фотографию своей дочери. Он разглядывал ее довольно долго, потом неожиданно говорит:
– Что-то у нее с горлышком неладно.
– С чего это ты взял?
– Вижу, – лаконично ответил он.
В Москве была радостная встреча Сергея с друзьями, родными, я тоже был приглашен. Домой прозвонил лишь на следующий день. Спросил, как здоровье дочери. Жена ответила, что, в целом, все нормально, небольшая ангинка, правда, прицепилась, но ничего страшного, просто девочка мороженым увлеклась.
ВСЕ ЦЫГАНЕ – БРАТЬЯ
У крупных российских предпринимателей и меценатов Сергея Михайлова и Виктора Аверина был в молодости старший друг – цыганский певец Николай Понамарев. Дядя Коля, как они его называли, так же, как и мальчишки, обожал голубей и, несмотря на значительную разницу в возрасте, возился с пацанами, ходил с ними на рыбалку, не чурался вместе лазать на голубятню. Ну, а когда дядя Коля рал в руки гитару, мальчишки просто замирали.
Недавно московский поэт Игорь Шкляревский обратился к меценатам с просьбой помочь ему издать книгу стихов о цыганах. Никогда прежде не было еще такой книги, где были бы собраны стихи всех известных русских и зарубежных поэтов, написанные за многие века о цыганах. Сергею Анатольевичу и Виктору Сергеевичу идея сборника пришлась по душе, они охотно поддержали этот проект, а вышедшую «Цыганскую книгу» посвятили своему покойному другу Николаю Васильевичу Пономареву. Помимо стихов в этой книге опубликовано много фотоиллюстраций, которыми поделилась вдова Николая Васильевича – Антонида.
История любви Николая и Антониды сама заслуживает отдельной книги, она романтична, как вся цыганская жизнь.
…Эшелон, в котором вместе с другими эвакуированными ехала семья Пономаревых, попал под бомбежку. Тщетно искал тринадцатилетний Коля своих родителей. Больше месяца скитался он по бескрайней России, пока не набрел однажды на воинскую часть. Кудрявого пацаненка отмыли и накормили, впервые за долгое время он уснул не на лесных ветках, а завернувшись в солдатскую шинель, которая показалась ему, измученному долгими скитаниями и страхом, мягче самой пушистой перины. Сын полка Николай Пономарев праздновал Победу вместе со своими однополчанами и вся рота лихо отплясывала под звуки его гитары.
После войны артист цыганского ансамбля песни и танца с гастролями исколесил всю страну. Где только не довелось ему побывать – Комсомольск-на-Амуре и Магадан, Хабаровск и Алма-Ата… В 1948 году приехал он на гастроли в Новосибирск, и в клубе, где выступали, увидел юную танцовщицу со звучным именем Антонида. Они только взглянули друг на друга и каждый понял – судьба.
О таких, как Николай Васильевич, говорят: душа нараспашку. Он уже давно ушел из жизни, а люди вспоминают его только добром. И не удивительно, что именно ему посвятили «Цыганскую книгу» Сергей Михайлов и Виктор Аверин.
Когда книга вышла, решили устроить презентацию нового издания. Сергей Анатольевич подсказал: «Книга о цыганах, вот и презентацию надо устраивать среди цыган. Театр «Ромэн» – вот самое подходящее место». Как автор предисловия и один из составителей книги, я взял организационные хлопоты на себя. Позвонил в театр «Ромэн, представился, стал объяснять: вышла книга, впервые собравшая на своих страницах лучшие стихи о цыганах. Хотим провести презентацию книги в театре «Ромэн», а также подарить артистам только что увидевшие свет экземпляры. После долгого молчания меня спрашивают: «Зачем?» Дальше все было как в миниатюре Жванецкого, гениально исполненной Карцевым и Ильченко: был у нас доцент тупой и студент Аваз. Я, как заведенный, повторял историю про книгу, натыкаясь всякий раз на обескураживающий вопрос – зачем. Потом в нашем однообразном диалоге появилось некоторое разнообразие. После очередного изложения фабулы меня спросили: «А что нужно взамен?»
– Если книга понравится, нужно будет обязательно сказать «спасибо».
Я понял, что иронией не добился нужного результата, ибо тут же получил встречный вопрос: «А что еще кроме «спасибо»?
Но вода, как известно, камень точит. Театральные администраторы посоветовались с художественным руководителем «Ромэн» народным артистом Советского Союза Николаем Сличенко и Николай Алексеевич дал «добро».
Для презентации был выбран день очередного спектакля. Зрители, собравшиеся в фойе, на нашу инициативу отреагировали живо, подарочные экземпляры книги расхватали минут за десять. Вместе со мной в театр приехали сыновья Николая Васильевича Пономарева – Николай и Эдуард. После презентации мы поднялись на служебный этаж, поздороваться со Сличенко и подарить ему книгу. Выяснилось, что худрук еще не приехал, но будет с минуты на минуту. В коридоре прохаживались уже переодетые и загримированные для спектакля артисты. Они поглядывали на нас с явным любопытством, потом один из них подошел к Николаю, старшему из братьев Пономаревых, не скрывая, стал его разглядывать, а потом не столько спросил, сколько сказал утвердительно: «Ты – Коля. Пономарев».
Николай несколько растерялся, но, естественно, подтвердил.
– Ха! – торжествующе возликовал артист, облаченный в пурпурный плащ и широченные черные шаровары. – Ты же мой двоюродный брат.
Повторилась еще одна классическая сцена, когда Балаганов, пытаясь избежать справедливого возмездия, тискал Паниковского и с фальшивым восторгом кричал: «Коля, узнаешь брата Васю?», с той, конечно, разницей, что здесь все было вполне искренне.
Когда артист умерил пыл восторга, он спросил Николая, сколько ему теперь лет и, выслушав ответ, воскликнул: «Ничего удивительного, что ты меня не узнал, мы почти сорок лет не виделись».
– А как же вы-то его узнали? – не удержался я от вопроса.
– Голос крови! – самодовольно воскликнул актер. – Этот голос никуда не спрячешь и он никогда не обманет. Да, кстати, – спохватился он. – Тут же еще твои браться есть и сестры тоже.
Через мгновение Николая и Эдуарда окружила плотная группа артистов, Многие из них, те, кто постарше, прекрасно помнили и отца Пономаревых и их маму Антониду.
В самый разгар этой бурной эмоциональной встречи появился блистательный Сличенко. Был он в эффектном светло бежевом пальто, такого же цвета широкополой шляпе и звучный его голос легко перекрыл общий гам: «Могу я узнать, что здесь происходит в то время, когда все должны быть на сцене?!»
Николаю Алексеевичу наперебой начали объяснять, какое диво дивное произошло только что в театре «Ромэн» – после сорокалетней разлуки встретились близкие родственники. Сличекно принял соломоново решение мгновенно, скомандовав: «Артисты – на сцену, гости – в зал, а после спектакля прошу ко мне в кабинет. Грех не отметить такую удивительную встречу».
После спектакля все потянулись в кабинет к Сличенко, где уже был накрыт стол – об этом тоже заблаговременно позаботились меценаты Михайлов и Аверин. Стали заново рассказывать, как произошла удивительная встреча братьев, помянули добрым словом Николая Васильевича Пономарева. А потом Николай Алексеевич Сличенко подошел к кабинетному роялю и без всякой наигранности, а очень искренне сказал, обращаясь к братьям Пономаревым: «Я хочу спеть и посвятить эту песню вашей маме». И кабинет наполнился звуками его дивного голоса, которым Сличенко покорял весь мир.
МНОГОЛИКИЙ ВИНОКУР
Позвонил Владимиру Винокуру по телефону, чтобы договориться с ним об интервью и неожиданно получил отпор в довольно резкой форме: «Мне сейчас не до интервью». Отказ был тем более неожиданным, что с Владимиром Натановичем знакомы мы были к тому времени уже много лет и интервью я у него брал не единожды, и в дружеских компаниях вместе сиживали.
– Что-то случилось, Володя? – не торопился я обижаться на отказ.
– Случилось-случилось, еще как случилось. Не успел на израильскую землю ступить, и на тебе – сюрприз. Девочку у меня одну, артистку, депортировали.
– Володя, давай все же встретимся, расскажешь все подробно, может, я чем-то помочь смогу.
История, которую рассказал Винокур, была действительно вопиющей. Когда артисты его театра, прилетевшие в тельавивский аэропорт имени Бен-Гуриона, проходили паспортный контроль, пограничник предложил одной из девушек отойти в сторонку. Вскоре явился офицер, актрису куда-то увели. Не было ее довольно долго, больше часа. Винокур забеспокоился, отправился на поиски. Когда ему наконец удалось разыскать нужного чиновника, тот объяснил, что гражданка России Елена Мартынова депортирована из Израиля и уже находится в самолете, улетающем в Москву. «За что?» – обомлел Винокур. Офицер все так же бесстрастно пояснил, что гражданка Мартынова была замечена в занятиях проституцией.
– Нет, ну представляешь, Ленка и проститутка! – неистово возмущался Винокур. – Да ей едва-едва восемнадцать исполнилось. Чистый ребенок. Она, по-моему, еще и с мальчиками не целовалась.

