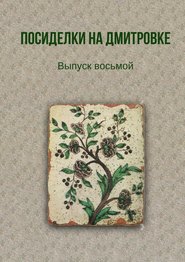
Полная версия:
Посиделки на Дмитровке. Выпуск восьмой
– Ты, что, издеваешься над народным судом?
– Нет, – ответил Егор Иванович, – не издеваюсь, а интересуюсь. Если голову не конфискуете, а Бог даст – из тюрьмы живым вернусь, опять все наживу. И дом поставлю, и скотину заведу.
На следующий день Егора Ивановича перевели в Сасовскую тюрьму. В этот же день поутру в его избу ввалились местный милиционер и уполномоченные с пистолетами в кобурах во главе с «красной метлой» – председателем сельсовета. Начали описывать имущество и грузить на подводы. Улицу напротив дома заполнили ближние и дальние соседи – пришли посмотреть, как раскулачивают. Когда со двора повели корову, сноха Танька на шее у нее повисла, «Не отдам!» кричит, а сама вся в слезах. Как без коровы, когда в доме трое малых детей. Шум, гам, слезы. Милиционер корову гонит, районный уполномоченный Татьяну от нее отрывает. Упала Татьяна на землю, запричитала, захлебываясь в слезах. Милиционер перешагнул через нее и повел корову к телеге. Куры тоже попали под конфискацию. Ловить их стали, а они по двору бегают, крыльями бьют, в корзины лезть не хотят. Одна вырвалась и вон со двора. Милиционер махнул рукой – дьявол с ней, пусть остается. Рванулась Татьяна, изловчившись, поймала сумасбродную птицу. Принесла, бросила в корзину: все берите, благодетели. Может, вы и ваш колхоз подавитесь нашим добром.
Уполномоченные по углам шуруют, выносят вещи наружу, бросают на подводы. На полатях лежал узел с приданным дальней родственницы Егора Ивановича, оставшейся сиротой. Жила в людях и принесла приданное, чтобы сохранилось – года подходят, скоро замуж. Полезли на полати, нашли узел и забрали.
– Что же вы, окаянные, творите, – кричала хозяйка, – сироту обираете! Она недоедала, недопивала, во всем себе отказывала, чтобы хоть плохонькое приданное справить. Бог вас накажет.
Не повернулись даже, и узелок улетел в общую кучу вещей на телеге.
Закончив конфискацию, уполномоченные ушли со двора, телеги со скарбом уехали, соседи разошлись. А домочадцы Егора Ивановича, растерянные, все еще стояли посреди двора. Куда деваться? Собрались в избе. Дети начали хныкать, захотели есть. Из печи, слава Богу, ничего не унесли, и было что перекусить. А дальше как? Ночь решили провести дома. Принесли со двора соломы, бросили на пол, прикрыли кой-какой одежонкой и легли спать. Через несколько дней после суда дом продали на слом – чтоб другим неповадно было. С этого дня началась кочевая жизнь семьи Егора Ивановича.
Сельские власти находили повод выселять его семью из каждого дома, в который они перетаскивали свой немудреный скарб. Кочевали из дома в дом всей немалой семьей: две женщины – сноха и свекровь, да трое детей дошкольников.
Егор Иванович, переведенный в другую тюрьму – в Тотьму, представлял себе, как бедствует семья. Переживал. У него и жилье постоянное есть, хотя и тюремная камера, и худо-бедно кормят. «А каково домашним?» – постоянно думалось ему. И сыновья вынуждены были уехать из села – их тоже могли посадить. Власть большевистская понимала – надо рубить под корень, а то отростки пойдут.
В тот 1933 год по России в очередной раз прошел голод. Крестьяне, у которых большевики отобрали все зерно – включая посевное – пухли от голода. Хлеб пекли из мякины с лебедой. Он был сырой, тяжелый и совсем несъедобный. Но особенно тяжело жилось раскулаченным. Хлеб выгребли, скотину угнали, вещи забрали.
Егор Иванович посмотрел на спящего внука. Его – двухлетнего – мать Татьяна кормила лепешками, испеченными из муки, которую намололи из корней болотных растений. Для этого она ходила в пойму реки Мокши – «на болоты», стоя по пояс в холодной воде, выдирала толстые корни. Потом сушила и тайком молола на ручных каменных жерновах. Тайком размалывать эти болотные коренья приходилось потому, что жернова иметь запрещалось. Советская власть справедливо полагала, что коль есть жернова – значит, есть чего молоть. Лепешки получались съедобные. Тем и питались. И, слава Богу, все выжили. Болели часто, животами маялись, но выжили.
Егору Ивановичу пришли на память его слова в суде: «Все забирайте, только голову да руки оставьте. Со временем все наживу и даже еще больше». Теперь понял – не наживет. Власть советская взяла за горло, дышать не дает – не то что работать на себя. Даже огород возле дома иметь не дозволено, не говоря о скотине. Хотя, если бы стал колхозником, так там тоже не разживешься – крестьяне имеют не то, что заработают, а что дают начальнички. Государство на крестьянине едет, как на покорной лошади: все отдай, все в город, все для тяжелой промышленности. А колхознику – что останется, перебьется как-нибудь на земле, выживет…
Неожиданно Егора Ивановича отпустили домой. Скорее всего, кормить в тюрьме стало нечем – голод шел по стране. Да и немолод для принудительных работ – шестой десяток шел. Хорошо понимали партийные вожди и вождятки, что такие теперь не опасны для нового режима. Нищие, надломленные – едва ли им захочется власти перечить. Надо семьи как-то прокармливать и детишек для города растить. Вернувшись из тюрьмы, Егор Иванович пытался плотницким делом заняться. Думал на ноги встанет, свой дом приобретет. Пошел в район за разрешением – не дали. И на эту надежду пришлось крест поставить.
Вспомнилась двоюродная сестра Прасковья. Очень набожная была и по темноте своей на выборы в 1937 году не пошла: «За антихриста голосовать не буду», – сказала агитатору. Через неделю старую и больную бедолагу забрали. Кажется, и до суда не дожила, отдала Богу душу. А где братья Столяровы, Малышевы? Кто на Соловках, кто в Кузнецке. Такие слухи ходят. А какие работящие мужики были. Столяровы держали маслобойку. Малышевы – мельницу. Им доход, а селу масло и мука. Что теперь? Нет хозяев, и дела нет. Сгорела маслобойка, догнивает мельница.
В думах и про курево забыл, погасла самокрутка. Нащупал в кармане спички, прикурил. При затяжке красновато осветилась бутылка, стакан-«говорунчик». Выпить еще? После, может… В памяти опять поплыли дни тридцать третьего года. Говорили потом, что на следующий день после его раскулачивания сельчане потянулись в правление колхоза с заявлениями о вступлении. Сосед Варфоломеевич запряг лошадь, закорячил на телегу плуг, борону, хомут запасной, привязал к задку телеги корову и направил оглобли к правлению колхоза. Через час вернулся, как с похорон – темный лицом и злой. Только кнут в руке – больше ничего. Подошел к дому, повертел молча в руках кнут и в сердцах запустил его в заросли крапивы. Резко повернулся и почти бегом направился к сельскому магазину. Купил бутылку казенки, зашел к свату, жившему рядом, да и просидел с ним до позднего вечера. Разговаривали, ругали власть, ходили еще в магазин за добавкой, пьяно плакали. Говорили, что все теперь будет по-другому. Оба страшились будущего, а оно надвигалось как тяжелая грозовая туча.
В хате было темно и тихо. Негромко во сне на печи посапывал внук. Хозяйка все еще сумерничала у сестры. Наверное, обсуждают последнюю новость. Из Иркутской области приехала к матери Пашка Алёшина с четырьмя малыми детьми. Одному еще и года нет. Мужа ее, агронома, забрали как врага народа. Лошади колхозные в лугах чем-то отравились, все списали на агронома – намеренно отравил. Осудили и отправили на рудники. С правом переписки – одно письмо в год. Жену Пашку исключили из партии, выселили из казенной квартиры – живи, где хочешь. Вот к матери и вернулась. Жаловалась соседке, что ребят хоть на улицу не выпускай – дети живущего напротив милиционера проходу не дают, дразнят врагами народа, бьют.
Почему-то подумалось – как же теперь бабы будут креститься на церковь? У них ведь заведено – проходя мимо храма, останавливаются и творят крестное знамение. А теперь как же? Креститься на красный флаг? Может, надо было отказаться, не брать грех на душу? Но понимал – откажется, заберут. А в его годы было страшно опять в тюрьму, опять на нары. Сплоховал старый…
Снаружи послышались шаги, стукнула щеколда входной двери, в хату тихо вошла хозяйка.
– Чего без света сидишь? Зажги лампу, а то шубу повесить – гвоздя не нащупаешь.
Когда в хате стало светло, хозяйка посмотрела на деда. Хотела понять, пришел в себя, стоит ли разговорами тревожить.
– Сестра говорит, Ванька Грач с Ефимком ходят по деревне пьяные, поют охальные песни и матерятся. Совсем ошалели.
– Поганое дело мы нонче сотворили, – сказал он не поднимая глаз.
– Господь поймет, – вставила старуха, – без его воли ничто не делается. Такое время пришло. Ты сам часто повторял слова из Библии – идет время Хама. Ну вот и пришло.
Старик молчал. На печи заворочался внук. Егор Иванович посмотрел на свернувшегося калачиком мальчишку и вслух тихо проговорил:
– Коммунисты говорят, что ради них, теперешних школьников, строят коммунизм. Но коль командуют этим строительством Гришка да Никишка, у которых одно в голове – где выпить на дармовщину, которые свой-то дом не могут содержать в исправности, – они такое построят, что куры со смеху подохнут. Да шут с ними, с Гришкой и Никишкой, а вот что я отвечу внуку, если он спросит, когда подрастет, что отвечу – зачем красоту порушили, церковь старинную в руины превратили? Подняли руку на Бога, на красоту, лишили людей того и другого.
– Ложись-ка, старый, спать, хватит себя казнить. Как в Библии сказано: время ломать и время строить. Сейчас ломают, Бог даст, придет время, и храм восстановят, и окаянный флаг скинут, и крест будет на своем месте стоять…
Полвека прошло с того вечера. Возле полуразрушенной церкви на пыльной дороге остановилась грузовая машина, из которой вышел городского вида седой мужчина с сумкой через плечо. Он сошел с дороги, сделал несколько шагов и остановился, рассматривая руины. Вид храма был жалок. От колокольни кроме нижнего четверика ничего не осталось. У зимней части церкви кровля почти вся провалилась. Тут и там выкрошены кирпичи кладки. Большой купол на восьмерике тоже без кровли. Над куполом торчит полусгнивший дрын – древко от некогда развевавшегося над церковью большевистского флага. Гость прислонился к дереву и задумался.
Вспомнился его дед, который помог сбросить крест с купола этой церкви. И в голове опять возник давнишний вопрос: как мог он согласиться на такое дело? Почему не отказался? Вспомнил его восьмидесятилетним, ослепшим, но с хорошей памятью и ясной головой. Иногда, сидя сгорбленный на скамье, он что-то тихо говорил сам себе. Может быть, просил Господа Бога простить грехи вольные и невольные. И один из грехов, тяготивший его – сброшенный крест.
Вокруг храма из густого бурьяна торчали ржавые остовы сельскохозяйственных машин – сеялок-веялок, комбайнов, плугов. Видимо, была устроена в церкви МТС – машинно-тракторная станция. Картина разрухи и запустения была удручающей. Гость подошел к храму. Убожество его состояния поразило еще больше. Он вспомнил, как ребенком – в самом начале тридцатых годов – приходил сюда с бабушкой к обедне. Ажурная кирпичная ограда, яблоневый сад, небольшая сторожка, кущи сирени, гранитные полированные надгробия с ангелами – порядок и благолепие. А теперь? Пробираясь между ржавым железом, выбирая место, куда поставить ногу, он обошел церковь. Через большой пролом в стене – прежде там были ворота – он вошел в зимнюю часть храма. Летняя – под куполом – была отгорожена тесовой перегородкой с дверью. На двери висел амбарный замок.
Картина увиденного внутри была ужасна. Закопченные до черноты стены, земляной пол завален хламом и повсюду горы мусора. И это храм! Двести лет – из года в год сюда шли люди для общения с Богом, с молитвой и смирением. Здесь крестили детей и отпевали умерших. Тут было царство покоя и очищения душ. И вот…
Оглядевшись, он увидел старика, который перебирал какие-то железки на стеллаже.
– Добрый день, – обратился гость.
– Здорово, если не шутишь. Не признаю что-то. Из приезжих, наверное?
– Да, приехал навестить малую родину, посмотреть на село, сходить на могилы дедов и прадедов. Давно тут не был – лет тридцать.
– Москвич, судя по обличью.
– Да из Москвы.
– И чей будешь?
Гость назвал себя.
– Ну как же, как же, знакомая фамилия. А как приходишься Ивану Егоровичу? Сын? А я с ним в школе на одной парте сидел. Давно это было. Как он, жив? Вон что. А я вот еще брожу.
Вышли наружу, присели на полусгнивший ствол поваленного дерева. Старик вытащил из кармана кисет с табаком, закурил и продолжал выспрашивать. Ответам то радовался, то сокрушался. Задумался, глядя вдаль за реку.
– Помню, – вдруг сказал он, как твоего деда раскулачивали. Народа собралось много, хотели посмотреть – что будет, если с властью заспоришь. Танька, твоя мать, не давала корову со двора уводить, кричала: «Оставьте, как же дети без молока». Милиционер отшвырнул ее на землю и повел корову за ворота. А уполномоченный говорит: надо заканчивать эту свадьбу и, уходя со двора, перешагнул через твою мать. Танька ему в след: «На детских и бабьих слезах хотите новую жизнь строить, окаянные. Все у вас прахом пойдет. Чтобы гром расщепал ваши колхозы». Да, покуражилась тогда комбедовская шобла.
– А нельзя ли пройти в летнюю часть церкви, посмотреть, что там? Когда-то там стоял золоченый иконостас, красивая роспись настенная была.
– Иконостас? Настенная роспись? Когда это было… Теперь там склад всякой железной дряни, а я кладовщик. Потапычем зовут. Пойдем, открою.
Старик, кряхтя, поднялся, нашарил в кармане ключи, подошел к двери и отомкнул замок. Дверь со скрипом отворилась. Раскрылся затхлый полумрак. Гость нерешительно прошел на середину храма, стал под самым куполом. Темно-грязные от копоти стены в некоторых местах кровоточили красным кирпичом выбоин. С пилонов из-под толстого слоя копоти скорбно смотрели лики святых. По высоте храм был разделен грубым дощатым настилом. На немой вопрос гостя старик сказал: «Перекрыли, чтобы зимой улицу не отапливать, вон какой объем».
В настиле вблизи стены виднелся небольшой лаз. Подставив лестницу, гость поднялся под купол. Картина предстала ужасающая. Некогда белоснежные стены были серыми от пыли и копоти, везде грязь, паутина по углам, на досках – полуметровый слой голубиного помета. Видимо, много лет сюда никто не поднимался.
С вершины просторного купола, из заоблачной выси, на сотворенный безрассудным человеком хаос, смотрел Бог Саваоф. Смотрел сурово, но без гнева. Ниже, в алтарной части, ясно просматривалось уходящее под настил большое – в рост человека – изображение Иисуса Христа, распятого на кресте. Нарисовано оно было прямо на штукатурке. Коричневый тон краски создавал тревожное настроение. Над распятием изображен большой сосуд – чаша терпения.
Гостю из детства вспомнилась икона, стоявшая в переднем углу хаты. На иконе был изображен в молитвенной позе Иисус Христос, обращавшийся к Отцу своему Небесному с мольбой дать силы выдержать грядущие страдания. В верхнем углу иконы была изображена испускающая божественный свет чаша страдания. Икона называлась «Моление о чаше».
Гость долго и внимательно рассматривал изображение распятого Христа и думал, что же произошло с русским православным народом? Почему так просто и даже охотно он отрекся от Бога? Почему так скоро и усердно, по указанию коммунистов, разрушали по всей стране храмы, превращали их в склады, клубы и конюшни. Или просто в загаженные руины. Ладно в городах, где человек оторван от земли, но крестьяне – ближе и к природе, и к Богу. А сельские храмы разрушались особенно варварски. Что же произошло? Видимо, крестьянин слишком очерствел душой, ожесточился, огрубел. Распад атома порождает губительную радиацию, распад человеческой души производит губительный яд расчеловечивания.
Он очнулся от этих тягостных раздумий, когда услышал голос снизу:
– Домой мне пора, хозяйка ждет…
Гость еще раз окинул взглядом храм. С купола, как с неба, смотрел Бог Саваоф, на кресте страдал Иисус Христос, в оконных проемах гугнили голуби. Закопченные, пыльные стены, полумрак, уходящий вверх купол, пустые оконные проемы, мусор, птичий помет под ногами… Перед глазами встал образ иконы «Сошествие во ад».
Выйдя из храма, он направился к селу. Обогнув остатки запущенного сада бывшего барского имения, он оказался на высоком берегу реки. Перед ним открывался неоглядный простор долины. Вдали, километрах в пяти, темнел лес. К нему уходил ручей с пологими невысокими берегами, переходящими в раздольные поля. А вблизи, по низкому берегу реки, шли дома его родного села.
Он уехал отсюда много лет назад, вскоре после войны, закончив восьмилетку. Когда уезжал – село было большое и многолюдное. А сейчас? Домов мало, и стоят они небольшими группками, далеко друг от друга. Глаза скользили по улице села, искали место, где стоял дом, в котором он родился. Не сразу понял, что через это место проходит шоссейная дорога и пейзаж изменился до неузнаваемости. У самой дороги оказалась и школа, в которой он учился. Вид ее был жалок: без дверей, без окон. Потом узнал, что она давно бездействует – детей в селе осталось совсем мало и их возят на машине за двенадцать километров в районную школу. Стало горько и за родное село Гридино, которое осталось без детей и без школы, и за деда Егора Ивановича, который строил ее в самом начале двадцатого века.
Седой гость присел на камень и задумался. Что же сделали для крестьян российской деревни коммунисты? Если судить по его родному селу, от которого до столицы всего триста верст по прямой, то только дурное. Перед революцией жителей в селе было более тысячи. Все трудились, кормили себя и город. Сейчас осталось около двухсот – одни старики. Работать некому, пахотные земли заросли бурьяном. Были три богатых барских имения. Сейчас и следа их не увидишь. Разрушена церковь, рушится школа. Были три мельницы, сейчас ни одной. Все советские годы село разорялось, люди разъезжались по городам, земли приходили в запустение…
Рано утром, пешком, по пыльной грунтовке уходил он в районный центр, чтобы оттуда добраться до железной дороги. Опять остановился напротив церкви. Она в это раннее утро выглядела еще более разоренной и обездоленной. В голову пришла печальная мысль – она обречена на полное разрушение и уже никогда не будет восстановлена. Село обезлюдело, и тоже обречено – его скоро не будет. Уйдет в небытие история некогда большого сельского поселения, причастного – через своих владельцев, знатных князей – к российской истории. В нем жили люди, создававшие своим трудом красоту неповторимого сельского ландшафта. Все это разрушено при большевиках, все канет без следа.
Отойдя пару километров от села, он остановился, чтобы поклониться старой церкви. Храм на расстоянии казался еще более забытым и безжизненным. В его очертаниях путник увидел горький укор. Седой гость почувствовал вину перед старинным полуразрушенным храмом, перед родным селом, перед памятью предков, живших в нем. Поклонившись храму, он пошел дальше – будто уходя в другое время.
Гридино – Москва, 1998 г.
Тамара Александрова
Леонид Каннегисер: «Умрем – исполним назначенье»
30 августа 1918 года в Москве и Петрограде прозвучали два выстрела, оставшиеся в истории. Ранен Ленин. Убит Урицкий. На выстрелы Фанни Каплан и Леонида Каннегисера большевики ответили Красным террором – бессчетные заложники, бессудные расстрелы, моря крови по всей России…
Имя Фанни Каплан, стрелявшей в вождя мирового пролетариата, всем известно, хотя знаем мы о ней немного. Наряду с официальной ходили другие версии (не она, почти ничего не видевшая, стреляла, не ее расстреляли 3 сентября в Кремле…) Но в короткой биографии просматривается логика случившегося. В революцию 1905 года была с анархистами. За участие в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора приговорена к смертной казни. Из-за несовершеннолетия (ей было шестнадцать лет) казнь заменили пожизненной каторгой. В Сибири знакомится с Марией Спиридоновой. Освобожденная Февральской революцией, примыкает к левым эсерам…
Выстрел Леонида Каннегисера поверг в шок родных, друзей, знакомых – круг их очень широк, и всё известные имена, – не верилось, не соединялось: он, Леня, убийца?!
«Помню свою печаль о молодом друге Лене Каннегисере, – пишет Надежда Александровна Тэффи. – За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.
– Почему же не у меня?
– Я тогда и объясню почему.
Условились пообедать у общих знакомых.
– Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, – объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.
Я тогда сочла слова мальчишеской позой. <…>
Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.
Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп… Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому Автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо».
Леониду Каннегисеру было 22 года – родился в марте 1896-го. Отец – Иоаким Самуилович Каннегисер, известный – не только в России – инженер-механик, кораблестроитель, талантливый управленец. Он стоял во главе крупнейших Николаевских судостроительных верфей. Переселившись в Петербург, по сути дела, возглавил руководство металлургической отраслью страны. В годы первой мировой войны был консультантом в военно-морском ведомстве.
Мать – Сакер Роза Львовна – врач.
Детей в семье трое: Елизавета, старшая, Сергей и Леонид (домашнее имя Лева).
Сергей, окончив с золотой медалью частную гимназию Я. Г. Гуревича, лучшую в Петербурге, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета (группа географии). Принимал участие в геологических экспедициях: Западная Сибирь, Бухара…
Леонид, получивший тремя годами позже аттестат той же гимназии, выбрал Политехнический институт, экономическое отделение.
Каннегисеры богаты, живут открыто. В Саперном переулке, в доме 10 (он отличается от соседей добротностью, архитектурными изысками – изящной башенкой, эркерами) семья занимает две квартиры, соединенные переходом. Огромные залы, камин, европейская мебель, обитые шелком стены, ковры, медвежьи шкуры – все по моде тех времен, как и один из самых модных салонов.
Среди его завсегдатаев известные поэты, писатели – Михаил Кузмин, Владислав Ходасевич, Николай Гумилев и Анна Ахматова, Тэффи, Георгий Адамович, Марк Алданов, Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Николай Бальмонт, пианист, сын поэта, Борис Савинков, эсер-террорист… Читали стихи, слушали романсы, танцевали модные регтайм, чарльстон. Ставили домашние спектакли. В 1910 году – «Балаганчик» Блока (он заинтересовался, узнав об этом, выражал желание посмотреть), «Как важно быть серьезным» Уайльда и «Дон Жуан в Египте» Гумилева…
Салон в Саперном славился не только щедростью приемов. Здесь, по словам Марка Алданова, хорошо знавшего Каннегисеров, «царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами».
Герман Лопатин, революционер, человек-легенда. В 60-е—80-е годы он был практически связан со всеми революционными организациями России. Привлекался следствием по делу Каракозова, покушавшегося на Александра II. Организовал побег Петра Лаврова, философа, идеолога народничества, из Вологодской ссылки за границу. Отправился в Сибирь за Чернышевским. В результате – арест, иркутский острог и… побег! Лопатин – первый переводчик «Капитала». Лично знаком с Марксом, Энгельсом, Бебелем… После попыток возродить партию «Народная воля», ареста и суда 18 лет провел в одиночках Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей…
В один из январских вечеров 1916 года («Над Петербургом стояла вьюга…») у Каннегисеров оказалась Марина Цветаева. Здесь она встретила Михаила Кузмина, о котором в Москве ходили легенды, очаровалась, как многие. Через 20 лет посвятит его памяти очерк «Нездешний вечер» (название навеяно книгой стихов поэта «Нездешние вечера»), который будет опубликован в Париже, в журнале «Современные записки».
И мы увидим дом в Саперном, хозяев и гостей в своеобразном ракурсе – взгляд Цветаевой, ее чувства, ее экспрессия.
«Сережа и Лёня. Лёня – поэт, Сережа – путешественник <…> Лёня поэтичен, Сережа – нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое расставание), <…> а он мне про верблюдов своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен… цветок. Старинный томик «Медного всадника» держит в руке – как цветок, слегка отставив руку – саму, как цветок, что можно сделать такими руками? <…>
Отец Сережи и Лёни <…> – высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый – которого про себя зову – лорд.
– Вас очень хочет видеть Есенин – он только что приехал.



