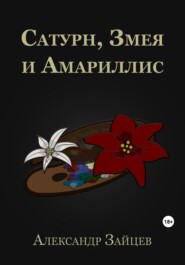
Полная версия:
Сатурн, Змея и Амариллис

Александр Зайцев
Сатурн, Змея и Амариллис
Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор – лазурь небес иль порожденье ада?
Ш. П. Бодлер
I
Её снова стошнило при виде моей картины. Такое случалось не каждый раз, но достаточно часто, чтобы мы оба успели к этому привыкнуть. Предвидя подобное развитие событий, я оставил небольшое ведёрко возле мольберта, перед тем, как открыть двери мастерской. И пока моя подруга уделяла ему всё своё внимание, я заметил, что и сама она тоже подготовилась – сегодня её длинные волосы были стянуты на затылке в аккуратный высокий хвост. К окружающему нас запаху растворителя и масляных красок примешался едва уловимый аромат желудочного сока. Закончив, девушка невозмутимо выпрямилась, приводя в порядок свою чуть смявшуюся одежду и вместе с тем поворачиваясь спиной к холсту. Мы были знакомы слишком давно, чтобы стесняться подобных вещей, а с другими о них не распространялись. Жуткая судорога, сводившая её хрупкие плечи всего несколько мгновений назад, сменилась изяществом безупречной осанки. Мягкий кивок головы в ответ на предложенный мною чистый платок. Держа белую ткань в протянутой руке, на краткий миг я ощутил прохладное прикосновение её тонких пальцев.
– Отца бы точно хватил удал, узнай он об этом.
– В таком случае, я рад, что мы проявляем внимание к его здоровью и ничего не рассказываем о подобных казусах. Вижу, тебе понравилась моя новая работа?
– Похоже, ты счёл за мою похвалу содержимое того ведра…
Её губы ещё прикрывал мягкий ситец, но лицу уже возвращался здоровый цвет. Девушка приходила в себя довольно быстро.
– Естественно. Ты ведь знаешь, меня ранит лишь равнодушие, а отвращение – эмоция столь же далекая от него, как и восхищение. Вызвать в сердце человека волнение подобной силы – настоящее счастье для художника и цель всякого искусства.
Её взгляд, точно прибрежная волна, прокатился вверх по моему лицу, задержавшись на уровне глаз не дольше, чем длится вздох, отхлынув затем обратно к полу. И был такой же синий. Эми всегда так делала, когда пыталась понять, всерьёз я или шучу. Будто надеялась отыскать на самом дне моих зрачков ту дверцу, что ведёт внутрь черепа, к истинным мыслям. Я верил в то, что говорил.
– Знаешь, Адам, хоть мы и знаем друг друга с пелёнок, но я признаюсь, что совсем тебя не понимаю. В особенности твоё творчество. Я нахожу прекрасное в простоте, в несовершенстве. Твои же картины сплошь наполнены гротеском и неясным мне стремлением к какому-то искажённому, нечестивому идеалу. Такое чувство, будто ты хочешь взрастить прекраснейшую из роз, но не в саду, где ей самое место, а на разрытой могиле, среди червей и останков. И сам цветок к тому же желаешь видеть покрытым язвами.
С моего лица соскользнула нечаянная улыбка. Полупрозрачным движением руки девушка уложила пшеничную прядь волос, падавшую ей на лоб.
– Как и всегда, ты читаешь мои стремления, словно открытую книгу, хоть и утверждаешь обратное. Всё так – изображая портрет, я предпочту беззубый оскал на лице прокажённого невинной улыбке чистейшей из дев. Я хочу выковать добродетель из сплава грехов, вылепить красоту из массы уродства. Хочу также, чтобы ты, наконец, перестала смотреть лишь на меня и обратила внимание на свои собственные таланты. Тебе следует попробовать себя в поэзии или прозе, которые ты так любишь. Не первый раз я замечаю твоё умение так ловко выражаться метафорами, хоть ты и не считаешь себя при этом человеком пера.
Я вовсе не преувеличивал. Свою любовь к чтению она унаследовала от отца, собравшего к моменту рождения дочери внушительную библиотеку. Пыль бесчисленных страниц витала в воздухе её детских воспоминаний. Но и теперь не требовалось проявлять чудес наблюдательности, чтобы по временам замечать, как из её повседневной сумочки торчит книжный корешок.
– Нет, не думаю, что такой пустяковой черты достаточно, чтобы стать поэтом. К тому же моя душа слишком беспечна, а честолюбие слишком ничтожно, чтобы идти по пути искусства.
Склонив голову набок, я помедлил с ответом.
– Насчёт души я вполне понимаю. Дитя человеческое рождается в телесных муках и потому кричит – творец же рождается в страданиях душевных и потому созидает. И так же, как доктор пускает кровь больному, чтобы облегчить недуг, творец путём внутренних терзаний источает из себя искусство, дабы успокоить душу. Но честолюбие? Не все произведения создаются, чтобы снискать похвалы и признания. Я бы даже сказал, что такой подход как раз и является самым надёжным способом потерпеть неудачу.
– И тем не менее ты каждый раз зовёшь меня к себе, чтобы я стала свидетельницей твоих новых работ. Тебе доставляет удовольствие видеть, как я на них реагирую, ты ждёшь этого с предвкушением. Любому искусству нужен зритель, ведь творец не может самолично провозгласить своё детище шедевром – этим словом его должен окрестить кто-то другой, тот, кто смог узреть в нём подлинное величие. Поэтому я верю, что смысл творчеству придают обе стороны – как сам создатель, так и тот, на чей суд отдаётся готовое произведение. Без создателя не появится творение, без свидетелей – мир не признает его существования. Мне кажется, связующим звеном здесь и выступает честолюбие – оно побуждает творца обращать взоры посторонних на плоды своих трудов.
Лазурь робеющего взгляда плескалась на моём лице, пока руки Эми в беспокойстве перебирали складки её одежд. Не развитое для долгих бесед, её слабое дыхание нуждалось в коротком отдыхе.
– Я не ищу признания со стороны других людей, мне тягостно излишнее внимание. А раз и сердце моё к тому же не знает страданий, мне нет никакой нужды воплощать то, что я могу молча носить у себя в душе. Ведь если я всё равно собираюсь быть единственной свидетельницей моих трудов, по сути это будет то же самое, как если бы я ничего и не создавала вовсе. Так к чему себя утруждать? Мир не заметит и не запомнит моего творчества, оно будет жить лишь тот краткий миг, что длится моя собственная жизнь. А после – сгинет, как если бы его никогда не существовало. Так же, как и я…
Задумавшись на мгновение, она будто провалилась в краткий сон, но тут же захлопала длинными ресницами, пробуждаясь от него.
– Прошу, не пойми меня неправильно, я вовсе не пытаюсь сказать, что только эти две причины побуждают людей заниматься искусством. Я лишь пытаюсь объяснить, почему сама этого не делаю. Прости, твоё молчание яснее всяких слов даёт понять, что я несу какой-то вздор. Как видишь, я ко всему прочему ещё и глупа…
Но я вовсе не считал её глупой. Начитанность позволяла ей поддержать почти любую беседу, а широта взглядов – допустить возможность любой из них. Однако глубоко укоренившаяся застенчивость мешала ей обнажить свои мысли перед чужими людьми, поэтому тихая мелодия её речей была знакома немногим ушам. Даже когда мы оставались наедине, она могла долгое время держать себя вполне уверенно и открыто, а в следующий момент вдруг потерять под собой всякую опору и начать тонуть в нахлынувшем приступе меланхолии. И когда этот миг наступит, нельзя было предугадать заранее.
Эми сделала над собой усилие, чтобы ещё раз взглянуть на картину, но быстро меняющийся тон её лица дал понять, что девичий желудок может снова не выдержать. Она вновь прикрыла губы платком, поддавшись рефлексу. Возможно, он стал тому причиной, а возможно, её голос и правда сделался тише, как мне показалось, и немного растерял в твердости.
– В любом случае, я рада, что из всех людей ты демонстрируешь мне первой свои полотна. Ты знаешь, я всегда тебя поддержу, какими бы странными мне ни казались твои идеи, но долго смотреть на твою… Живопись… Это выше моих сил, прошу меня извинить. Я, пожалуй, вернусь домой, пока мне снова не стало дурно, и пока я не наговорила ещё больше глупостей.
Направившись к выходу из мастерской, она помедлила, остановившись в дверях.
– Родители интересовались, как у тебя дела – ты давно нас не навещал. Мама даже хотела, чтобы я пригласила тебя к нам на обед в конце этой недели, но знаю, что ты откажешься. Так что, пожалуй, я буду всё так же заходить сама время от времени.
– Мне проводить тебя?
– Не стоит. Здесь близко, я дойду. Вечер ещё не такой глубокий. И не забудь в этот раз закрыть за мной дверь.
Подобно лёгкому ветерку, девушка сбежала вниз по лестнице, оставляя за собой едва слышный шелест одежд, а затем эхо её удаляющихся шагов растворилось в вечернем воздухе бостонских улиц. В мастерскую на мансардном этаже вернулась знакомая тишина – я снова остался один, посреди беспорядка, который давно перестал замечать. Пыль медленно танцевала в лучах предзакатного солнца. На поверхности стола, в папках, которыми были завалены стеллажи, полуоткрытых ящиках комода и прямо на полу валялись листы с эскизами и набросками. Какие-то были запачканы пятнами чая, кофе и вина, какие-то безобразно помяты. Выжатые тюбики краски в подтёках и кисти всех разновидностей были свалены в несколько куч прямо на полу возле мольберта. Ещё больше красок лежало на столе, поверх бумаги с эскизами, там же, где и грязные палитры. Рядом стояли несколько емкостей с растворителями и разбавителями разного объёма и степени наполненности, в том числе и пустые. Некоторые из уже высохших банок просто лежали на боку, не удостоенные честью быть выброшенными. Я опустился на пол, стена упёрлась мне в спину. Не заметил, как начал грызть кожу вокруг ногтей.
Такое чувство, будто я тону в этом хаосе. Знаю, чего хочу добиться, но не знаю как. Пробую всё, что приходит в голову, но в ней ощущается такой же бардак, как и в этом помещении. Я хочу создать нечто прекрасное, но искажённые видения красоты, что исторгает моё сознание, противны тем возвышенным идеалам, какие обычно рождаются в воображении людей, услышавших это слово. Техника, материалы, образы, что я использую – мужчины бледнеют при виде моих картин, женщины закрывают глаза руками, дети начинают плакать и просыпаться по ночам от кошмаров. Все, кроме Эми, зовут меня сумасшедшим. Но я не могу остановится сейчас, даже если так будет лучше для меня самого. Писать полотна – это всё, что я умею, всё, чего я хочу. Жизнь всегда мне казалась тёмным запутанным лабиринтом, люди годами в нём бродят на ощупь, не зная даже того, как здесь оказались, сталкиваются лбами, в поисках той единственной ниточки, что укажет им путь и придаст смысл их странствию. Большинство так и умирает, не сумев её отыскать, а я – обрёл уже сейчас, я держу её в руках. Пускай моя нить уродлива и ведёт не к выходу, а лишь дальше во тьму, но она существует, и только я могу пойти за ней. И я не имею права отказаться от этого.
Когда я отвлёкся от нахлынувших мыслей, солнце давно уже село. Сквозь окно мансарды на меня смотрели первые холодные звёзды. Почувствовав разыгравшуюся головную боль, я решил, что не хочу больше двигаться и усну прямо здесь. Оставаясь там же, где сидел, я завалился на бок, как одна из тех пустых ёмкостей из-под растворителя. Оказавшись на полу, я зарылся в несколько листов с эскизами. В ту ночь я всё же забыл запереть дверь, а ведро так и осталось стоять у мольберта, со всем его содержимым.
II
– Десять долларов? Это что, какая-то шутка? Уговор был на пятнадцать.
– Уговор был также на то, что ты закончишь работу в срок.
– Я же целую неделю потратил, рисуя эту вывеску для твоего торгаша!
– Вот именно! А должен был управиться за пять дней! Соблюдай условия, тогда будет тебе и пятнадцать, и даже двадцать долларов.
Выдохнув через ноздри, мужчина отвернулся к окну, укрытому плотными слоями занавесок, и вынул из кармана брюк неаккуратно смятую пачку сигарет. На его угловатой челюсти отчётливо вздувались желваки из-за стиснутых с силой зубов. Стоя у дверного проёма и подпирая дубовый косяк своим широким плечом, он закурил одной рукой, держа по привычке другую в кармане. Я наблюдал за ним из глубины просторной комнаты, сидя за нелепо большим столом, размер которого лишь сильнее уничижал объём моего гонорара, занимавшего собой такую незначительную часть его широкой пустующей поверхности. Атмосфера была далека от непринуждённой, но в тёмных глазах ирландца и морщинках по их уголкам читалась скорее обычная раздражённость, чем откровенная враждебность. Не пойму от чего, но нормального разговора у нас никогда не клеилось. За всяким обменом несколькими фразами неизбежно следовал переход на повышенные тона и взаимные оскорбления. Самое забавное то, что мы оба, кажется, в какой-то момент приняли такой способ общения как очевидную норму. Что для стороннего наблюдателя казалось словесным конфликтом, для нас являлось обыденным диалогом.
– Послушай-ка, парень, ты хороший творец, но ужасный делец, не берись со мной спорить о вещах, в которых ни черта не смыслишь.
– Значит, десять долларов за неделю…
Я медленно выдохнул и заметил, как у него поднимается бровь.
– Примерно столько и получают ребята на фабрике. Вот только они, в отличие от тебя, работают ради тех денег, а не просиживают задницу дома. Так что радуйся, а не ной.
– А труд художника, значит, по-твоему не работа?
Громко хмыкнув в ответ, он отвёл от меня полный снисходительности взгляд, сопровождавшийся горькой улыбкой.
– Даже не знаю… Покажи-ка мне свои руки, для начала – посмотрим на твои мозоли. Или, быть может, у тебя так ноет спина, что невмочь подняться и подойти поближе? Нет? Я так и думал.
Перед квадратным лицом моего собеседника медленно расплывался густой клуб синего дыма. Хруст почесываемой рыжей щетины прервался неожиданно громким сухим кашлем. Обычно я не возражал против того, чтобы люди курили в доме, до тех пор, пока мы не находимся в мастерской. Теперь я подобное даже приветствовал, ведь мог лицезреть, как этот болван давится собственной сигаретой. Что впрочем не умаляло моего негодования, вынуждающего запрокидывать голову в бессильных причитаниях.
– Чёрт, я должен был посвятить свою жизнь искусству, а вместо этого продаю свой талант за гроши такому жулику, как ты…
– Как я погляжу, твоё хвалёное искусство не делает лёгкой тебе задачу наполнить себе тарелку, а мне – стакан. Выходит, не шибко уж ты и талантливый, а, юнец?
Его голос мне показался немного охрипшим после едва прошедшего приступа кашля.
– Хватит ко мне так обращаться, «старик». Какая у нас разница в возрасте? Четыре, ладно, пускай пять лет? Ты и сам ещё жевал сопли, когда я родился. Кстати, надеюсь, сейчас ты так не делаешь?
– Очень смешно.
– В любом случае, теперь уже мой черёд упрекать тебя в разговорах о вещах, в которых ты ни черта не смыслишь. Талант не всегда измеряется лишь деньгами, которые он приносит, но такому беспросветному деревенщине это сложно понять. Готов поспорить, ты так же редко видишь толковую литературу и приличное общество, как бедная миссис Деннехи – трезвого по вечерам тебя.
Эта самодовольная улыбка, расплывшаяся на его лице, была скорее вызвана моей жалкой попыткой вывести его из себя, чем самими словами, пролетевшими мимо цели.
– Можешь обижаться на меня и огрызаться, сколько душе угодно, а только это ничего не меняет. Скажи спасибо своему отцу за то, что родился в достатке, иначе быть бы тебе голодранцем где-нибудь в Норт-Энде с таким-то «талантом». Старик к тебе на удивление снисходителен, однако всю свою жизнь вас обоих тянуть на горбу он не сможет. Надолго ли хватит его терпения, прежде чем он наконец устанет от этих бесплодных игр в искусство? Рано или поздно, а всё же и тебе придётся повзрослеть…
Закончив с сигаретой, мужчина аккуратно завернул окурок в свежий носовой платок, который затем был отправлен во внутренний карман пиджака из бурого твида. Разговаривая, как простой обыватель из рабочих кварталов, манеры при этом имел он почти джентльменские.
– Что ж, в отличие от тебя, бездельника, меня ещё ждут кое-какие дела. Так что теперь я, пожалуй, пойду.
– Да, избавь меня, пожалуйста, от своего общества.
Зреющая в затылке боль заставила меня накрыть глаза дрожащей ладонью, небрежно отмахиваясь другой от упёртого собеседника. Этот бессмысленный спор, ни к чему не ведущий, успел утомить нас обоих.
– И тебе не хворать. Будет ещё какая работа – дам знать. Ну, бывай, парень.
Придерживая плоскую кепку за край козырька, он преувеличенно вежливо поклонился и неторопливо зашаркал к выходу, вновь оставляя меня в привычном одиночестве. С этим человеком мы были знакомы не первый год, но я до сих пор о нём почти ничего не знал. Всё, что мне было известно, так это то, каким способом он зарабатывал на жизнь. Никакой конкретной профессии за ним не числилось, зато всем была известна его репутация «того, кто знает нужного человека». Если требовались люди для какой-то работы, нужно было всего лишь спросить у Джилроя – он быстро найдёт того, кто всё сделает в срок, качественно и не возьмёт слишком дорого. Те, кому нужна была подработка, также обращались к нему – Джилрой отыщет щедрого нанимателя, какими бы навыками ты не располагал. В оплату он брал лишь небольшую часть денег от общей суммы сделки, поэтому всем было известно, что старина Деннехи не обманет и не подведёт – ведь сам он, будучи посредником, получал выгоду только тогда, когда обе стороны были довольны и жали руки. Ходили нередкие слухи, что, благодаря своим талантам и связям, он был популярен также и в криминальных кругах. Полагаю, никто бы этому не удивился, однако и придавать особое значение тоже бы не стал. Своё дело он знал исправно, а другого такого человека найти было вряд ли возможно. Сам же я благодаря нему был избавлен от участи заниматься «настоящей» работой и мог посвятить всего себя творчеству.
Возможно, именно потому мы и сталкивались с ним лбами при всякой встрече. Привыкнув по большему счету общаться с обычными трудягами, во мне он при этом видел лишь избалованного бездельника. Для меня же Джилрой был живым напоминанием о том мире, где я решительно не мог найти себе места, но с которым мне неизбежно приходилось иметь дело, чтобы добывать средства к существованию. Пожалуй, хотя бы в этом я точно не был одинок – пускай мир вокруг меня был велик и многообразен, но к каждому он при этом одинаково равнодушен.
III
– Что это?
– Странный вопрос, я думала, ты до определённой степени образован.
– Нет, я понимаю, что это такое, я имел ввиду – где ты его раздобыла?
В руках у меня находилось пригласительное письмо. Качественная бумага, дорогие чернила, оформлено оно было официально и со вкусом. Держа перед лицом фарфоровую чашку, наполненную зелёным чаем, Эми безуспешно пыталась спрятать своё довольное выражение, вызванное моим удивлением. Как и всегда, та маленькая родинка в уголке рта, которой она так стеснялась, лишь придавала её улыбке особое обаяние. Если бы только этот цветок распускался почаще на её задумчивом лице.
Мы не виделись с ней почти две недели, но сегодня дверной молоток вновь отбил тот характерный ритм, по которому я безошибочно определял, кого увижу за порогом, стоит мне открыть. Она зашла ко мне по пути домой, чтобы переждать ливень. Хотя не думаю, что дождь стал бы большой проблемой, решив она не останавливаться – мы жили в паре шагов друг от друга, и при ней был зонт. Скорее, дело было в этом письме, а непогода стала лишь предлогом. Иначе, как объяснить, что пригласительное было как раз при ней?
– Я нигде не «раздобыла». Отец получил его от кого-то из своих друзей. Я не стала вдаваться в подробности, да меня это и не касается. Всё, что я знаю – выставка не будет длиться долго, а у отца запланирована поездка на эти даты, так что воспользоваться пригласительным он всё равно не сможет. Поэтому я попросила его для тебя, и он согласился. Папа знает, что ты рисуешь и увлекаешься такими вещами.
Я слышал об этой закрытой выставке, но не предполагал, что у меня может появиться шанс побывать там лично. Известный меценат и коллекционер проводит её в собственном поместье, где-то на южном склоне Бикон-Хилл, двери которого откроются для приглашённых посетителей всего лишь на три для. Срок нетипично короткий для подобных мероприятий. Ходили слухи, что причиной тому особый характер демонстрируемой коллекции – не много найдётся людей, которые оценят её тематику и направленность. Ведь хозяин поместья, несмотря на то, что являлся одним из браминов, обладал репутацией человека, интересующегося вещами, далекими от общепринятых ценностей и пуританской морали. Если это правда, то ситуация получалась по меньшей мере странная.
– Признаюсь, для меня это настоящий подарок. Я даже не знаю, что и сказать…
– «Спасибо» было бы вполне уместным.
Эта колкость, сказанная с улыбкой, вышла у неё совсем безобидной. Из моих уст посыпалось растерянное бормотание.
– Ты права, прости за нерасторопность. Конечно, я тебе очень благодарен. Теряюсь в догадках, чем я заслужил подобную доброту…
Легкий шлепок по голове ещё сырым зонтиком остановил меня на последнем слове. «Удар» вышел таким игрушечным, будто меня хотели привести в чувство, но вместе с тем боялись, как бы я не рассыпался от нечаянного прикосновения.
– Доброту не «заслуживают», умник – она безусловна. Иначе это вовсе не доброта, а обычное поощрение. Людям пристало иногда выходить из дома, и я даю тебе прекрасный повод сделать это. Не могу смотреть на то, как ты себя изводишь. Какой источник вдохновения ты надеешься встретить на своём чердаке среди пыли и паутины? Клопов и мух, в обнимку с тараканами? При всём своём таланте, ты сильно ограничиваешь себя, месяцами покрываясь плесенью в четырёх стенах. Тебе нужно знакомиться с новыми людьми, видеть чужие работы, обсуждать их с кем-то таким же увлечённым. Кто знает, вдруг там ты найдёшь единомышленников, и что-то сможет подтолкнуть твоё воображение.
Я театральным жестом положил руку на раненное такой суровой истиной сердце, и покорно склонил голову.
– Мне нечего возразить на это, мисс. Я пристыжен и безоговорочно повергнут.
Но моя шутка, кажется, была воспринята всерьёз. Девушка слегка замялась.
– Я… Я не хотела быть с тобой такой резкой. Но ты и сам понимаешь, что я права. До конца сентября осталось не так много времени, потрудись привести свою одежду и внешний вид в порядок к тому сроку. И может… Может быть тебе следует навестить доктора. Выглядишь неважно. Твои круги под глазами меня не на шутку беспокоят.
Будучи тронут искренним переживанием, прозвучавшим в её словах, я попытался успокоить Эми.
– Пожалуй, ты права. Я тоже стал замечать, что в последнее время выгляжу хуже, чем обычно. Завтра с утра надо бы сделать над собой усилие и наведаться в ближайшую аптекарскую лавку, поискать какое-нибудь лекарство от бессонницы.
Но ни завтра, ни в последующие дни, я так и не удостоил должным вниманием собственное здоровье. Оставшись один, я лишь посовещался с зеркалом, чтобы удостовериться, действительно ли всё так плохо. Кожа и вправду имела нездоровый бледный оттенок, от того, что неделями не ощущала прикосновения солнечных лучей. Утратили свой полнокровный оттенок и тонкие сухие губы. Спутавшиеся тёмные волосы отросли настолько, что почти полностью прятали под собой равнодушное выражение притупившихся пепельных глаз и хмурость густых бровей. Можно ли было назвать меня привлекательным, или же я был уродлив в своей болезненности? Взгляду художника привычно ощупывать лица других людей, угадывать линии черепа, будто на слепке, наблюдать за плывущим движением мышц. Пульсация жилок и тонких вен на висках и на лбу, растительность, поры, текстура поверхности кожи – юной, упругой или же дряблой от старости. Трещины и морщины, родинки, шрамы и бородавки – тысячи слов и страниц в этой книге, что пишется без конца. Сколько глав в нашей жизни, столько и перемен. Даже смерть, будто толстая корка, захлопнувшись по прочтении, демонстрирует что-то новое. Но собственную рукопись прочесть я был не в силах. Читатель и автор различны в оценке текста, так же и для меня, лицо в зеркале было не тем, что могли видеть чужие глаза. Преломляясь не только в серебряной поверхности, но и сквозь мнение о самом себе, моё отражение было разным даже в течение суток, в зависимости от того, был ли я весел или подавлен. Уверен, что переменчивый образ со дна этого зеркала, встретившись с тем, что живёт во взгляде Эми, прошёл бы мимо, не узнав его и даже не замедлив шаг.
Холодная вода, стекая по щекам, прервала ход этих бесплодных мыслей, и я наконец вернулся в пустую гостиную. Старое кресло почти не издало ни скрипа под таким несущественным весом моего исхудавшего тела. Письмо снова оказалось в моих руках, вращаясь в них так, чтобы глаза смогли внимательно рассмотреть конверт со всех сторон. Значит, отец Эми позволил ей распорядиться им по своему усмотрению? Нужно будет обязательно поблагодарить мистера Ламберта при следующей нашей встрече. Я и правда давно не навещал их. С трудом даже мог вспомнить, когда это было в последний раз. Как нередко случалось в минуты праздности и тоски, подобным этой, в моей памяти стали всплывать картины прошлого, рисующие то, что связывало меня с Эми и её семьёй.

