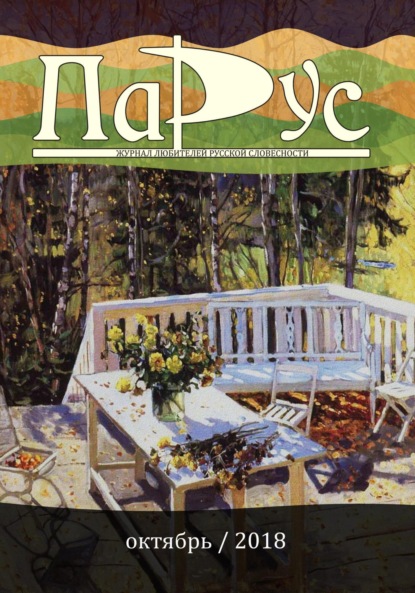
Полная версия:
Журнал «Парус» №68, 2018 г.
– Отслужив армию, дядя Леша в деревне не остался, перебрался к брату в Ленинград. Устроился в автоинспекцию, надел форму. Окончил вечернюю среднюю школу и автодорожный техникум. Женился поздно, под тридцать лет, но в первой семье прожил всего три года – и подраставший сын не удержал. К тому времени с нелюбимыми сержантскими погонами дядька мой уже расстался, перешел на работу в таксопарк. Водку пил и в выходные, и в праздники, и в отпусках. Случайных женщин в бурный период быстро пролетавшей жизни было у дяди Леши много, но ни с кем из них создать прочные семейные отношения у него не получилось. Сойдутся, поживут год-два и разбегутся в разные стороны. К сорока пяти такая вот жизнь, бегающая челноком между работой и случайными связями, стала ему надоедать. Решил остепениться. Отдыхая как-то в санатории, познакомился с очередной «симпатией» (так он называл временных подруг), которая, как и он, наплавалась к тому времени в бурном море легких отношений и, так же как и он, захотела семейного уюта и покоя. И вроде бы получилось наладить такие отношения…
Веснин прервал сам себя, посмотрел в сторону, припоминая то, что он знал о дяде Леше. И продолжил:
– Зарабатывал он на жизнь не только крутя баранку. Скупал по дешевке приватизационные чеки и через друга, занимавшего какую-то немаленькую должность в руководстве Архангельского морского порта, вкладывал их в этот порт. Появились доллары. Выкупил у таксопарка «Волгу», приобрел нового «жигуленка» и поставил его в бокс гаражного кооператива. Тамара взяла на себя домашние хлопоты. Всё как будто складывалось у них удачно: двухкомнатная квартира на Морском проспекте, машины, гараж, относительный достаток… Жить бы да жить, готовясь встретить тихую и беззаботную старость. Но и у Алексея получилось по той же поговорке: «Человек предполагает, а судьба…» Судьба, бабушка, опять распорядилась по-своему.
Как-то на Московском вокзале, поднимая в багажник тяжелую сумку клиентки, дядя Леша вдруг почувствовал резкую боль чуть выше живота. Боль вскоре отступила, но затем с настойчивой регулярностью стала напоминать о себе в разное время суток. За те же доллары врачи основательно обследовали ему все внутренние органы. Больной оказалась печень, причем болезнь была уже в той стадии, когда лечение не помогает, а лишь на время снимает боль. Не спасли ни разного рода знахари, ни прочие экстрасенсы, каких к тому времени развелось повсюду, как мокриц в сыром подвале…
Дядя Павел мне потом рассказывал: «Выписали Леху в конце апреля, я приехал забирать его домой. Стоит у ворот худенький, сгорбившийся старичок – при его-то росте метр девяносто! – стоит с целлофановым пакетиком. Так жалко стало, до слёз… Угробил печень водкой, дундук! Придет, бывало, к нам в выходной или в праздник с семисотграммовой бутылкой водки – и тянет ее, пока не высосет всю бутылку. Я, говорит, приговорил ее к смертной казни и должен привести приговор в исполнение. Выпьет всё до дна – и не пьян, пойдет – не качнется…».
В глубине кладбища, на старой сухой сосне, дятел давал трещотку, человеческие голоса слышались в стороне, на взгорке, где маячили памятники свежих захоронений. Веснин отяжелел от выпитого, вставать с металлической узенькой скамеечки не хотелось. Тучи попугали дождем и ушли на север, за реку. Выглянуло закатное солнце, оживив всё вокруг.
Он посидел еще сколько-то, прикрыв глаза, потом убрал в сумку пакеты, бумагу, пустую бутылку и стакан, поднялся и рассыпал остатки трапезы на могилы. Распихал конфеты и печенье по карманам.
«Ну что, бабушка, кажись, доложил тебе основное», – вслух сказал Веснин и вдруг вспомнил, что он сейчас старше бабки Кати на целых пять лет. Грустно усмехнулся: «Как быстро жизнь пролетела! Неужели так быстро?» Постоял, прочитал про себя недавно выученную молитву «Отче наш». Хорошо легли ее слова на душу, особенно «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Но перекреститься, хотя и не было никого рядом, не смог.
Навестил могилы дедушки Ивана и бабушки Александры, родителей матери, но не задержался особо: там и присесть негде было. Убрал мусор, поправил холмики под железными пирамидками, разложил конфеты и печенье. Уже когда шел к большаку, вспомнил, что и бабушка Александра умерла, не дотянув до шестидесяти. И ее он не помнил. Видел, правда, в детстве на фотографии строгую женщину в сером сарафане и темном платке. Она сидела, а рядом стоял мужик в косоворотке в горошек, с аккуратной небольшой бородкой, положив ей руку на плечо. Это был дед Иван в молодые годы.
Деда Коновалова Санька Веснин знал хорошо: лет двенадцать делил с ним постель то дома, рядом с печкой, в холода, то на сеновале, в пологу, – в теплое время года. По-доброму часто вспоминал он его. А вот бабка Шура никогда – ни в детстве, ни в зрелые годы – в его фантазии и сны не приходила. Что-то о ней рассказывала мать, но рассказы эти не будоражили Санькиного воображения. Была и была – вот и всё. А почему так случилось? Почему бабушка Катерина засела в его подсознании, а вот бабушке Александре не оказалось там места? Он неожиданно понял это только сейчас. Дело было в том, что бабку Катю он всегда жалел. Не осознанно, не головой, – а сердцем, душой, если она и в самом деле есть. Жалел, всем существом своим проникая в ее несчастья, в человеческие ее страдания и боль…
Он шел вдоль большака – и думал, думал обо всем, что случилось в жизни: и с ним самим, и с его родственниками, и с теми, кто окружал их.
– Наверное, и в твоей жизни, бабушка Катя, случались счастливые минуты, и простые радости тоже посещали тебя не единожды. Наверное, было всё это. Как же без этого? Но вот не могу я представить твою жизнь не то что счастливой, но даже и относительно благополучной… Другое дело – жизнь Коноваловых. Неглупый и гибкий Иван оценил в свое время обстановку с коллективизацией правильно, понял, что всё это – всерьез и надолго. И одним из первых вступил в колхоз, отдав туда лошадь с жеребенком и двух коров. Будучи человеком грамотным, долго работал колхозным счетоводом. Сын его стал офицером, дослужился до полковника, покинул этот мир на девятом десятке. Старшая дочь, закрепившись в городе, много лет возглавляла плановый отдел крупного строительного треста, на своих ногах благополучно дошагала до девяноста четырех лет. Меньше повезло со здоровьем младшей дочери, моей матери. Но и она по возрасту подтянулась к восьмидесятилетнему рубежу. И все дети Ивана Коновалова имели крепкие многодетные семьи…
Он шел и думал о превратностях человеческой жизни, задавая сам себе безответный вопрос: почему у одних эта самая жизнь складывается более-менее благополучно и идет ровно, без вывихов и сломов, а у других – как начнется неудачно, так и виляет кривым колесом по ямам и ухабам до конца дней своих? И детям от судьбы таких родителей не белый каравай на стол ложится, а падает лишь черная корка в дорожную суму…
Но сколько ни терзал сам себя трезвеющий потихоньку Веснин, пытаясь найти удовлетворительный ответ, ничего вразумительного у него не придумалось.
После той поездки на кладбище баба Катя перестала приходить в сны Александра Васильевича. Постепенно он начал забывать и ее вопрос, и свой развернутый ответ. Не то чтобы этот ответ напрочь забылся, а как-то незаметно отошел в сторону, на задний план, потускнел. Но все-таки зацепился острыми краями за его сознание и иногда давал о себе знать непонятной, щемившей сердце грустью.
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись третья: «Поработаю пером и чернилом: сорву голову, выну сердце…»
«Чем делают записи в судовом журнале?» – спросил я у знакомого капитана. «Карандашом с твердым или полумягким графитом, либо чернилами, но обязательно стальным пером, – ответил он, – чтобы можно было записи восстановить в случае кораблекрушения. Графит – не размывается, а сталь – процарапывает след в бумаге».
А какими чернилами писать в судовом журнале «Паруса»? Тут за опытом я обратился к «Лоции в чернильном море» Георгия Давыдова («Новый мир», № 6, 2018, стр. 28).
Лоцман сообщает: «Никогда не замечали, что чернила шариковой ручки пахнут давленой миндальной косточкой? (Вот-вот, вы начали черкать по страничке и принюхиваться – хорошо, не видят домашние…) Не знаю, из какого-такого нефтепродукта размешивают теперешние чернила, но прежде чернила называли орешковыми, поскольку источником чернильной жидкости (несмело-коричневого цвета) служили так называемые “чернильные орешки” – круглые наросты вроде бородавок на дубовых листьях. Поначалу зеленые, к концу лета они набирают тёмно-дубовый колер. Если их раздавить – вытечет жидкость, на ней-то и настаивают чернила. А поэт и философ Владимир Соловьев считал, что чернильный орешек помогает от почечуя (недуг вообще-то писательский). Не перорально, нет, в кармане носил».
Лоция – руководство для плавания по морю, в данном случае – чернильному. Но, похоже, слабовато знает глубины и состав чернильного моря лоцман «Нового мира», мелко плавая лишь по «сокам» и «жидкостям», или вообще служит на берегу. Что же: «Чернила соблазнительны. Они имеют нечто общее с вином, чтобы не сказать с кровью» – заметил остроумный русский поэт, собрат Пушкина по перу, князь Петр Андреевич Вяземский. Соблазнительно и мне – составить свою лоцию и заполучить хорошие чернила для судового журнала…
…Земля под ногами усыпана яркой, осенней листвой. В стихах часто сравнивают ее со словами. Да и правда – в иных листьях таится сила, способная закрепить слова на бумаге на многие столетия. Люди, еще что-то пишущие, теперь знают, что с их бумагами может случиться то же, что и с пропавшей грамотой у Гоголя. Разбирая свои блокноты времен школьных и студенчества, я все чаще замечаю: местами исчезли мелкие буквы, строчки, а то и целые листки, особенно если они исписаны зелеными чернилами «Радуга».
А под ногами у нас в сентябре и в октябре – как раз те чернила, которые могут стоять до восьмисот лет. На опавшей дубовой листве различимы, говоря языком ботаники, так называемые галлы, то есть чернильные орешки. На некоторых листьях можно найти даже по два, по три таких орешка темно-красного или бурого цветов.
По рецептам восемнадцатого столетия их измельчали и опускали с добавлением других компонентов в виноградное вино. Так что афоризм князя Вяземского можно понимать и в прямом смысле. Вот один из таких рецептов: «3 штофа белого вина, или жидкого и светлого пивного уксуса, 1 фунт чернильных орешков, 10 лотов камеди, 4 лота квасцов, горстка соли…» Получались «добрые чернила». Позднее обходились обычной водой, но дождевой. Считалось, что особенно хороша вода после мартовских дождей.
Само название чернил говорит о том, что этот состав для писания – черного цвета. В старинных рецептах XVI века его называют «чернило книжное, доброе». То дубильное вещество, которое содержат наросты на листьях, в изобилии находится также в дубовой или ольховой коре. Для того, чтобы приготовить это чернило книжное, то есть для писания книг, рекомендуется «устрогав зеленые корни ольховые, очистить их от мха». Затем кора должна была полежать три дня и высохнуть. На четвертый день ее надо положить в глиняный горшок, налить «пива ячного» и кипятить в печке, чтобы состав упарился. Полученный отвар процедить, а затем «поставить чернило на гнездо», то есть залить отвар в отдельный сосуд и – «мечи туда железа довольно». Иногда уточняли, что железо, старые гвозди или другие обломки должны быть ржавыми, в других рецептах – чистыми. Горшок внутри рекомендуют глиняный, не муравленый – «чернило не любит гладкости».
Дубильные вещества вступают в реакцию с солями: окисью и закисью железа. Для того, чтобы реакция эта протекала быстрее, в гнездо добавляли уксуса, кислого меда или просто доливали кислых щей, пробуя состав на вкус, «чтобы чуть кисло было». В отвар коры хорошо положить и толченых чернильных орешков. Горшочек с чернилами стоял в месте, «где ни холодно, ни тепло было», 8–10 дней, затем чернило снимали с гнезда и процеживали. Для придания более глубокого цвета и густоты добавляли вишневый клей, по-иному, камедь, или смолу южных акаций – гуммиарабик. Цвет «чернила книжного» – от глубоко черного до буро-ржавистого. А гуммиарабик, кстати, увековечен и Шекспиром. Отелло в своем предсмертном монологе свои слезы по безвинно задушенной Дездемоне, сравнивает с «целебною смолой деревьев аравийских».
Сохранились книги двенадцатого века, написанные такими долговечными чернилами. Иногда бумага вокруг строк на странице выпадает от ветхости, а буквы – остаются. Когда начинаешь писать свежими чернилами, то буквы выходят бледными, но затем темнеют. На свету на третий-четвертый день происходит окисление солей железа, и они становятся плохо растворимыми в воде: их трудно смыть с бумаги.
По рецептам восемнадцатого столетия (например, того, где упомянуты «3 штофа белого вина») чернильные орешки смешивали уже прямо с солью железа: железным купоросом. Рецепт не изменился и в следующем веке, а орешки можно было купить в магазинах. Продавались они, судя по ценам конца XIX и начала XX веков, дороже многих продуктов. Так, например, в 1875 году в нашем городе Мышкине фунт чернильных орешков (410 граммов) стоил 80 копеек. А один фунт телятины – восемь копеек, хлеба черного – две копейки, масла коровьего фунт – 25 копеек. Перья гусиные, используемые для письма, стоили – 25 штук – 12 копеек. А вот стальные были довольно дороги: за коробку их надо было выложить целый рубль.
Рецептов разных было очень много. По одним орешки измельчали, затем заливали дождевой водой, по другим рецептам, немецким: «белым ренским вином» – и доводили состав до кипения. Добавляли гуммиарабик, квасцов, яблочного уксуса. Для большей сохранности – соли поваренной. (А в одном случае даже зачем-то: «долить урины»!?) Квасцы придают чернилам мягкость, они лучше пристают к бумаге. Такие чернила приготавливались уже за 3–4 дня: реакция купороса с дубильными веществами, находящимися в орешках, проходила быстрее, чем с простым железом. Ходовые рецепты для приготовления состава из чернильных орешков можно отыскать в старых хозяйственных книгах «для небогатых помещиков». Одна из самых известных таких книг, изданная в Москве в 1805 году: «Большой Алберт».
Эмоционально точно Георгий Давыдов назвал цвет тех чернил «несмело-коричневым». Таким он стал за века: в этой «несмелости» что-то душевное, домашнее, тепло руки в этих буквицах…
Этими – так называемыми железо-галловыми – чернилами писали цари, чиновники в канцеляриях, в домашнем обиходе. Теми же чернилами написаны стихи Пушкина и Лермонтова, романы Толстого. Ими пользовались дети в школах. Многолетним опытом установлено, что они не токсичны. Еще в своих «Георгиках» Вергилий отметил, что больных пчел лечат, подкармливая их мёдом, смешанным с толчеными чернильными орешками. Раз осенью собирал я их с палой дубовой листвы в Мышкине у библиотеки. Врач шел мимо, заинтересовался, подумав, что я орешки собираю для лечебных целей. Отвар их, как он сказал, используют и при онкологических заболеваниях. Дубильные вещества, как известно, обладают кровоостанавливающими свойствами, поэтому, видимо, орешками (а отнюдь не из чудачества) и пользовался Владимир Соловьев.
А вот еще одно мнение о галлах, совсем из другой области знаний, которое приводит известный русский философ Николай Онуфриевич Лосский в своей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция»:
«Растения, образующие под влиянием укола насекомого галлы, в которых развиваются личинки насекомого, оказывают им изумительные услуги без пользы для себя, скорее, во вред себе; яички, а потом развивающиеся в них личинки защищены от врагов твердою оболочкою галлы; наоборот, внутри камеры развивается сочная ткань, служащая им пищею; когда наступает пора для личинок выйти из камеры и окуклиться, галла у разных растений различными способами раскрывается, иногда, например, внутренняя часть ее выбрасывается наружу набухшею внешнею оболочкою и т.п. Эти удивительные проявления «альтруистического» служения одних существ другим не могут быть объяснены ни дарвинизмом, ни психо-ламаркизмом».
Фиолетовые же, химические чернила появились уже в конце девятнадцатого века, но в широкий обиход вошли позднее. Технология производства их подробно изложена в словаре Брокгауза и Эфрона. В СССР в 60–70-е годы прошлого века широко были известны чернила пяти цветов «Радуга» для авторучек. (Самые стойкие из них – черные, а самые слабые – зеленые). Потом на смену им пришли шариковые авторучки. По результатам проведенных учеными опытов, чернила «Радуга» черного цвета полностью исчезали после непрерывного облучения солнечным светом в течение 44 часов. При ультрафиолетовом облучении выцветали значительно раньше – примерно за 45 минут. Паста чуть лучше. К тому же она и водой размывается труднее. Правда, так утверждали в далекие уже 1970-е годы. А теперь порой оставишь исписанный шариковой ручкой листок на солнце, на подоконнике, а через месяц – почти все строчки выцвели, видны лишь бледные следы. Видимо, паста для авторучек раньше была качественнее. Еще в конце 60-х годов минувшего века, когда на смену школьным чернилам пришли шариковые авторучки, написанное ими так быстро не выцветало.
По этим данным не трудно представить судьбу всех наших документов, написанных авторучками, как чернильными, так и шариковыми. «Радуга» легко смывается водой и выцветает. Причем после этого текст, по утверждениям специалистов, невозможно восстановить даже криминалисту. Иногда, правда, случается, что выцветают и чернила из чернильных орешков, но химик их может восстановить по сохраняющимся на бумаге солям железа.
На Востоке писали заостренной тростниковой палочкой, каламом. У нас – птичьими перьями, чаще гусиными. Богатые люди – лебедиными или журавлиными. Использовали и вороньи, как, например, Бетховен. Куриными писали только чудаки, как друг Чехова, поэт-сатирик Илиодор Пальмин. (Так он куриц почему-то любил – они у него прямо в квартире жили!)
Перо надо сначала закалить, потом очинить. Срезали кончик, называемый «очином», прочищали стержень вглубь, потом раскалывали, проделывали дырочку сбоку: во время писания её зажимали пальцем, удерживая в стержне чернила. Верхний пух тоже срывали, чтобы не мешал. Старинная народная загадка про писчее перо так рисует эту операцию: «Сорву космату голову, выну сердце, дам пить – станет говорить». Птичьи перья быстро изнашиваются. Так, царица Екатерина II вставала рано и садилась за документы, за утро, как она говорила, «исписывала два пера». Стальные перья из Европы в России появились уже при императоре Николае I.
В 1984 году о моих опытах с чернилами написали в районной газете. Заметку перепечатала областная ярославская газета «Северный рабочий», а из неё – самая крупная газета тех лет – «Правда». После этой публикации меня вдруг спешно вызвал к себе второй секретарь мышкинского райкома и сообщил, что рецептом чернил заинтересовались в ЦК КПСС и велели срочно передать туда через обком партии все данные. Я сначала даже растерялся. Никаких секретов и рецептов у меня нет, как чернила «варили», можно узнать в летописях и старинных книгах. Мои коллеги по районной газете ломали головы: для чего в ЦК КПСС понадобилось «чернило книжное»? Один сотрудник даже предположил, что в Мышкине, наверное, хотят открыть завод по производству этого канцелярского товара, а меня – назначат директором. Дело оказалось проще: в ЦК тогда занимались изготовлением долгосрочных чернил для партийных документов. Кстати, американцы для своих государственных «файлов», по данным тех лет, также использовали железо-галловые чернила с добавкой разных современных химических компонентов.
А после публикации в «Правде» мне стали приходить письма из разных уголков СССР. Оказалось, в нашей стране, немало людей, увлекающихся чернилами. Они пробуют, ищут: кто использует еловую кору, кто – ивовую или отвар луковой шелухи. Один ветеран войны сообщил, что чернилами, похожими на мои, писали в лесу партизаны: в отвар дубовой коры добавляли железных опилок. Обычных, фиолетовых, не было. Некоторые из авторов таких писем жаловались, что у них чернила выходят слишком бледными и просили помочь советом. Сколько рецептов я разослал по таким просьбам – не сосчитать!
Сам же я рецепт этих «добрых, книжных» восстановил с самой простой целью. Мы с однокурсниками по Литературному институту Валерием Шпигуновым и Владимиром Гоголевым решили выпустить рукописный альманах. А долговечность написанного зависит и от чернил. Было это в 1978–80 годах. Мы со Шпигуновым жили тогда в Ярославле, он работал в художественном музее. Валерий неплохо рисовал и стал художником-оформителем нашего альманаха, которому мы дали название «Сретение». Володя Гоголев жил в Москве, он сочинял духовные, метафизические стихи. Я взялся переписать весь фолиант почерком, копирующим скоропись семнадцатого-восемнадцатого веков. То есть «поработал пером и чернилом», как говорили в старину. Эпиграфом к нашему «Сретению» мы поставили древнерусскую пословицу: «Чем глубже схоронится семя, тем оно лучше уродится».
Давно ни Володи, ни Валеры нет в живых. На память о моих друзьях и нашей молодости мне остался фолиант в переплете из бересты, наше «Сретение». Там, кстати, была «опубликована» моя повесть колымская «Василий Нос и Баба Яга». В новом веке ее напечатали Евгений Чеканов в журнале «Русский путь на рубеже веков» и Николай Родионов в «Ростовском альманахе». Позднее я, овладев переплетным делом, изготовил несколько своих рукописных книг: «Семейные рассказы», «Настина книга, или Мысленные кубики», «Словесное семя». Для рисунков использовал цветные, писучие камешки, вымываемые на Волге из откосов глинистого берега. Растирал их на базальте по рецептам иконописцев. Добавлял яичного белка, меду, камеди – как химик: художник же я – никудышный! Писал разными перьями: вороньим, журавлиным, ястребиным, гусиным. В этих книгах – не выцвело ни строки.
Вот таким «чернилом книжным, добрым» я решил вести и судовой журнал «Паруса». Как Георгий Давыдов принюхивается к шариковой авторучке, так и я люблю нюхать свои чернила… Запах! Особливо когда заливаешь отвар в гнездо! Не с чем сравнить: яблочный, цветной… соблазнительно напоминающий о том плоде, который был сорван человеком с запретного райского древа.
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
***
Я жизнь свою пересмотрел
В который раз.
Навел на прошлое прицел,
Прищурил глаз…
Хватило б дерзости и сил,
О жизнь моя!
Но выстрел мой опередил
Грядущий я.
Прошлое нельзя ни стереть, ни расстрелять, оно – есть и будет всегда. Но многие из нас желали бы именно этого – уничтожить свое прошлое, начать жизнь с чистого листа. Задумавшись однажды о причинах, которые делают такой кульбит невозможным, я сказал себе: само это желание лежит в той области, где не действуют законы земного бытия, но ведь по каким-то законам и эта область живет. По каким же?
Наверное, и там обязана присутствовать, какая-никакая, логика, должны быть причины и их следствия. Если даже детерминированность там и нарушена, все-таки непременно должно быть нечто уравновешивающее, сдерживающее, препятствующее уничтожению цельной схемы мироздания.
А если это так, то как только ты наведешь на свое прошлое прицел, в будущем тут же появится некий грядущий «ты», который выстрелит в «тебя сегодняшнего» на мгновение раньше. И, таким образом, «оставит всё как есть».
ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Сверкнула грозная зарница,
Дух свистнул из-под топора!
Как белый факел, бьется птица
В сухой пыли среди двора.
Порывы к жизни тело мучат
И крылья бьют земную твердь…
А голова кричит беззвучно,
Со страхом ожидая смерть.
Всякий, кто рос в деревне, хоть раз, но видел, как тело курицы, уже лишенное головы, скачет по земле в смертной агонии. В моей детской памяти эта сцена запечатлелась очень ярко, – особенно хорошо запомнилась лежащая на земле отрубленная голова с красным гребешком, разинутым в панике клювом и выпученным оранжевым глазом. Я понял тогда: голова не знает, что смерть уже наступила, голова всё еще в ужасе ждет, когда это произойдет. Значит, вот так случится и со мной? Я тоже не пойму, что я уже умер?
Значительно позже, будучи вполне уже взрослым человеком, я подумал, что дитя, идущее на свет по родовым путям матери, тоже ведь ждет гибели – по-другому понять то, что с ним в это время происходит, оно не может. Его куда-то затягивает из привычного уютного мирка, его мнет и тащит что-то могучее и беспощадное, которому невозможно сопротивляться, – и дитя, видимо, ждет в этот момент смерти. Хотя на самом деле рождается к новой жизни…



