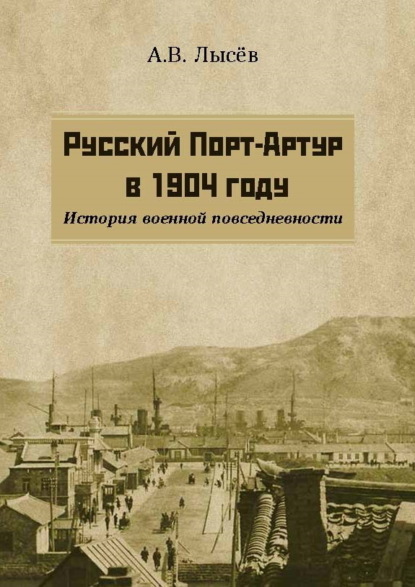
Полная версия:
Русский Порт-Артур в 1904 году. История военной повседневности
Оставшимся в живых участникам обороны Порт-Артура после завершения Русско-японской войны было предложено написать воспоминания. Причем предложение это касалось как командного состава, так и нижних чинов. Многие порт-артурцы на это предложение откликнулись. Некоторые мемуары были опубликованы практически сразу после их написания. Значительная же часть материалов была передана в архив. В них содержится масса подробностей из истории военной повседневности русского Порт-Артура, которые на фоне увлечения историей боевых действий не были востребованы должным образом. Для изучения истории повседневности этот комплекс документов представляет несомненный интерес. Только лишь в 2000—2010-х гг. некоторые из этих интереснейших источников мемуарного характера были опубликованы частично в периодической печати или вышли в свет отдельными изданиями[7].
Таким образом, фонды РТА ВМФ представляют особую ценность при исследовании военного быта русского Порт-Артура.
В работе используется ряд материалов, хранящихся в РГИА. В фонде 398 (Департамент земледелия) содержатся, в частности, рекомендации и разработки по обеспечению войск продовольствием собственными силами, что в условиях осажденного Порт-Артура имело особую актуальность (например, дело «Об устройстве огородов для нужд армии, действующей на Дальнем Востоке»).
Несомненный интерес вызывают дела Ф. 560 (Общая канцелярия министра финансов). Они касаются разных видов снабжения блокированной крепости: «О военной контрабанде во время русско-японской войны», «О доставке продовольствия и боеприпасов в осажденный Порт-Артур», «О снабжении русской армии контрабандными припасами Порт-Артура».
Материалы Ф. 1101 (Документы личного происхождения, не составляющие отдельных фондов) представляют собой письма, воспоминания, записки (в том числе статью лейтенанта В.И. Лепко об обороне Порт-Артура, записку командира миноносца с критическими замечаниями об обороне Порт-Артура).
Источники личного происхождения (как из коллекции РГА ВМФ, так и РГИА) ценны прежде всего тем, что дают представление о том, как применялись и изменялись общие для всей русской армии и флота постановления в условиях военного Порт-Артура. В дневниках и письмах зафиксированы нововведения и изменения военного быта зачастую с точностью до одного дня. Записные книжки и письма дают личные, иногда вовсе не предназначенные для чужих глаз, суждения о военной повседневности русского Порт-Артура. Нередко эти суждения и свидетельства расходятся с общепринятыми в исторической литературе мнениями. Правомерно утверждать, что источники личного происхождения наиболее адекватны предмету и задачам любого исследования по истории повседневности.
Из числа опубликованных источников по теме нашего исследования следует назвать нормативные документы, прежде всего, Свод военных постановлений 1869 г., затрагивающий все стороны армейской жизни в России в конце XIX – начале XX вв. Непосредственный интерес представляют книги XVIII, XIX и XX «Свода…»: «Заготовление и постройки по военному ведомству» (СПб., 1907), «Довольствие войск» (СПб., 1911) и «Внутреннее хозяйство частей войск» (СПб., 1907). В них отражена общая регламентация основных аспектов армейской повседневности.
Для морской повседневности аналогичным кодексом законодательных актов является Свод морских постановлений, а именно книги XIII и XIV «О довольствии чинов Морского ведомства» (СПб., 1898) и «Хозяйство экипажей и команд на берегу и хозяйство на судах флота» (СПб., 1886). Эти книги регламентируют все материальные стороны военно-морского быта. В них определена также специфика прохождения службы на Дальнем Востоке.
Другим общим для армии и флота нормативным актом служит «Учреждение орденов и других знаков отличия» (СПб., 1882). «Собрание узаконений постановлений и других распоряжений по Морскому Ведомству за 1904 год» (СПб., 1905) отражает юридические изменения в военно-морском законодательстве на текущий момент (в нашем случае – на 1904 г.).
«Памятка для молодого матроса на военном судне» (СПб., 1901) содержит в числе прочих и бытовые советы и рекомендации нижним чинам на кораблях.
Все эти документы содержат информацию о военной повседневности русского Порт-Артура как одной из военно-морских баз России.
Ценным источником служат документы, собранные и изданные Военно-исторической комиссией по описанию Русско-японской войны. Свою задачу комиссия видела лишь в сборе материалов о войне. Сюжеты из истории повседневности Порт-Артура содержатся в работе «Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота» (вып. 1, 2,4 и 7). В выпуски, выходившие в 1911–1914 г., был включен обширный фактический материал, документация, выдержки из мемуаров участников обороны Порт-Артура. Однако авторы труда не квалифицировали источники по принадлежности к истории военной повседневности.
Описанию действий флота посвящена также работа Исторической комиссии при Морском главном штабе. Из опубликованного этой комиссией 7-томного «Описания действий флота в войну 1904–1905 гг.» интерес для темы истории повседневности представляют том «Действия флота на южном театре и действия морских команд при обороне Порт-Артура» (Пг., 1916). Документы по материальному снабжению и питанию гарнизона содержатся также в издании «К порт-артурскому судебному процессу. Обвинительный акт» (СПб., 1908).
Из опубликованных в советский период материалов нужно отметить сборник документов «Русско-японская война. Сборник материалов» под редакцией П.Ф. Ярового (Л.,1938). Из новейших специальных работ такого рода следует прежде всего упомянуть межархивный сборник документов и воспоминаний «Из истории Русско-японской войны 1904–1905 гг. Порт-Артур» (М., 2008–2018) и сборник документов, подготовленный И.В. Лукояновым и Д.Б. Павловым «Порт-Артур и Дальний. 1894–1904 гг.: последний колониальный проект Российской империи» (М.; СПб., 2018).
Говоря о материалах периодической печати, следует выделить прежде всего официальные издания Военного и Морского ведомств – «Военный сборник» и «Морской сборник». На страницах этих журналов в 1905—1910-е гг. велись оживленные дискуссии по самым разнообразным вопросам, связанным с Русско-японской войной. Большая часть морских и сухопутных офицеров, выпустивших впоследствии свои исследования о войне отдельными изданиями (уже упоминавшиеся Н.Л. Кладо, А.П. Капнист, Д.Н. Вердеревский и др.), публиковали статьи в «Военном» и «Морском» сборниках. Кроме них стоит упомянуть также работы капитана 1-го ранга М.В. Бубнова (Морской сборник, 1906. № 10–12 и 1907. № 1–6) и полковника Г.И. Тимченко-Рубана (Военный сборник, 1905. № 3–6), в которых приводятся интересные сведения по истории военной повседневности.
Особый интерес представляют публикации «Военно-медицинского журнала». Среди них следует отметить работы военных врачей М.Д. Иссерсона (1906. № 3), И.И. Кияницына (1906. № 1), А.В. Сибирского (1906. № 4). Рассматривая различные заболевания в осажденном Порт-Артуре, эти исследователи проанализировали условия питания и проживания защитников крепости, состояние их обмундирования.
Из материалов периодической печати следует отметить также «Летопись войны с Японией» (вып. 1—84, СПб., 1904–1905) под редакцией полковника Д.Н. Дубенского. Исключительно ценными являются материалы, публиковавшиеся в газете «Новый край» за январь – декабрь 1904 г. Она выходила непосредственно в Порт-Артуре на протяжении всей его осады. Газета позволяет день за днем отслеживать настроения и отчасти ход жизни в осажденном городе.
Мемуарная литература – один из основных источников по истории повседневности любой военной кампании. Большая часть мемуаров о Порт-Артуре была опубликована в Российской империи в первые годы после окончания Русско-японской войны. В них, как и в специальной литературе, прослеживается общая тенденция – информация о военном быте по большей части носит характер эпизодических зарисовок. Однако в мемуарах повседневная история Порт-Артура отражена гораздо полнее, чем в исследованиях об обороне крепости. Поскольку самих участников обороны в равной мере волновали как ход военных действий, так и условия собственной повседневной жизни.
Опубликованные воспоминания можно разделить по авторской принадлежности на несколько категорий: флотские, армейские и гражданских лиц. В первых двух категориях можно выделить мемуары высшего командного состава, штаб и обер-офицерства, нижних чинов. Отметим, что обывателю вопросы повседневного быта и достатка были гораздо ближе, чем тактика и стратегия военных действий. В этой связи исключительную ценность представляют мемуары жителей Порт-Артура, журналистов Н.Н. Веревкина (Странички из дневника. Очерки из жизни осажденного Порт-Артура. СПб., 1905), П.Н. Ларенко (Страдные дни Порт-Артура. СПб., 1906), Ф.И. Булгакова (Порт-Артур. Японская осада и русская оборона его с моря и суши. СПб., 1905). Повседневную жизнь описывает в своих воспоминаниях и полковой священник А. Холмогоров (В осаде. Воспоминания порт-артурца. СПб., 1905).
Анализируя воспоминания военных и моряков, важно учитывать следующее: чем выше занимаемое положение автора мемуаров, тем меньше в тексте бытовых подробностей. Поэтому наибольший интерес для нас представляют мемуары среднего командного состава. При работе с мемуарами необходимо учитывать и социальное происхождение автора, его индивидуальное отношение к действительности (это, как правило, видно из стиля и манеры, в которой ведется повествование). Наконец, во внимание нужно принимать общие представления людей той эпохи, их взгляды, воспитание. Для изучения истории военной повседневности значение мемуарных и эпистолярных источников весьма велико. Часто некоторые сюжеты реконструируются исключительно на материалах источников личного происхождения. В таких случаях обязателен тщательный анализ и сопоставление разных документов. Тот или иной факт должен быть проверен путем перекрестной сверки таких источников (вне зависимости от отношения авторов самих источников к этому событию).
История повседневности нашла отражение в мемуарах сухопутных офицеров порт-артурского гарнизона Н.М. Побилевского (Дневник артурца. СПб., 1912), А.Н. Голицынского (На позициях Порт-Артура. Из дневника ротного и батальонного командира. СПб., 1906), Л.М. Карамышева (Последний день Порт-Артура. Воспоминания участника. СПб., 1907), А.И. Костюшко (Ноябрьские бои на Высокой горе под Порт-Артуром. СПб., 1909), Н.А. Третьякова (5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк на Кинджоу и в Порт-Артуре. СПб., 1911), Я.У. Шишко (Рассказы участника обороны Порт-Артура. М., 1905) и ряда других. Из флотских мемуаров можно отметить воспоминания И.И. Ренгартена (Воспоминания порт-артурца. СПб., 1910), А.П. Штера (На крейсере «Новик». СПб., 1907).
В виде отдельных брошюр выходили в свет воспоминания некоторых нижних чинов. В качестве примера можно привести «Воспоминания порт-артурского солдата 13 ноября 1904 г.» (СПб., 1906).
Практически не содержат бытовых подробностей генеральские воспоминания А.В. Фока «Сдача порт-артурского форта № 2» (СПб., 1907) и «Письма из Порт-Артура генерала Стесселя и его супруги» (СПб., 1904). Скорее в качестве исключения, ценным источником по истории военной повседневности оказались мемуары отставного генерала М.И. Костенко «Осада и сдача крепости Порт-Артур» (Киев, 1907).
В советский период мемуарная литература по Русско-японской войне выходила в несравнимо меньшем, чем до революции, объеме. Ценность при изучении истории повседневности среди публикаций того времени представляют воспоминания военного врача В. П. Баженова «Японская кампания (дневник полкового врача)» (Тула, 1926). В 1954 г. были опубликованы дневниковые записи одного из руководителей сухопутной обороны крепости – полковника С. А. Рашевского[8].
К 50-летию окончания Русско-японской войны русскими эмигрантскими кругами в США был выпущен сборник «Порт-Артур. Воспоминания участников» (Нью-Йорк, 1955). В сборник вошли воспоминания моряков, военных и гражданских лиц, находившихся в Порт-Артуре в 1904 г. Большинство статей сборника содержит массу интересных бытовых подробностей из жизни русского Порт-Артура. О быте моряков Тихоокеанской эскадры поведал также генерал-лейтенант флота, эмигрант В.Н. Давидович-Нащинский. Его книга «Воспоминания старого моряка» вышла в Болгарии в 1933 г.
Интересные сведения по истории быта русской армии на Дальнем Востоке содержатся в опубликованных в 1995 г. воспоминаниях сухопутного офицера В.В. Перова[9].
Оставили мемуары об обороне Порт-Артура и иностранные наблюдатели, находившиеся при японской осадной армии. В кратчайшие сроки их воспоминания были переведены на русский язык и изданы в России. Тема военной повседневности затрагивается в мемуарах Э.А. Бартлетта «Осада и сдача Порт-Артура» (СПб., 1907, пер. англ.), Г. Кеннана «Из заметок об осаде Порт-Артура» (Варшава, 1909, пер. с англ.), Б.В. Норригаарда «Великая осада Порт-Артура и его падение» (СПб., 1906, пер. с англ.), К. де Грандпре «Падение Порт-Артура» (1908, пер. с франц.) иряде других. При анализе мемуаров иностранных участников событий необходимо учитывать прежде всего их личное отношение к воевавшим сторонам. Позиция, совпадающая с внешнеполитической доктриной родной страны по вопросу русско-японского конфликта, прослеживается только у англичан, мемуары которых, как правило, содержат гневные выпады в адрес России. В них же прослеживается необоснованное восхваление Японии. Представители остальных стран Европы и Америки руководствовались в изложении событий собственными симпатиями и антипатиями. Причем нередки случаи, когда симпатии соотечественников разделялись. Наиболее типично это для французов. Степень достоверности изложенных в мемурах иностранцев событий повышается в тех случаях, когда описание или трактовка этих событий по существу не расходятся с содержащейся в русских мемуарах информацией.
В качестве дополнительных материалов интерес представляют картографические издания: В. Котвича и Л. Бородовского «Ляодун и его порты: Порт-Артур и Далянвань» (СПб., 1898), В.Д. Червякова «По китайскому побережью» (СПб., 1899), систематический справочник Н.А. Корфа «О географических картах, изданных военно-исторической комиссией по описанию русско-японской войны» (СПб., 1911).
Для выявления наиболее характерных типажей и формирования представлений о быте является ценным фото- и другой иллюстрированный материал, опубликованный в издании «Русская эскадра на Дальнем Востоке. Альбом художественных снимков» (Киев, 1904).
В общей сложности для освещения избранной темы автором были изучены порядка двухсот опубликованных и неопубликованных источников и исследований разного рода (из них семь на немецком языке, австрийские и германские). Проведенное исследование дало возможность восстановить достаточно объективную картину истории повседневности русского Порт-Артура в 1904 г.
* * *Автор и издательство выражают признательность всем, кто предоставил материалы и оказывал помощь и поддержку на разных этапах подготовки книги: кандидату исторических наук, доценту кафедры истории, философии и культурологии Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Денису Юрьевичу Алексееву; доктору исторических наук, профессору кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Ирине Валерьевне Алексеевой (1955–2018); доктору исторических наук, профессору кафедры истории и теории искусств Института дизайна и искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексею Владимировичу Арановичу; кандидату исторических наук, начальнику Отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности Российского государственного архива Военно-Морского флота Алексею Юрьевичу Емелину; военному историку Александру Юрьевичу Зубкину; военному историку Вячеславу Михайловичу Лурье (1934–2009); доктору исторических наук, заведующему кафедрой русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Андрею Борисовичу Николаеву; кандидату исторических наук Федору Александровичу Гущину; кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику Отдела военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына Никите Анатольевичу Кузнецову; кандидату исторических наук Дарье Аркадьевне Тимохиной (г. Москва).
Автор сердечно благодарит всех коллег, друзей и особенно свою семью, благодаря которым книга, наконец, увидела свет.
Глава 1
Русский Дальний Восток на рубеже XIX–XX вв. Обзор событий
Русско-японская война 1904–1905 гг., на первый взгляд, могла показаться локальным конфликтом в отдаленном от центров мировой политики Дальневосточном регионе. Однако свои интересы в этом регионе имели все ведущие мировые державы. Открытое вооруженное столкновение произошло между Россией и Японией. Его ход привлек пристальное внимание политиков и военных Европы и Америки. Они, как и различные представители непосредственно воевавших сторон, сделали для себя выводы из уроков Русско-японской войны. Борьба России и Японии была первым в XX в. конфликтом держав, обладавших мощными и новейшими на тот момент средствами ведения войны. В боевых действиях с обеих сторон приняли участие крупные соединения армии и флота. В морских и сухопутных сражениях были опробованы последние достижения техники, военной организации, стратегии и тактики. Многие из устоявшихся в военном деле стереотипов показали свою нежизнеспособность. При этом война продиктовала новые формы и приемы ведения боевых действий. Они задали направление, по которому развивалась мировая военная мысль в период с 1905 по 1914 гг. Поэтому Русско-японскую войну справедливо можно считать своеобразной репетицией Первой мировой войны.
Военные неудачи России оказали влияние на ситуацию внутри страны. Война стала катализатором революционных событий 1905–1907 гг. Поражение в войне с Японией заставило пересмотреть основные ориентиры внешней политики России, ее военную доктрину. Опыт, полученный во время Русско-японской войны, оказал влияние на дальнейшее развитие российских вооруженных сил и военно-морского флота.
Узел противоречий, приведший к столкновению между Россией и Японией, начал затягиваться задолго до начала боевых действий. Торпедной атаке русской эскадры на внешнем рейде Порт-Артура японскими миноносцами 27 января 1904 г. предшествовала накалившаяся добела внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке. О том, что война разразится со дня на день, в январе 1904 г. были прекрасно осведомлены не только в Токио, но и в Санкт-Петербурге. Со второй половины 1890-х гг. Россия и Япония целенаправленно и планомерно вели военные приготовления друг против друга. К исходу 1903 г. возможности мирного урегулирования противоречий между двумя державами были практически исчерпаны. На русские владения на Дальнем Востоке неотвратимо надвигалась война…
Однако времени, когда поля Маньчжурии станут театрами боевых действий, предшествовали годы и десятилетия вполне мирного освоения русскими Дальневосточного края. Это освоение явилось естественным продолжением русской колонизации Сибири.
Еще в середине XVII в. русские землепроходцы, направляясь через Сибирь на Восток, вышли к реке Амур. В 1645 г. Василий Поярков спустился по Амуру в Охотское море. В 1648 г. экспедиция Семена Дежнева открыла пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. Одновременно с ними ряд поселений основывают по Амуру экспедиции Ерофея Хабарова. В 1697–1699 гг. Владимир Атласов с отрядом казаков совершил экспедицию на Камчатку. В 1711–1713 гг. русские казаки предприняли два похода на Северные Курилы и обязали их местное туземное население – айнов – платить России дань. В 1739 г. русская экспедиция доходила до острова Хоккайдо. К 1779 г. русскими были покорены айны, населявшие Южные Курилы. Это вызвало ответную реакцию со стороны Японии, также претендовавшей на острова. Несмотря на политику изоляции, которую японское правительство проводило с 1639 г., опасаясь проникновения в страну европейцев, на острова Курильской гряды была отправлена японская военная экспедиция. В течение 1786–1788 гг. японцы вытеснили русских с Итурупа и Кунашира, южных островов гряды. Эти события можно считать первым в истории русско-японским столкновением.
Долгое время русские границы на Дальнем Востоке не были зафиксированы в межгосударственных договорах. Русская колонизация края в силу его удаленности шла крайне медленно. Во время Крымской войны англо-французская эскадра подвергла бомбардировке Петропавловск-Камчатский и русский поселок на острове Урупе. Одновременно под давлением европейцев и американцев Япония вынуждена была открыть для иностранной торговли некоторые свои порты. Период самоизоляции Страны восходящего Солнца подходил к концу.
В 1855 г. был подписан первый русско-японский договор – Симодский трактат. По нему Россия признавала права Японии на Итуруп и Кунашир. Между двумя странами были установлены дипломатические отношения, русские корабли наряду с судами других держав стали заходить в крупные японские порты. Открытым остался вопрос о принадлежности острова Сахалин. В ходе миссии вице-адмирала Е.В. Путятина была достигнута договоренность о стоянке русских военных кораблей на острове Цусима.
В этот же период был заключен ряд соглашений между Россией и Китаем. С 1689 г. действовал Нерчинский договор. Он был заключен русским правительством с правившей тогда в Китае маньчжурской династией Цин после череды локальных конфликтов. Тогда к Китаю отошло Приморье, часть Приамурья и некоторые другие территории, ранее занятые русскими. В 1853–1855 гг. Россия организовала Амурскую экспедицию во главе с Г.И. Невельским. Были заняты низовья Амура и Приморье. Ослабленный в войнах с европейцами Китай не протестовал. В 1858 г. по Айгунскому договору Китай признал владением России Приамурье (по левому берегу Амура до Тихого океана и по реке Уссури). В том же году по Тяньцзинскому договору Россия формально получила в Китае те же права и привилегии, что и западные державы. Отдельно было оговорено право беспошлинной торговли вдоль русско-китайской границы.
В ходе успешной дипломатической деятельности графа Н.Н. Муравьева-Амурского было определено общее направление границ России с западными владениями Китая. По Пекинскому договору 1860 г. за Россией был признан Южно-Уссурийский край. В 1864 г. Чигучагским протоколом границы России на Дальнем Востоке были уточнены и в 1869 г. на них были поставлены пограничные знаки.
После продажи Аляски в 1867 г. Североамериканским Соединенным штатам окончательно оформились геополитические пределы русской колонизации в восточном направлении. Государственные границы очертили области, тяготевшие к России естественным образом. К тому же, они имели более или менее однородные климатические условия с уже осваивавшейся длительный период Сибирью.
В 1870—1880-е гг. был заключен еще ряд соглашений с дальневосточными соседями. В 1875 г. по русско-японскому договору Япония отказалась от притязаний на южную часть Сахалина. Остров целиком отходил России. Взамен Япония получала всю Курильскую гряду.
В конце 1870-х – начале 1880-х гг. произошло несколько кризисов в русско-китайских отношениях. В 1879 г. из-за набегов маньчжур на приграничную территорию русские войска были придвинуты к границе и готовились оккупировать часть западного Китая. На Дальний Восток была послана в демонстрационных целях эскадра адмирала С.С. Лесовского. Кризис сорвал ратификацию взаимовыгодного Ливадийского договора между Китаем и Россией.
В 1881 г. между странами был подписан Петербургский договор. Он устанавливал право беспошлинной торговли по обе стороны русско-китайской границы на глубину в 50 верст. Соглашение 1886 г. в Хунчуне подтвердило прежние границы между Россией и Китаем.
Между тем, в конце 1880-х – начале 1890-х гг. русский Генеральный штаб в дежурном порядке разрабатывает планы обороны на случай нападения Англии и Китая на Тихоокеанское побережье России. Япония в этих планах не рассматривается даже как потенциальный противник…
Освоение громадных территорий на Дальнем Востоке шло достаточно медленными темпами. В последней трети XIX в. государство неоднократно пыталось стимулировать этот процесс. Площадь Амурской и Приморской областей (без Охотско-Камчатской окраины) составляла около 100 тыс. кв. км. Земли эти в целом не были благоприятны для земледелия. Большинство почв были песчаными или супесчаными. Лишь в Амурской области между реками Зеей и Буреей слой плодородного перегноя составлял 120–180 см, а в низинах доходил до 7 м. Это был так называемый «местный чернозем». От Бурей до Хабаровска шли песчаные, илистые, глинистые почвы. В Уссурийском крае преобладал серый суглинок. Его слой составлял от 60 до 180 см. В Приамурье уровень пригодной для земледелия почвы не превышал 240 см. Все это вынуждало крестьян после 6–8 лет использования менять земельные участки.



