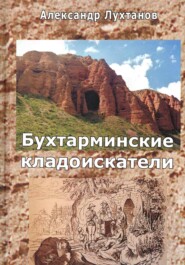 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
Весь класс замирал, слушая эти слова учителя, и даже самые отчаянные шалуны забывали о своих проделках и проказах.
– Давно это было,– продолжал учитель, – двести – двести пятьдесят лет назад. – По Бухтарме, по диким ущельям Холзуна и Листвяги стали появляться доселе неизвестные люди. Бродяги не бродяги, бедные непонятные люди, одетые в дерюги и домотканые рубахи. Заросшие, бородатые мужички, кто на лошадёнке, с ружьецом, а кто и без, пешим ходом, с топором за поясом. Были они голодны, промышляли кто во что горазд: кто рыбачил, ставя самодельные верши на Бухтарме, кто стрелял коз или ловил в западни и ямы щук. Прячась по диким ущельям, беженцы получили прозвище «каменщиков», ведь в России в те времена все горы называли камнем.
Народ голодный, и потому на всё способный. Могли и отобрать у бродячих охотников-алтайцев еду и одежду.
К зиме сделали себе землянки, но пахать, сеять нельзя, потому что были они беглые, а пашня могла выдать их местонахождение. Следом посылались военные отряды – они рыскали, искали беглецов. Были среди них и женщины, но мало – не более одной на десять мужиков. Потому дрались или брали в жёны местных калмычек. Вам, конечно, интересно знать, кто же эти беглецы. Это были старообрядцы, преследуемые властями за веру, и горнорабочие с алтайских, демидовских заводов, сбежавшие от принудительного и непосильного труда на шахтах. Эти заводы и шахты назывались тогда Колывано-Воскресенскими.
– А наш дед Селиван рассказывал о прежней жизни, – вмешался в рассказ мальчик Коля Зенков, – как молотили хлеб цепами, толкли зерно в каменных, самодельных ступах, и бывало, мёд качали в земляные ямы, так как не было посуды.
– У них получилось не лучше, чем у Робинзона Крузо, – заметил другой паренёк. – Тот с одного зёрнышка начинал. Нашёл завалившееся где-то в щелке кармана и развёл целую плантацию.
– Вы правы, ребята, – согласился учитель. – Робинзон, не Робинзон, а нашему мужику туго приходилось. Голод не тётка, а люди пришли с голыми руками. Не скопили никаких припасов. Да и откуда их взять, когда бежали тайком, боясь погони? Хотя бы самим целым остаться. Кору, бывало, толкли и ели. Крапиву, лебеду. Опять же, в землянках жили. Прятались. Сколько людей померло!
Лес рук поднимался над партами, ребят живо заинтересовала история их края, но урок подходил к концу, и, к огорчению класса, Евгений Александрович признался, что он и сам во многих вопросах ещё не разобрался.
– Честно вам скажу, – продолжал он, – история с каменщиками темна, как сама черневая тайга, и полна загадок. В своё время, в XVIII веке историки упустили её. Когда спохватились, оказалось, что нет ни документов в архивах, ни сведений. Да и какие документы могли быть у беглецов, по существу – у бродяг, скрывающихся от властей? Кое-что можно почерпнуть из донесений отрядов, разыскивающих беглых. Отчёты, приказы, распоряжения.
Первые известия о каменщиках поступили в 1761 году, когда были обнаружены две избушки на реке Тургусун. Там узкое ущелье, труднопроходимое. Потом стали известны поселения выше по Бухтарме, но ни слова о Хамире. Возможно, они были и здесь, но об этом нет известий. А о том, что русские знали эти места, говорят и названия: Громотушка, Логоуха, Столбоуха. Они упоминаются уже в источниках начала XIX века.
Из заслуживающих внимания документов есть лишь список некоего офицера отряда, в конце XVIII века отправленного ловить беглецов, где он перечисляет таёжные убежища – поселения каменщиков, жилища в которых нельзя назвать ни деревянными, ни земляными. В каждом из них по две – пять хижин или землянок. Но этот список касается верховий Бухтармы, а про наши места ничего не сказано. По логике наша долина должна была заселиться одной из первых: широкий простор, нет теснин, возможность заниматься земледелием и охотой. С другой стороны, именно близость и доступность на руку властям и карательным отрядам. Здесь труднее прятаться.
Здесь прозвенел звонок, но школьники не расходились и, окружив Евгения Александровича, наперебой заваливали его вопросами.
Роману многое из рассказанной учителем истории было знакомо из разговоров отца с матерью – ведь их отец в молодости работал учителем в Усть-Каменогорске и многое знал из истории края. Теперь он вместе со Степаном не раз возобновлял разговор на эту тему. Всегда занятый, Пётр Иванович не отказывался от общения, но чаще всего отвечал на бегу, между делом, кратко и торопливо. В основном его рассказы дополняли или повторяли то, о чём говорил учитель в школе.
– Опять о каменщиках рассказать? Что можно сказать о беглых людях, прятавшихся в диких горах? Считай, те же разбойники. Жили как первобытные люди. Прятались по чащобам, друг друга боялись, жён воровали. Женщин-то было раз-два и обчёлся. Если у кого была, то беда. Убивали мужика насмерть, чтобы женщину себе забрать. Таких убивцев мясорубами звали. Нелюди, хуже зверей. Было ли, не было на самом деле, давно об одном таком случае бают. Убегла в лес целая артель – семь мужиков, и одна женщина с ними была. Сначала вроде бы дружны были, а потом один из мужиков ревновать начал. Ночью, когда все спали, взял топор и порубил шестерых мужичков – своих подельников и соперников, значит. В общем, жили, прозябали и сами не рады были своему горю-житью. Тем более что ещё приходилось и прятаться, так как посылались военные отряды, чтобы их изловить.
Братья молча осознавали услышанное.
– Пап, ты расскажи про Селезня, что давеча нам говорил, – попросил Роман. – Это поживее будет.
– Да, было дело, – начал Пётр Иванович, – крутой мужик, так бы сейчас сказали про этого Селезня. Не раз он сиживал в остроге то ли за разбой, то ли за побег. Как ни посадят его, а он всё равно убежит. Вот и в очередной раз сбежал, да ещё и мужичков с собой прихватил, заранее подговорив. А куда бежать – два пути: на Уймон, в дебри Катунь-реки, или на Бухтарму. Да-да, ребятки, там, где сейчас санаторий «Голубой залив», двести пятьдесят лет назад была глухомань, куда никто не решился пробраться, только беглецы – каторжане и кержаки. Да ещё рыскали разбойнички, промышлявшие грабежами.
– Вот чудеса! – удивился Стёпа. – Какая глухомань, там всего-то реденький сосняк!
– А вот так, дело не столько в сосняке, сколько в отдалённости и безлюдье. В те времена в наших краях только изредка охотники бродили да бродяги-разбойники шастали. Разбоем промышляли. Словом, сплошное беззаконие. Жили по принципу: кто смел, тот двух съел. По закону силы и тайги.
– Выходит, власть нужна.
– А как же, для порядка. Так вот, мы отвлеклись, – продолжал отец, – шайку этого Селезня грабили, а он в отместку тоже грабил и убивал, пока воинская команда не взяла штурмом их крепость. После того, как разгромили шарагу Селезнёва, русские беглецы стали искать места подальше и ещё поглуше. Так дошли до верховий Бухтармы, прятались по диким ущельям. И вроде бы самому Селезню удалось ускользнуть от солдат. Дальше его судьба неизвестна.
– А чья вся эта земля была?
– А тут трудно разобраться. Сначала считалось, что это Джунгария. После их разгрома китайцами на всю территорию претендовал Китай. Хотя, скорее, ничейная была земля. Бесхозная, как говорится. Вот русские после того поставили на месте заимки Селезнёва что-то вроде укрепления. Так, больше для видимости – хотели проверить реакцию китайцев. Построили, а сами ушли.
– Ну и что китайцы? – теперь уже и Стёпа заинтересовался.
– Сожгли. Не понравилось им. Хотя тоже никакого гарнизона не оставили. А русские, наоборот, через двадцать лет прислали сюда команду и основали Усть-Бухтарминскую крепость и посёлок при ней. Так Россия потихоньку расширяла свои владения, а тут представился удобный случай присоединить и весь Бухтарминский край. Достаточно было принять в своё подданство жителей этого края, то есть каменщиков. По совету властей из Барнаула, в 1792 году Екатерина II «простила» их, после чего большинство каменщиков вышли из гор и поселились в долине по нижнему течению Бухтармы, где удобно было заниматься земледелием. Так возникли деревни, о которых вы хорошо знаете: Богатырёво, Быково, Сенная, Печи и другие.
«Да, не позавидуешь такому житью, – была общая мысльу Романа и Стёпы.– Какая уж тут романтика, хотя бы выжить! Не сдохнуть с голодухи, не попасться разбойникам и карательным отрядам». А ещё сам собой возникал вопрос: как так получается – в школе историю учим разных там древних греков и египтян, а что творилось у себя, ничего не знаем?
– Это ты верно заметил, – согласился отец. – Обычно свою историю копают сами жители. Есть такие неравнодушные, что интересуются своим прошлым.
«Может, и нам этим заняться? – возникла мысль у Романа, и Стёпе она понравилась. – Да, жаль, книг об этом не найдёшь. Мы же почти ничего не знаем о своём крае, где живём. Кто здесь раньше жил, когда сюда пришли русские, где были первые поселения? Найти бы хоть какие-то следы, порыться на чердаках – глядишь, попались бы старинные монеты или, например, кремнёвое ружьё. Нашли же в Козлушке старинную фузею, говорят даже, что из неё стреляли».
– Что интересного ты собираешься найти в крестьянском дворе? – смеётся Степан. – Горшки, ухваты, в лучшем случае утюг чугунный попадётся. Так у нас дома такой есть, и мама до сих пор им пользуется. Ну сбрую, подкову старую найдёшь. А насчет фузеи – тут неясно, говорят, что её приволокли то ли из Белой, то ли из Печей.
– Всё равно где, но ведь нашли! Вот в газете писали, что в Зайсане откопали в каком-то дворе винтовку Пржевальского. Вся ржавая, она выставлена теперь в музее.
– Да, про сенсацию сообщили, но не добавили, что прятали эту винтовку в Гражданскую войну от большевиков. Кстати, – спохватился Степан, – ты же знаешь старое кладбище в Столбоухе?
– Ещё бы не знать – за околицей села, на опушке пихтача.
– А я там специально бродил, смотрел. Заброшенное, заросшее дикой травой. Деревянные кресты давно попáдали, а некоторые и сгнили, но холмикам ничего не сделалось. Так вот, рассказывают, что там похоронен богатый купец, зарубленный красными, а где-то рядом его дочь зарыла клад из семейных ценностей. Целый ящик. А что в нём, никто не знает.
– Ящик? Если деревянный, то он уж давно сгнил.
– Может, и сгнил, а может, он и не деревянный. Люди ведь соображали, когда прятали. Там и документы какие могут оказаться. От советской власти ведь всё тогда прятали. Фотографии генералов, дворян, купцов до сих пор боятся показывать. Но это я к слову. А ты разве не слышал про это дело?
– Слышал, но как-то не придал этому значения, да и не очень-то верил всем этим рассказам.
– А я знаю, что не раз делались попытки найти тот клад, но всё безуспешно. Ни дочери того купца, ни родных их давно ведь нет. Копались тайком по ночам, да где там, в темноте да украдкой. Летняя ночь коротка – пока то да сё, начнут рыть, а уже заря занимается. От народа стыдно, что гробокопательством занимаются. Быстренько зароют всё назад, да ещё и травкой надо прикрыть, чтобы следы спрятать. И стоит та могила, клад свой бережёт. Кому-то денежки нужны, золотишко, а нам бы историю раскрыть. Там бумаги, документы могут быть. Смутное было время, почём зря людей убивали. Брат брата, бывало, не жалел.
– Стёпа, ты так увлекательно рассказываешь, что мне прямо сейчас хочется бежать и раскапывать тот клад!
– Надо с Пахомычем поговорить, порасспрашивать – он многое знает.
– Это тот дед, про которого говорят: «Дед – сто лет»?
– Он самый, ему далеко за восемьдесят, он помнит всю заварушку в наших краях, что была после революции.
– Как же, красный партизан! Кстати, как раз на этом его можно и разговорить.
– Да он уже этим не гордится. Хотя, может, что и расскажет. Занятный старик.
Пахомыч
Не откладывая в долгий ящик, вскоре братья были в избе старого партизана Пахома Ильича Свиридова. В тёмной комнате было не слишком уютно – чувствовалось отсутствие женской руки. Старик давно уже похоронил хозяйку и жил бобылём.
– Значит, интересуетесь, как была установлена советская власть в нашем лесном краю? – Пахомыч сделал остановку, закурив сигарку-самокрутку из самосадочного табака. – Да-а. А я, пожалуй, уже и сам забыл и запутался, как всё это было. Убивали друг друга, махали шашками, головы рубили. В общем, была какая-то кутерьма с расстрелами, голодухой, разрухой, и так несколько лет. А что до советской власти, так это всё было довольно мрачно. Пришли какие-то дяди в кожаных тужурках, перепоясанные ремнями и увешанные маузерами, и объявили, что установлена советская власть.
– Но как же, а ведь до этого были бои. Красные, белые. Нам даже в школе рассказывали про Малея, расстрелянного под берёзой около Шумовска.
Роман делал попытку разговорить оказавшегося довольно суровым и неразговорчивым Пахомыча.
– Красные и белые? Так это же и те, и другие были наши же мужики. Крестьяне. И вовсе не значит, что красные – это беднота, а белые – кулаки и богатые. Бывало и наоборот. Сейчас трудно разобраться, а тогда и вовсе всё было непонятно, кто за что, кто против кого.
– А как же зверства беляков, о которых пишут и нам в школе рассказывают? – для затравки начал Степан. – В Зыряновске вон памятник стоит борцам за советскую власть.
– Я, ребята, вот что вам скажу: вы меня не слушайте, я уже свою жизнь прожил, а у вас всё впереди, и вы должны по-другому мыслить, чем я. А я же сам воевал – и теперь виню себя за это. Братоубийственная та была война, и жестокость проявляли с обеих сторон что белые, что красные. А что дальше было? Сплошной обман. Землю посулили крестьянам, а сами тут же отобрали не только землю, но и выращенный хлеб. Это что, как это назвать, кроме как грабежом?
Пахом Ильич так разошёлся, что ребята были уже и не рады затеянному ими разговору.
– Пахом Ильич, да мы по другому вопросу, – попытался изменить ход разговора Роман. – Земля слухом полнится, болтают, что рядом с вами клад зарыт.
– Это кто же вам сказал?
Роман замялся, не зная, что сказать, но Стёпа тут как тут:
– Как кто, знакомая вам наша школьная техничка Фаина!
– А, Фая… Ну да, она могла кое-что знать. Ну, раз уж это не стало тайной… – Пахом Ильич вдруг заговорил сердито. – А что же вы хотите – стать кладоискателями и чтобы вам всё преподнесли на тарелочке? Клады не так просто искать – вокруг них всегда тайна, разбойники, пираты. Их ищут, потом за них сражаются, проливают кровь. И что же это за клад?
– Говорят, вроде как дочь убитого купца где-то тут зарыла своё богатство.
– И вы верите этим байкам?
– Вот мы и пришли к вам разузнать.
– Хм-м… А вы бабу Анисью знали?
– Эту старуху, что была не в своём уме?
– Её, её.
– Ещё бы не знать! Её вся Столбоуха знала, а некоторые даже боялись. Она же с топором на людей кидалась. А сама побиралась, пока не умерла.
– Да, было такое дело. Её как в молодости напугали, так до самой смерти не прошли обида и страх. Ведь дочь купца, про которую вы говорите, – это и есть баба Анисья.
– Мы этого не знали.
Братья на самом деле очень удивились.
– А я, ребята, знал её, можно сказать, с детства. Мы тогда в Путинцево жили по соседству. Красивая была дивчина. Она на меня долго обиду держала, когда с её отцом так поступили. Я же в красном партизанском отряде был, хотя к смерти её отца никакого отношения не имел. Жила в одиночестве, ни с кем не дружила. Это уж потом отошла, я ей помогал, как мог, когда она оказалась в бедственном положении. Да, перед смертью она мне рассказала, что зарыла семейные ценности. И место показала. Тогда же до самого тридцатого года всё отбирали, вплоть до женской юбки. Называлось раскулачиванием. Вот она что-то и припрятала, да так и не попользовалась.
– Невероятная история! – вырвалось у Романа.
– Тут много неясного, – в свою очередь отметил Степан. – Как получилось, что вы и она оказались здесь вместе в Столбоухе?
– Всё очень просто. Я проработал всю жизнь лесником, а она пожелала поселиться рядом с могилой отца. Работала на почте в Столбоухе. Вы-то уже знали её только в старости.
– Значит, могила её отца здесь, в Столбоухе?
– Здесь, совсем рядом, где мы с вами сейчас находимся. Говорю, открывая чужие секреты, так как сам я уже слишком стар и надо кому-то передать эту тайну. Родных-то у Анисьи не осталось, мне тоже недолго жить на этом свете, а вас я считаю людьми достойными, так как знаю и уважаю вашего отца.
– А почему сами не воспользовались?
– Самому? Это в нашей-то убогой жизни? А почему ты не спросил, как так вышло, что сама Анисья не воспользовалась?
– Да, почему не воспользовалась?
– Вы же не знаете, что там закопано. И я скажу вам, что тоже не видел этот клад. Мне Анисья сказала так: «Там, говорит, Пахом, закопан фарфоровый чайный сервиз. Но сервиз не совсем обыкновенный. Дорогой, кузнецовской фирмы». А фирма эта гремела на весь мир. Говорит, малинового цвета сервиз на двенадцать персон. Вот сами и судите: зачем Анисье или мне эта ювелирная работа в крестьянской избе? А вы откопаете – если сохранилось, можете в музей сдать. Потому вам и доверяюсь. Возможно, и какие-то бумаги есть относительно её отца.
– Нам, Пахом Ильич, интересны бумаги для истории. Предметы старины, что люди привозили с собой, когда сюда бежали. Мы интересуемся, когда и как заселялся наш край.
– А вот тут, ребята, вы опоздали. Анисья когда умерла, через год снегом раздавило её избушку. Она и так дряхлая была. Вот мальчишки и повадились бегать на развалины, рылись в рухляди. Показывали мне старые иконы – чёрные, закопчённые. Анисья всё это держала, хотя и не очень набожная была. Книжные талмуды там были, религиозные, конечно, старинные. Я-то всем этим не интересовался.
– А что за мальчишки? Может, у них всё это сохранилось?
– И-и, и тут вы опоздали! Вы разве не знаете, что рыскал здесь один тип из Зыряновска? Всё спрашивал про иконы и старинные книги. Он всё и забрал, можно сказать, за бесплатно ему всё отдавали. Зачем нашему человеку это старьё? А этот Крепинин, не будь дураком, всё это добро потом сплавил за границу. Говорят, озолотился этот проходимец. Он ведь не только в Столбоухе шарился – все деревни по Бухтарме обскакал. Шустрый был человек и с тёмным прошлым. Болтали, что он в наших, советских лагерях десять лет отсидел за сотрудничество с немцами в годы войны.
– Нет, Пахом Ильич, мы этого ничего не знаем. Мы же всё лето живём у себя на пасеке.
– Ну, так вот теперь будете знать. А клад этот надо раскопать – мне и самому интересно узнать, что там Анисьюшка запрятала. Она-то и сама уже давно позабыла, что там было, когда мне обо всём этом рассказывала. Вы это дело не откладывайте в долгий ящик – нынче надо и разрыть, пока я живой. Весь инвентарь: лопаты, ломок – всё это у меня возьмете, и скажите спасибо: могилка и клад рядом, тут, в двадцати пяти шагах от моей избы. Получается, что я как охранник, на кладбище всю жизнь прожил. Да вот ещё. Хе-хе, знаете, тут ещё один сторож имеется. Удивитесь: сова! Как чуть под вечер, она вылетает из леса, садится на макушку пихтушки, в самый раз у того клада. И сидит так, зыркает по сторонам, поглядывает: не трогает ли кто тот бугорок. И что меня удивило: у всех сов глаза огненно-красные, а у этой – синие! То ли она заколдованная какая?
Роман оживился:
– Неясыть эта сова называется, Пахом Ильич, только у неё глаза чёрные, с синевой, а у всех других сов они жёлтые или оранжевые.
– Ну вот видишь, что значит наука! Теперь буду знать. А вы приходите, раскопаем. Но лучше на рассвете, когда народ спит. Ночью-то несподручно, а пораньше – самый раз. Нам не нужны деревенские пересуды – так-то вернее будет и спокойней. А приходите с вечера. У меня переночуете, чайку попьём, дроздов послушаем – шибко хорошо они поют по вечерам тут рядом, на макушках ёлок. Рассветает в половине четвёртого, мой Петька как пропоёт, так и за работу примемся.
– Придём, Пахом Ильич, обязательно придём. Как ты, Рома, думаешь, когда?
– В воскресенье не получится – надо дома побывать.
– Ну, тогда в пятницу вечерком к вам, Пахом Ильич, и заявимся.
– А как же школа? – вспомнил Роман.
– Выбирай: один прогул, но раскопки.
– Ну, разве ради науки! У меня ещё идея возникла: порыться на месте избы бабы Анисьи.
– Приходите. Всё осмотрим. Там целая кипа бумаг была – авось что-то и сохранилось. А от меня привет передайте Петру Ивановичу!
Душа Анисьи
Майским вечером братья брели по раскисшей деревенской улице.
– Стёпа, а правда, как хорошо! На лужи смотреть больно, солнце так и играет, искрами сверкает! Засиделись мы в классах, а на улице-то как дышится, чуешь?
– Чую, что на сапогах по пуду грязи.
– Ну и бог с ним, это чернозём. А птицы-то поют, и солнце, как повисло в небе, так и не уходит! Слышишь, бекас блеет?
– Этот бекас и у нашей школы играет.
– Зато здесь свобода и тишина. Кроме птичьих, никаких голосов. Да, вот слушай: кряковые полетели. А трясогузки-то смотри, как радуются! Голосочки у них, как колокольчики. От возбуждения даже взвизгивают. Музыка весны! Я вот смотрю на проталины, как кандычки выходят из земли, и нет для меня ничего приятнее. Ходил бы и ходил, смотрел бы и слушал.
– Ещё бы! Кандыки все любят. Может, больше жарков. Сибирский подснежник.
– И леонтьица, и ветреница – это всё наши подснежники. А то ещё медуницы и даже мать-и-мачеха, они тоже весенние первоцветы. Я на простую проталину и то наглядеться не могу. На непросохшей земле прошлогодняя трава, будто прикатанная, и росточки розовые, бордовые, будто натыканные, вылезают, и тут же муравьи зашевелились, забегали.
– Их солнышко пригревает – вот они и ожили. А ещё под берёзой жёлтая травяная ветошь, будто войлок, и тетеревиные каральки кучками лежат. Их от берёзовых серёжек не отличить. Значит, ночевали зимой тут под снегом. Как увижу – так перед глазами косачи на ветках сидят.
– Не береди душу, Степан! Ты говоришь, а мне уже хочется бежать на тетеревиный ток. Гляди-ка, старый Пахомыч нас уже поджидает.
– Скучает дед по людям, по людскому вниманию. Человеку много ли надо? Проявили интерес, вспомнили о нём – он уже и рад.
– Здравствуйте, Пахом Ильич!
– Привет, привет! Засиделись, небось, за партами – так и весну прозевать можно. А я вот старый, а как придёт март, апрель – в избе не могу усидеть. Про май уж и не говорю – в избу и заходить не хочется. Чувствую в груди какое-то томление и тоску, грусть и радость одновременно. Ну, насчёт тоски дело понятное – старость не даёт расправить крылья и полететь. А радость – это значит, что душа ещё жива. Чай нас подождёт – пойдём поглядим на могилки, пока солнце не село. Вишь, как Мохнатка нависла, – вот-вот солнышко за неё спрячется. У меня солнечный день короче на целый час из-за этой горы, но я на неё не обижаюсь – каженный год кислицу там беру, смородину, малину. Про косачей и глухарей промолчу – в последние годы стало мне жалко их убивать. Да и просто так из окна на Мохнатку гляжу – и вроде как душа успокаивается. Ну вот и пришли. Тут всё сразу вместе: могилки Анисьи, её отца и тот самый бугорок с кладом.
Совсем небольшой деревенский погост приютился близ речушки Столбоушки, негромкий шелест которой уже отчётливо слышался. Ему вторили голоса зябликов, овсянок, щеглов со стороны подступающего пихтача. Всхолмленная земля с кое-где торчащими кустами рябины, калины, боярки тут уже вся освободилась от снега, но северный склон горы, заросший пихтачом вперемежку с берёзой, был весь в снегу.
– Гляди-кось, птичками-то камешек обсижен. Они, будто ангелочки, могилку навещают. – Пахомыч показал на бугорок с торчащим на макушке большим булыжником.
– А что, правду говорят, будто пытались раскапывать клад?
– Это вы про Кольку Дерюгина прознали? Да где ему, забулдыге, добраться! Он же пытался ковырять могилку Карпея Афанасьича – отца Анисьи, значит. Так я его прогнал, из ружья стрелял для острастки. А что до клада, так Бог его уберёг. Пока никто не прознал, никто его не трогал.
– А вы этого купца знали, отца Анисьи?
– Карпея Афанасьича? Как не знать! Я же его знал ещё будучи мальчонкой и потом в молодости, когда его порешили. Степенный был мужичина, с большой окладистой бородой. Настоящий русский купец. Фамилия – Шашурин. Честно торговал, не обманывал, а что кокнули – так это, считаю, была почти уголовщина. И вершили эти дела лодыри и завистливые люди. И я, стыдно признаться, с ними вместе был. Потом уж задумался, когда хлеб отбирать стали, а после коллективизации и восстания Толстоухова совсем прозрел.
– Это кто такой Толстоухов?
– Официально – враг народа, а на деле всё наоборот. Известный командир, борец за советскую власть, его орденом Красного Знамени наградили, а он как увидел, что творят с народом, развернулся в обратную сторону. Во как!
– Как это? – не понял Роман.
– А так, что поднял народ против власти, и это уже в тридцатом году.

