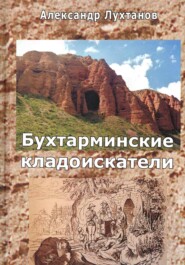 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
Подъехав на лесовозах до Масляхи, утром одного из июльских дней ватага подхозовских искателей приключений вместе со Станиславом пробиралась к входу в Подземный город.
– Ого, похоже, здесь будет второй Зыряновск, – осмотрев рудные выходы в штольне, сказал Станислав и на глаз прикинул размер рудной залежи. – Поздравляю с большим открытием! Хоть я и не геолог, но судя по всему, запасы руды здесь не меньше, чем на Зыряновском месторождении. Вас теперь надо называть не бухтарминскими кладоискателями, а зыряновскими рудознатцами. Так что рядом с вами построят город с населением в сто тысяч человек, не меньше. Вы же знаете, что собираются разрабатывать железорудное месторождение на Чемчедае. Удобно и компактно: один город и два крупных месторождения. Места для города хватит – он как раз займёт всю Столбоушинскую долину. Проложат железную дорогу, будут капитальные мосты через Бухтарму и Хамир, придёт цивилизация. Радуйтесь!
– Нам бы лучше без неё, – робко возразил Агафон, – без цивилизации. Какая уж тут радость, если загубят тайгу! А мосты, конечно бы, хорошо.
Дойдя до провала, Станислав опять удивился:
– Вот оно что! Геологам это будет интересно. Тут я вижу контакт магматических пород и осадочных. В известняках месторождения не ищите, здесь его не будет. Все металлы рождает магма. Граниты, кварц – спутники рудных минералов. Расплавленная магма прорывается из земных недр, по разломам и трещинам поднимаются раскалённые растворы и газы, несущие металлы. Так образуются скопления рудных минералов. И возникает вопрос: не к контакту ли разных пород приурочено это месторождение? И железорудный Чемчедай не случайно тут рядом. Знаете, что я ещё вспомнил? Одно интересное сообщение, сделанное искателями цветных камней ещё в восемнадцатом веке: что в верховьях Хамира они находили топазы.
– Это же драгоценный камень! – загорелся Агафон.
– Да, конечно. Это одна из забытых загадок нашего края.
– Сплошные сокровища и загадки! – заметил Роман. – Странно получается, что двести лет тому назад геологи работали лучше, чем сейчас.
– Нет-нет, не думаю, – отвечал Станислав. – Это легко объяснить. Как известно, Екатерина Великая была большой любительницей цветных камней. При ней были построены три гранильные фабрики по изготовлению изделий из цветного камня, в том числе на Алтае, недалеко от нас – Колыванская шлифовальная фабрика. Её работники рыскали по окрестным горам в поисках подходящего каменного материала. Копались и здесь, а в Риддере, например, нашли очень интересную яшму. Многие изделия этой фабрики хранятся в Эрмитаже и являются гордостью этого музея, так как ничего подобного нигде в мире больше нет.
– Станислав, а что это за маркшейдерская история, что вы вычитали из книжки? – спросил Егор. – Расскажите, чтобы нам была понятнее ваша профессия.
– Да, эту историю я прочитал в рассказе Бориса Житкова, был когда-то такой хороший детский писатель. Есть у него рассказ про неких кавказцев, задумавших ограбить банк. Они придумали хитрый план с подкопом под кладовую с деньгами. Для этого они арендовали домик неподалёку от банка и занялись якобы выпечкой хлеба.
– Организовали пекарню, – подсказал Агафон.
– Совершенно верно. Рассказ так и называется: «Пекарня», хотя правильнее было бы его назвать «Подкоп» или «Грабёж банка». Вроде бы пекут лепёшки, а сами копают подземный ход под здание банка. Землю тайком вывозят по ночам. Но, как вы понимаете, не так-то просто попасть точно под комнату, где лежат деньги.
– А ведь верно, я как-то об этом не подумал, – признался Егор, – как это – проложить подкоп в нужное место? Под землёй же ничего не видно.
– Вот-вот, это только крот знает, как подвести свой подземный ход точно под головку чеснока в земле, чтобы его съесть, – сказал Станислав. – А находит он нужный путь, видимо, по запаху чеснока, который любит. Я так думаю, а может, и как-то по-другому.
– Да, а как же маркшейдер?
– А маркшейдер работает с помощью специальных инструментов, предварительно вычислив координаты. Координаты – это точное положение на местности. А зная координаты, можно и под землёй вести ход.
– Ну да, это уже не вслепую. Да, а как же эти кавказцы?
– А те кавказцы, как вы, наверное, поняли, были бандитами. Сейчас бы сказали «мафия» или «ОПГ» (организованная преступная группа). И очень им нужны были деньги, а правильно вести подкоп они не умели. Тогда они нашли знающего человека, заперли его и говорят: подведёшь под банк – озолотим, не подведёшь – секир башка. И вот знающий человек, имея план или карту, где был нарисован банк, стал направлять под него подземный ход с помощью компаса и рулетки. Там он чуть не ошибся, но вовремя догадался, в чём дело: трамвайный путь отклонял стрелку компаса.
– А у нас стрелку отклоняет железорудное месторождение, что на Холзуне, – вмешался Роман, – стрелка у компаса вертится и не всегда верно показывает направление на север, а потому без теодолита не обойтись.
– Да, а как же те разбойники – докопались они до банка?
– Докопались. Попали под самую кладовую, взломали потолок и вытащили все мешки с деньгами. А суть рассказа состояла в том, что это были не разбойники, а революционеры, по заданию партии добывающие деньги для революционной работы.
– Выходит, они правильно всё делали и совсем молодцы?
– Революция состоялась – вот и судите сами, правильно или нет. Между прочим, у меня возникла догадка: не о Джугашвили ли в рассказе идёт речь? Как известно, у революционеров был лозунг: «Грабь награбленное!». Нужны были деньги для совершения революции.
– Джугашвили – это Сталин? – робко спросил Агафон.
– Совершенно верно. Сосо Джугашвили – это Сталин, которого вы знаете как отца народов.
– А мне вот что непонятно, – не унимался Агафон, – вот вы, Станислав, называете профессии: геодезист, топограф, маркшейдер, а чем они отличаются между собой? Я так понимаю, что они все рисуют карты, а в чём их разница?
– Хороший вопрос, хорошо мыслишь, – похвалил Станислав. – Постараюсь объяснить очень кратко. Как ты знаешь, земля – это шар, точнее, эллипсоид. А карта изображает землю на плоском листе бумаги. Для небольшого участка это нормально, а если взять большую территорию, то это уже проблема – развернуть сферу в плоскость. Вот тебе и разница: в первом случае план или карту составляет топограф, принимая местность за плоскость, а во втором случае требуются сложные вычисления и ими занимаются геодезисты. Короче, топография – это простейшая геодезия. А что касается маркшейдера, то это топограф-геодезист в приложении к горному делу, то есть он составляет карты подземных выработок, чем мы сейчас и собираемся заниматься. Но мы, кажется, заговорились, а время не ждёт, работы много.
– Да-да, – поддержал Роман, – командуй, что делать. Три дня в нашем распоряжении, надо уложиться за это время. Как, сможем?
– Штольню заснимем без проблем, направления ответвлений пещеры засечём, а вот с вашей «кладовой чудес» придётся повозиться. Узкий ход, теснота – работать неудобно.
– В подкопе-то, наверное, ещё теснее было, – полушутливо заметил Роман.
– Вот-вот, поработаем, как те контрабандисты! Где ползком, а где и на карачках. С теодолитом это стократно сложнее; даже установить на штативе проблема, не говоря уже об освещении и измерении длин.
Так всё и вышло. Когда закончили съёмку основной галереи, Егор с Агафоном готовы были этим и ограничиться, но Роман настоял: нет, камеру мумий нельзя оставить без координат. Что-то говорило ему о важности этой части подземелья. В узком и полном воды сифоне провозились целый день, но работу сообща сделали, поставив точку на макушке насыпного кургана в кладовой чудес.
Пленники подземелья
Из подземной экспедиции со съёмкой пещерных галерей и кладовой чудес Роман вернулся не очень словоохотливый – не хотел расстраивать Степана.
А Стёпе, конечно, не терпелось узнать новости. Когда сам не бывал, всё кажется во сто крат привлекательнее и интереснее, чем на самом деле.
– Ну и что там, Рома, клад подземный? Небось, динозавра откопали?
– Держи карман шире – кучу хлама! И ту не трогали, хотя проглядывает там кое-что занимательное. Кости, рога, черепа.
– Рога? Чьи?
– Оленя, есть козлиные, есть мумии.
– А скелеты?
– Всем мерещатся скелеты! Есть разрозненные кости, в том числе и человеческие. Мумии, понимаешь, в основном мумии мелких зверьков.
Слушая Романа, Стёпа несколько раз восклицал:
– Эх, не было меня там! Как это у вас хватило терпения не порыться в отложениях веков?! Я бы не удержался, но обязательно доберусь.
– Смотри, не обдери колени и локти! – в ответ на это бросил Роман.– Без провожатого один не суйся. Лаз этот потайной – не зная, не найдёшь.
– Я с Егором договорился – он же охотник, следопыт.
– Лучше бы с Фемистоклом…
– Мы как-нибудь сами. На каждого Фемистокла не напасёшься. Он один, а нас четверо, тем более он не мальчишка, чтобы везде с нами лазить.
– Ну, смотри сам.
Егор же на правах старожила поучал Степана:
– Главное, надо взять тёплые вещи – я, например, прихвачу отцовский ватник. Да не забудь клеёнку, чтобы одежду завернуть, уберечь от сырости. Лезть будем по сплошной воде, не хуже лягуш. Лаз там узкий и тесный, что твоя волчья нора.
– Это меня не пугает. Раз вы прошли – я что, хуже?
Когда же промокшие, запыхавшиеся от тяжёлого лазания, оба, стуча зубами, выбрались в заветный зал, Стёпа заговорил по-другому:
– Вот ты, Егор, и уморил! Надо же так карабкаться, ползти на карачках! Завёл не лучше, чем Сусанин поляков. Какая там волчья нора! Эта дыра хуже барсучьей!
– Ты же сам напросился! Вот и делай человеку добро.
– Ну хорошо, хорошо. Быстро переодеваемся, и в путь!
Два десятка шагов, и перед путниками предстала картина таинственной камеры – хранительницы музейных экспонатов. Степан не спеша обошёл наваленную груду из камней, земли и останков животных, перемешанных с полусгнившими сучьями и ветвями деревьев. Она не произвела особого на него впечатления, хотя он долго и внимательно разглядывал высохшие мумии и бренные останки козлов и баранов, среди которых выделялись оленьи рога.
– Явно северный олень, – высказал предположение Стёпа, – а ведь сейчас его здесь нет. Впрочем, что это я, теперь здесь многие не живут из той эпохи. Скорее наоборот: северный олень как раз сохранился, в отличие от мамонтов, шерстистых носорогов и пещерных медведей. Самое слабое звено в цепочке животных того времени, а выжил – так же, как и человек.
– Егор, может, ковырнём? Я вижу, тут проглядывают человеческие останки. Впрочем, нет. Здесь можно подцепить какую-нибудь опасную инфекцию. Сплошная мертвечина. Ты слышишь, как подванивает? Говорят, бациллы чумы живут тысячи лет.
– Не дай бог, Стёпа! Лучше не говори мне такие вещи!
– Могильный холм, – наконец изрёк Степан, отряхивая руки, хотя и не притрагивался ни к чему из содержимого холма.
Егор всё время терпеливо ждал, и видно было, что это ему надоело.
– Стёпа, тебе не кажется, что ручей стал громче шуметь? Как бы воды не прибавилось. Закупорит нас вода – что тогда? Надо бы уходить.
– С чего ты взял, на улице жара и сушь! Хамир обмелел. Давай-ка лучше пообедаем. И желательно подальше от этого могильника.
Разложив свои бутерброды, они расположились в стороне от могильного холма, как назвал курган Стёпа. Не спеша перекусили, запивая холодным чаем из бутылок.
– Заметь, Егорша, здесь не так уж чтобы холодно. Даже комфортно. Там, «на-гора», жара так надоела!
– Угу, но всё-таки отсюда лучше бы побыстрее уйти.
– Сначала осмотрим стены – вдруг тут картинная галерея обнаружится!
– Стёпа, мы уже здесь пять часов, пора домой. Вода закроет выход – вот будем кукарекать!
– Ну вот ещё! Лезли, карабкались, не осмотрелись – и уже уходить. Здесь должны быть настенные рисунки. Пока всё не осмотрю, не тронусь. Это же ритуальный зал. Куда ты торопишься, вряд ли мы ещё когда-нибудь сюда ещё попадём!
С горящими свечами оба двинулись осматривать стены, и на это ушло не меньше двух часов. Стёпа делал это неторопливо, внимательно высвечивая каждый тёмный натёк от воды, каждую трещинку, которых было немало. Егор же делал это механически, лишь не желая заслужить упрёк товарища. И всё время с тревогой прислушивался к шуму ручья.
– Стёпа, пойду взгляну, что там с водой. Не замуровала бы нас она.
– Вот заладил: закупорит, замурует! У тебя явная клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства. Что ты торопишься! У нас в запасе ещё три часа, а в случае чего Рома и подождать может.
Стёпа не торопясь продолжал осматривать стены камеры, занимающей довольно большую площадь, пытался осматривать и потолок, где это было возможно.
– Да, похоже, здесь не Альтамира и не Третьяковка, – наконец с сожалением сказал он. – Никаких следов древних художников не просматривается. Всё, Егор, твоя взяла, уходим.
Они упаковали одежду, взвалив себе на плечи, и тронулись в обратный путь. Да, вода прибыла; где было по щиколотку, теперь шуровала выше колен, так что требовались усилия, чтобы устоять.
– Стёпа, беда! В озере, в этом чёртовом сифоне будет с головой!
– Не паникуй раньше времени, выплывем.
Однако надежды Степана не оправдались. Вода заполнила всё пространство до кровли галереи, не оставив воздушного пространства под кровлей.
– Вот так штука, Егор, это ты накаркал! Поднимется, закупорит, а она и действительно нас заперла на замок. Да, неважно наше дело. Разве что поднырнуть? Так ведь не проплыть, тут больше пятидесяти метров. В темноте-то, шаря руками стенки!
– Что же нам делать? Говорил же я тебе! – в отчаянии произнёс Егор.
– Что делать, что делать! Вот заныл, а ещё таёжный охотник! Ждать надо. Ты свечки береги на всякий случай.
– А жрать что? Я уже сейчас голодный.
– Будто я сытый.
Переспав ночь, утром, а потом весь день пленники подземелья ходили проверять ручей, превратившийся в поток. Но он был по-прежнему силён – нечего было и думать его преодолеть.
– Стёпа, мы уже сидим сутки, и никакого просвета! Вода не убывает – что делать?
– Сам знаешь: ждать, только ждать. Вода обязательно спадёт. Надо набраться терпения.
– Терпения, терпения… Терпением сыт не будешь! «Сидеть у моря, ждать погоды». Подохнем здесь и будем экспонатами, как эти мумии, что лежат в куче.
– Ты что, Егор? Не ожидал я от тебя истерик, ты давай кончай паниковать. Ну виноват я, ну что теперь – убивать меня? И что теперь об этом долдонить – слезами делу не поможешь. Нас наверняка будут спасать. Роман что-нибудь придумает, Фома подскажет.
– Придумает, подскажет… Что они – водолазы, чтобы сквозь воду пройти? И даже если проберутся к нам, мы-то как через сифон пройдём? Пропасть, может, и не пропадём, но сейчас больно жрать хочется, – не переставая печалился Егор.
Мучительно долго тянулось время в полной темноте. Холод их особенно не донимал, но голод давал о себе знать, не затухая ни на минуту. Они спали, просыпались от мучившего их голода и снова засыпали, лишь время от времени вставая, чтобы проверить мощность водяного потока. Жажды не было, вода была рядом, а о еде Степан запретил говорить, чтобы не вызывать спазмы в животе. Они потеряли представление о времени суток – всё это пещерное заточение было для них нескончаемой ночью. Егор плакался Степану, что уже не понимает, спит он или бодрствует. Это было странное оцепенение, похожее на галлюцинацию.
А что Роман с Агафоном? Прождав до контрольного срока, они ринулись в галерею и с ужасом убедились, что вода подпирает потолок.
Вода! Откуда она взялась? И тут Роман вспомнил про горные потоки, набирающие силу к концу дня. Утром это ручеёк, который человек играючи может перейти вброд, а вечером – бушующий водопад, под натиском которого не устоит и лошадь. Установилась жара, и снежники на белках Холзуна начали усиленно таять. «Значит, не всё так страшно, – подумал Роман, – придёт утро, и вода спадёт». Однако утро пришло, вода чуть убавилась, но по-прежнему подпирала потолок в «сифоне». Это было уже опасно и таило угрозу. Роман с Агафоном прождали ещё сутки, но ничто не изменилось. Жара зашкаливала за 30 градусов, и подземный ручей продолжал бесчинствовать. Надо было предпринимать меры, организовывать спасательную экспедицию. Особые меры, но какие? Водолазов нет даже в Зыряновске, но есть горноспасатели. Может, они найдут выход? Люди! Без помощи людей не обойтись. В любом случае надо ставить в известность сельсовет. Вызывать Фемистокла, Фемистокл – голова. Не может быть, чтобы он что-нибудь не придумал!
Вход в преисподнюю
Ни Марфа, ни Пётр Иванович не подозревали о настоящем масштабе найденной их сыновьями чудской копи. Пётр Иванович добродушно подшучивал:
– Ну, как ваша закопушка поживает? Чудака не обнаружили? Я где-то читал, что в старинной шахте когда-то давно нашли древнего рудокопа, цепью прикованного к забою, и с мешочком золота при нём.
Совсем по-другому была настроена Марфа. Женское сердце и чутьё подсказывали ей, что всё не так просто и во всей этой затее может таиться опасность. Но разве удержать матери почти взрослых сыновей, у которых уже пробиваются усы?
И вот как гром среди ясного неба: Стёпа заблокирован в какой-то пещере, и это очень опасно!
– Вот горюшко-то откуда пришло! – запричитала Марфа. – И ведь чуяло моё сердце, что беда в этой растреклятой шахте! И ты, старый, всё потакал: романтика, закопушка, свинорой… Вот тебе и свинорой!
Пётр Иванович молча тут же собрался, и через какие-то полчаса телега Дементьевых, запряжённая Карькой, вместе с Романом выезжала со двора. В тот же день в Столбоуху прибыла команда горноспасателей Зыряновского свинцового комбината в составе четырёх бойцов со всем снаряжением. К вечеру все были на месте и, спустившись в пещеру, убедились, что вода по-прежнему запирает выход. Вместе со всеми был здесь и Фома, предупреждённый запиской, чему больше всех был рад Роман.
– Есть ли ещё другие входы или пути в эту камеру? – спросил Афанасий, командир взвода горноспасателей.
– Нет, отсюда только один выход – тот же, что и вход, – ответил Фемистокл с несколько виноватым видом, – поэтому и упавшие сюда крупные животные, как олени или бизон, выбраться отсюда не могли, даже если бы они оставались живыми после падения.
– Вы сказали «после падения»… – в задумчивости произнёс Афанасий. – Значит, на поверхности был вход. Воронка, дыра, провал, служивший западней?
– Да, как западня, я думаю, естественного происхождения.
– А может, и не естественного, а специально проложенного, чтобы охотиться?
– Навряд ли – туши провалившихся зверей оставались на месте. По крайней мере, часть из них. Троглодиты утащили бы их и съели. Пища у всегда голодных людей была дороже золота.
– Золото голодному человеку не нужно, – подтвердил Пётр Иванович, до сих пор молча прислушивавшийся к разговору.
– Загадочная история, – подтвердил Афанасий, – но она может стать выходом из нашей аварийной ситуации. Надо найти этот вертикальный вход.
– Я об этом сразу подумал, – сказал Фемистокл, – но его никто не видел и не знает, где он, этот вход или западня.
– Эврика! – вдруг воскликнул Роман, до сих пор молчавший в глубоком раздумье. – Я знаю, кто и как его найдёт! Да, да, да! – воскликнул он в возбуждении. – И как это сразу не пришло мне в голову!
– Кто? – враз встрепенулись Пётр Иванович и Афанасий.
– Станислав! Он же делал съёмку подземного лабиринта – значит, может показать, где эта воронка на поверхности. У нас есть план, карта, надо срочно его вызывать, и чтобы он прихватил свои инструменты.
– Да, это выход, – согласились все. – Нельзя терять ни минуты и надо быстрее действовать.
Тут же по рации запросили Столбоуху, а оттуда по телефону подняли на ноги начальство комбината и РОРа.
К утру Станислав был на месте вместе со своим помощником-реечником.
– Что тут у вас произошло? Меня подняли ночью с постели. До рассвета гнали по темноте – как только «козлик» выдержал такую тряску?
Роман коротко рассказал обстановку. Все остальные с надеждой взирали на Станислава, удивлению которого не было границ.
– План подземелья здесь? – первое, что спросил он.
– Да, вот он, – отвечал Роман, разворачивая бумагу.
– Это уже хорошо, – сказал Станислав, – тогда можно попробовать. Правда, в лесу, да ещё с такой травяной растительностью, проложить теодолитный ход будет непросто, – добавил он. – Мне нужны помощники, а может быть, даже лесорубы.
Какое-то время он колдовал над картой, делясь мыслями с Романом, служившим ему помощником и советчиком.
– Опорных геодезических пунктов здесь нет, съёмку я сделал в условной системе координат. Но это не беда – проблема в здешних бурьянах и тайге. Очень плохо с видимостью – придётся искать прогалины в лесу, а это удлинит ход. – И, как бы делясь с самим с собой, добавил: – У меня нет другого выхода, как всё делать графически, а это может сказаться на качестве работы.
– В чём заключается это качество? – спросил Пётр Иванович.
– В точности. В правильности определения местонахождения искомого, – несколько витиевато отвечал Станислав, – ну и, конечно, в скорости работы. В данном случае графически можно всё сделать гораздо быстрее.
Все с энтузиазмом принялись проминать траву, а Станислав, глядя в трубу теодолита, направлял свой ход в сторону Холзуна. К этому делу подключился даже Пётр Иванович, нисколько не отставая от молодых. Фемистокл же успевал ещё и следить за действиями Станислава, то и дело склонявшегося над планом. Уже после второй станции он воскликнул:
– Станислав, я понял ваши действия. Вы измеряете углы и расстояния теодолитом, а потом переносите эти данные на бумагу с помощью транспортира и линейки, а главное, ведёте ход в направлении могильного кургана.
– Да, я работаю упрощённым методом, – подтвердил Станислав, – то есть без вычислений, а если ими заниматься, то прокладка хода займёт не один день.
– Но вы молодцы, что засекли могильный холм в злополучной камере.
– Да, это заслуга Романа – он настоял, – хотя, признаться, мне здорово пришлось помучиться с инструментом в узком лазу.
– В нём и сейчас вся проблема, – согласился Фома.
После долгого и непростого сражения с буйной травяной растительностью, когда уже забили не меньше двадцати колышков, на двадцать первой стоянке Станислав сказал уже далеко за полдень:
– Здесь совсем близко. Пятьдесят два метра от места, где мы стоим.
Направляемый им реечник стоял на скальной гривке, сложенной плитчатыми гранитными глыбами.
– Что-то непохоже, что здесь может быть воронка, – недоверчиво проворчал Афанасий и спросил: – А какова точность ваших измерений?
– Я думаю, ошибка может быть в пределах четырёх метров, от силы пяти, – отвечал Станислав. – Но не в этом дело.
– А в чём же?
– Этот провал, дыра, шахта или восстающий – как хотите, так его и называйте – может быть не вертикальным, а наклонным, то есть идти под углом. А это значит, что на поверхности воронка может оказаться чуть в стороне.
– Да, верно, – чуть не хлопнул себя по лбу Афанасий, – как я сразу об этом не догадался!
– Да, тогда вход в эту преисподнюю может отклониться и на восемь и даже на десять метров, – закончил Станислав. – Многое зависит от глубины провала. Чем она больше, тем больше может оказаться отклонение. Я думаю, глубина будет не меньше тридцати метров. Так что всё это осложнит поиск воронки.
– Будем надеяться, что она сама себя покажет, – сказал стоящий рядом Петр Иванович, всё это время внимательно слушавший разговор.
Поколдовав ещё немного над бумагой с планом и поглядев в теодолит, Станислав крикнул речнику:
– Забивай колышек, – и добавил всем стоявшим рядом с ним: – Я сделал всё, что мог. Теперь ищите сами. Я думаю, нужны будут ломы и лопаты.
Все молча оглядывали каменистый взгорбок, окружённый редким и приземистым кедрачом, среди которого виднелись невысокие деревца рябины. В общем, это была едва выступающая на склоне Холзуна гряда, ничем не выделяющаяся среди других. Плитчатые, выветрелые скалы из серого гранита, подушками и матрацами лежащие на почве и одна на другой. Заросшие кустарником, частично обомшелые и шероховатые, их бока были украшены узорами розового и жёлтого лишайника. Серые плиты, по которым удобно ходить, лазить и можно присесть. Приходилось лишь остерегаться засохших лишайников, скользких под ногой и служащих смазкой под башмаком. Некоторые обломки едва проглядывали сквозь заросли густого ерника из колючего шиповника, жимолости и таволги, явно угнетённых суровым климатом высокогорья, а скорее всего, бедной почвой, тонким слоем покрывавшей скальную породу. Оттого и трава всюду здесь была низкорослой, что было на руку спасателям и облегчало поиски.
– Странно, – с недоверием ворчали рабочие. – Никаких ни следов, ни признаков ни провала, ни воронки – ничего не видать.

