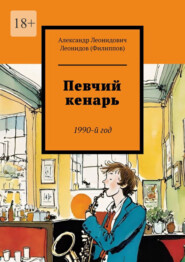скачать книгу бесплатно
Певчий кенарь. 1990-й год
Александр Леонидович Леонидов (Филиппов)
«Певчий кенарь» – первое из моих объёмных произведений, написанное уфимским школьником в 1990-м году, от руки, в «общей» тетрадке с клеенчатой коричневой обложкой. Меня волновала, как я тогда говорил, «проблема маленького человека в большом мире». Об этом и писал, прямо за партой на уроках, к чему даже учителя относились с пониманием, не говоря уж об одноклассниках! Тетрадка моя, гуляя по рукам, в итоге потерялась. Я восстановил произведение по отрывистым черновикам…
Певчий кенарь
1990-й год
Александр Леонидович Леонидов (Филиппов)
© Александр Леонидович Леонидов (Филиппов), 2024
ISBN 978-5-0062-8854-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора: «Певчий кенарь» – первое из моих объёмных произведений, написанное уфимским школьником в 1990-м году, от руки, в «общей» тетрадке с клеенчатой коричневой обложкой. Меня волновала, как я тогда говорил, «проблема маленького человека в большом мире». Об этом и писал, прямо за партой на уроках, к чему даже учителя относились с пониманием, не говоря уж об одноклассниках! Тетрадка моя, гуляя по рукам, в итоге потерялась. Я восстановил произведение по отрывистым черновикам и по памяти, разумеется, не дословно…
I.
Сергей Кенарев слыл человеком никчёмным, тем не выделялся из серого ряда своих предков и родственников. Про таких говорят: никогда и ни в чём не впереди. На выпускном вечере директор школы, нумерованной, как бывает только в самых крупных городах, трёхзначно, вручала аттестаты, и говорила каждому какое-нибудь ласковое напутствие:
– Тебе, Паша, желаю стать настоящим шахматным гроссмейстером!
– Тебе, Миша, продолжить журналистскую практику в самых престижных столичных газетах!
Распоясавшись в ещё модном пока коммунистическом оптимизме, даже прослезившись, директриса пожелала Диме Торфянову отыскать-таки способ провести две параллельные прямые через одну точку и опровергнуть невозможность «вечного двигателя», чем этот обормот донимал её в старших классах со свойственной юности бестактной навязчивостью.
– Гнуть, гнуть, и опровер- ГНУТЬ!
Лёше Искореневу пожелали от лица дирекции «идти дальше в поэзии и стать нобелевским лауреатом по литературе». Словом, каждому, сложившемуся в пароксизмах «перестройки» кривляке, через край, а порой и через силу, «заявлявших себя личностью», нашлось персональное «прекрасное далёко». И только Сергею Кенареву, глупо улыбавшемуся при фотографировании, товарищ директор сказала суховато:
– Желаю, Серёжа, дальнейших успехов…
– Ничего больше этому придурку не пожелаешь! – засмеялся классный во всех смыслах слова остряк Женя Погудин, и эта хохотом разнёсшаяся характеристика стала, в какой-то мере, приговором первой, самой важной, школьной части человеческой жизни и самоопределения.
Если «дальнейшие успехи» будут у Серёжи такие же, как предыдущие, то драму жизни можно уже и закрывать, без опаски пропустить что-то интересное…
Торжественная часть пролетела махом: вчерашние детишки разбрелись «по интересам». Вооружившись заветными и долгожданными аттестатами зрелости, девчонки их класса сбились в парфюмерно-ароматную легкокрылую стайку, убежали укромно «отпраздновать» в обширный и глуховатый, мерцающий лампами «дневного света» полуподвал, который в роли странного «фойе» предварял обильные книжные залежи школьной библиотеки.
Во всей умилительности своей свежести и невинности, девочки-припевочки притащили с собой в этой укромный уголок всего лишь пузатую трёхлитровую банку домашнего компота, ничуть не нарушая «сухого закона», на который в праздничный день даже и администрация учебного заведения готова была посмотреть сквозь пальцы. Но не нашлось и тени испорченности в волнительных тенях-контурах этих вчерашних, да ещё и сегодняшних даже, школьниц…
Невинный план распить компот в тихом месте, всего лишь имитировал хулиганство: ведь компоты пить никто и в актовом зале не запрещал. Но он наткнулся у неопытных в конспирации девчонок на нелепую проблему. Банка есть, и даже стаканы прихватили, но вот чем преодолеть чуть проржавевшую по краям укупорку, умятую на совесть чьим-то из их заботливых родителей?
– А давайте этого придурка позовём! – предложила классическая, фортепьяня?щая красотка-пианистка Галя Книярова, указывая на мелькнувшего в зоне видимости Кенарева. – Он, какой-никакой, но мужчина. Разберётся!
Ничем не обделила её природа, была она рослая, модельная, длинноногая и с умопомрачительно-плавными, покатыми линиями бёдер, жгучая брюнетка. За утончённо-кукольные черты лица и подиумный рост, на который так падки миллионеры всего мира – малолетние негодяи-одноклассники прозвали Книярову «Торшером». Наверное, таким образом защищалось в них мало осознающее себя, но видное со стороны невооружённым глазом ничтожество, закомплексованно-напуганное перспективой целоваться на цыпочках…
– И то дело! – поддержала сказочная для любителей пышных форм Аля Арзубова – Эй ты, приду… Ой! Серёга, Кенарь, иди к нам сюда!
И об Але не одна слезинка упадёт в рюмку мемуарной горечи оболтусов, поминающих былое! Девушка-песня, девушка-мечта, необыкновенно рано, в смысле женственности, развившаяся, но с тонкой талией… Её фамилию всё время путали, звали Арбузовой, даже учителя, вгоняя в краску, потому что человеческий глаз именно так, обманчиво-очевидно, и считывает фамилию «Арзубова». Она стеснялась и краснела, ей в девичьей стыдливости казалось, что это насмешка над завидной формой её грудей, дара природы, который она уже и не знала, куда и как прятать…
– Серый, иди сюда, выручай! – и улыбка жемчужная, щедрая, чтобы на всю жизнь запомнил, какой красавице однажды пригодиться повезло.
Эйфорическая дымка восторга витала в казённом, конторском полуподвале – но только для ценителей, к числу которых валенок-Кенарев отнюдь не относим… Помните ли вы, дорогой читатель, тот неповторимый, тонкий аромат созревающей нежности, преобразующей девочек в девушек, когда в воздух напоён розами и, за компанию, ещё чем-то вкусным, кондитерским? Так вот, чтобы его вспомнить – нужно сперва его забыть. А когда ты весь в нём, по юности лет, то оказываешься «придышавшимся», бездарно-глухим к витающим цветочными флюидами ноткам золотистого озорного счастья…
– Чего вам? – недоверчиво хмурился Кенарев, спускаясь в лакомое благоуханное дамское общество, от коего, кроме ноля внимания и фунта презрения никогда ничего в жизни своей непутёвой не видал. Всегда был он уныло-чужим на этом восхитительном празднике жизни, сотканном из ярких обтягивающих лосин и шторма чувственности «волнистых волос», джинсов-«мальвин» с бело-кружевными оторочками, кричащей косметики и навеянных аэробикой атласных повязок на головах поверх энергично-взбитых причёсок…
– Серёга, помоги! – взмолилась, делая просительные глазки домиком хрупко-фарфоровая, тонкокостная, призрачная, почти прозрачная блондинка Ариша Тарная. Она, прирождённо ловко играя своей слабостью, органично и трогательно умела заискивать голосом. Привлечь к себе жестом «выручания». В ней говорила умиляющая настоящих мужчин девичья беззащитность, но… Увы, окружена Ариша была вовсе не настоящими мужчинами, а придурковатыми гормональными мальчиками, считавшими её, впрочем, беззлобно, но и невнимательно – «полудохлой».
– Мы с девчонками обмыть хотим… «Аттику»! – так высоколобо, по моде времени на «интеллигентность» звали в их годы аттестаты – А чем тут банку откроешь?!
– Обмывают-то не компотами же! – рассердился Кенарев девичьей глупости, словно столкнулся со святотатством.
– Ну, мы же тебя не приглашаем с нами пить! – полоснула обидой Галя Книярова – Ты нам только открой, а мы сами разберёмся…
– Нашли проблему! – презрительно скривился Серёга.
– Так уж разберись, по-мужски! – попросила, округлив глаза кудрявая темноволосая и темноглазая, магическии-загадочная Катя Керобеева. И соблазнительно провела длинными тонкими ладонями по зауженным книзу «слаксам» с кожаными вставками… Она была просто создана волновать совершенством своей точёной фигурки и сбегавшими на узенькие плечи витыми локонами – но… Её однокашники-дурачки поймут это только хныкая над школьными альбомами, когда уже поздно слюнки-то пускать…
– Давайте сюда вашу склянь! – грубовато, но по-свойски, снисходительно протянул руку Кенарев. Довольно ловко, сноровисто, будто бы привычно снял с пожарного щита небольшой багор, сделал в широкой жестяной крышке два отверстия. Ненавязчивая популярная физика: одно на слив сливового компота, второе – воздух впускать…
– А он хорош! – шепнула Катя Арише, и это был первый в её жизни комплимент Кенареву, несмотря на годы «совместно отбытого» обучения. Не исключено, что за много лет «параллельной отсидки» в узилищах классных кабинетов она вообще впервые Кенаря заметила…
– Вот что значит – мужик в доме! – лестно констатировала голубоглазая и большеглазая Ариша.
– Смотри-ка, соображаешь! – похвалила Серёгу Галя, встав на розлив. – Тебе плеснуть?!
– Да больно мне надо! – отмахнулся Кенарев, не понимая, что это его звёздный час, не ощущая, что он – посреди волшебного цветника, райского сада, в котором каждый цветок – неповторимо-прекрасен, и каждая наяда – Вселенная упоительного счастья. – Пейте вы сами свой компот, а мне нужно найти…
И запнулся, покраснел от смущения.
Мог и не продолжать! Женское общество уже догадалось, кого нужно этому придурку. Того, или, точнее, ту, за которой, одержимые стадным чувством и природной тупостью обидно гонялись все их одноклассники…
– Иди, иди, ищи свою Региночку!
– Ступай на пришкольную площадку! Там вас целый оркестр ей «регги» сыграть собрался!
И глупый Кенарев упустил шанс на популярность в роли дамского угодника, убежал оттуда, где впервые в жизни к его «незнаменитости» стали присматриваться с интересом… А чего ещё от такого ждать?! Это же «Серый Кенарь», какой есть, а не Ньютон с Лобачевским!
Серёга не был недоразвитым в печальном медицинском смысле, который отражается в органической лепке тела. Нет, его недоразвитость заключалась всего лишь во взаимной ненужности: Кенарева всем и всех Кенареву. Взаимное избавление вполне в духе времени: «уходишь – счастливо, приходишь – привет». Ушёл – забыли, не пришёл – не вспомнили…
Такой статус невидимки вполне его устраивал – но только «до любви». С приходом любви, в его возрасте навязчиво-неизбежной, и, разумеется, такой же нелепой, как и всё в жизни Серёжи Кенарева – его положение стало безнадёжным. Как у Луны нет собственного света, а только отражённый, так и в Кенареве окружающие не находили ничего оригинального, а только подражание. Куда все – туда и «Серожа». А воздыхательные симпатии его выводка к выпускному вечеру уже весьма прочно определились…
По причине подросткового идиотизма, детской болезни стадности, вся эта шатия-братия «персон с культурными запросами» была безнадёжно влюблена в волнительно-смуглую, с глуховатым бархатным голосом Регину Доммаже. С чего бы это она Доммаже? Согласно легенде она из семьи французских эмигрантов, сбежавших под крыло царизма от всяких Робеспьеров. Красиво, но маловероятно. Куда более вероятная история – это семейка французских коммунистов, оказавшаяся в СССР куда более прозаично, по линии Коминтерна…
Обаяние фамилии дополнялось высшим божественным таинством виртуозной огранки силуэта, точёного профиля, невообразимой силой поглощения в топазовых миндалевидных глазах… И конечно, той первой, молочной спелостью девичьего очарования, которую, в отношении этой смуглянки, правильнее назвать «кофе с молоком»…
Плюс к тому – серебряная чемпионка по классу рапиры «среди юниоров и кадетов» (неизвестно что это, но звучало внушительно), олимпийский резерв по фехтованию, заграничные командировки, чемпионаты, разумеется, самые «сногсшибательные» импортные шмотки и аксессуары… Короче – «Европа на дому»!
Некогда, правда, Дима Торфянов, человек прямой и правдивый, нашёл в «мире вокруг нас» ещё один французский след. Он обнаружил во время «отработок» в столовой, то есть привычной педагогической «барщины», в служебных помещениях дверь с табличкой «Граманже». Но потом, к диминому стыду, оказалось, что так называют в «узких кругах» всего лишь склад сыпучих продуктов, так что монополии на волнительную иномирность Региночки Доммаже полки с макаронными изделиями не отняли.
Над ней витал «Шанелью», разил шрапнелью имидж парижанки, и, подкреплённый её утончённой внешностью – «оптом» пленял подрастающих, пока совсем ещё безмозглых, мужчин.
Только протрезвевший ум повзрослевшего человека мог бы понять, сколько в компании «выпускники-90» завидных красавиц, и как мало, по большому счёту, выделяется из них роковая «Регги», Регина их мечты.
Нужно быть подростком, или хотя бы вспомнить себя в подростковые годы, чтобы понять воспалённо-безумное состояние зацикленности, когда всем детишкам в песочнице вдруг позарез нужна одна игрушка, и никакая другая!
Это глупо, дико, это какая-то патология роста, гормональной перестройки, отягчающе совпавшей с горбачёвской! Но кроме «Регги-Наваждения» (а именно так переводится с французского её фамилия, если не сказать грубее – «Порча») недоумевали непостижимой невостребованностью темпераментные красотки.
Увы, не в коней корм!
Стадо малолетних подонков прилипло к подошвам югославских сапожек вполне, по-взрослому сознающей себе цену Доммаже, «слушало только Регги», не умея, да и неспособное понять другие ритмы и стили. Они застряли в плену магии французского профиля и бездны провансальской страсти в глазах, если посмотрит «en face»…
Этим психам не нужно «сherchez la femme», они уже нашли. А дальше уже «l’appеtit vient en mangeant», особенно, если не кушать, а только воображать себе, как ешь… Для того, чтобы избежать соблазна Регины Доммаже – Сергей Кенарев был слишком внушаемым, шаблонным, трафаретным, да и просто, чего греха таить, туповатым.
И встал во весь рост вопрос: а что с этим делать? Незаметного, ничем не примечательного, составленного из штампов человечка избалованная вниманием «Регги» не замечала, и при встрече вряд ли с ходу припоминала даже имя этого «дальнего, но недалёкого знакомого»…
По совести говоря, чего там запоминать-то, в этом призраке тихих улочек и междомовых проездов, проходных дворов и барачных рядов? Сергей Кенарев принадлежал к той беспородной стае белобрысых, которых как-то никому в голову не придёт назвать «блондинами»: много чести! Носил Серёга на себе типичную сельскую, славянскую неприметную внешность, ничуть не скрывая ею своего содержания, а точнее, его отсутствия. Ростом был он чуть пониже среднего, и худощав, волосы ему ветерок трепал жидковатые, а острый кадык гулял у него сам, без помощи ветра. Меж бровями у Кенаря легла «морщина страдания» – в его случае ложная, потому как она у него от рождения шрамом прошла, лоб был обманчиво-высоким, обещая по виду умного человека, брови дугой, и по бокам чуть вразлёт – что создавало у собеседников иллюзию почтительного прислушивания…
Классический ненужный человек, сутулый, с вялой жестикуляцией лентяя и разини, какая-то шамкающая носогубная складка «уточкой», и никаких облагораживающих признаков ручного труда или спортивных тренировок… Сорняк городского подзаборья и запомоечности, здесь проклюнулся, рос и вырос крапивой истории. Впрочем, крапива жгуча, и есть такое выражение «крапивное семя» – про людей, достойных уважения своими навыками к делопроизводству. Какая из Кенаря крапива? Лопух, цепляется, как репей, вот, наверное, и всё, что про него сказать можно…
Но в тот волшебный вечер, когда его поколение, сходило, как корабли, со стапелей на «первую воду» – Кенарева как будто подменили! Не успев даже понять нового статуса своей популярности, Серёга с ходу попал в герои.
Как у него всегда и водилось – паразитируя на попытках чужого героизма. Ибо, блуждая в потёмках начала взрослой жизни, Кенарь нашёл не только «Регги» Доммаже, но и одного из её паладинов, Гошу Крепиницкого. Этот дебилоид, знаменитый пылкостью обличительных речей, ужас ретроградов педколлектива, выдумал показать какой-то акробатический номер на кромке забора пришкольного участка. Забрался наверх, и стал там шутейно шагать, выделываясь цаплей подобно канатоходцу, но, как говорили в его кругах, «сорвался тапком»… И совсем не на шутку «сел» пропоротым боком на стальной колышек ограды…
– Господи! Да помогите хоть кто-нибудь! – металась легендарная «Регги» между растерянными, примолкшими и притихшими сверстниками – Сделайте хоть что-нибудь! Его же нужно как-то снять…
– «Скорую» вызвали, приедет – снимет… – довольно бессердечно утешил рационалист Торфянов.
– Он же кровью истечёт! – вопила Доммаже, указывая на стонущего Гошу, скрюченного в нелепой позе кильки на вилке. – Смотрите, как хлещет! Не доживёт он до «Скорой»…
Тут и выпало блеснуть бытовым здравомыслием влюблённому Кенарю. Пользуясь всеобщим замешательством, он приказал – и все без слов подчинились – скинуть нагрудные красные ленты выпускников, и сложить их петлями, три в одну. Кенарю довелось видеть, как опускают гробы на полотенцах, и теперь роль ритуальных полотенец играли праздничные ленты.
Крепницкого взяли в две петли, с обеих сторон от его идиотского, но чертовски опасного ранения и аккуратно – ведь забор был невысок, скорее декоративный, чем настоящий – сняли с кровавого штыря. Недостатка в руках спасателей не было, тут столпилось полшколы, и большинство – парни. Но вот мозги оказались только у Серёги…
– Ты мой герой! – истерически взмявкнула прекрасная Доммаже, размашисто поцеловала Кенарева, думая, что в щёку, но попала в губы, после чего рванула оказывать первую помощь распростёртому на стоптанном газончике мосластому нескладному, по виду уже и безжизненному, телу Гоши.
Теперь выпускницкие ленты служили уже не гробовыми полотенцами, а наоборот – спасительными бинтами. Регина рвала их и накладывала умело: фехтовальщиков очень основательно учат первой помощи на случай спортивных колющих и резаных травм.
– А вот нечего было выделываться! – цинично, хоть и не без зависти, прокомментировал Дима Торфянов жалкую участь приятеля, прозванного за худобу и костлявость «Кошей», с намёком на «Кощея». Сегодня все убедились, что Гоша-Коша отнюдь не бессмертный…
Кенарев же, в общем-то, совершенно равнодушный к судьбе Гоши, тем более, что тот «сто пудов» сам виноват – ходил гоголем, всем видом подчёркивая своё превосходство и статус фаворита…
Как и любой неумный человек на его месте, он принял простой и банальный жест благодарности за проявление особой симпатии, надежду на вожделенные «особые отношения»…
II.
О происхождении таких, как Сергей Кенарев, говорят – «пролетариат умственного труда», хотя проще сказать – «ни рыба, ни мясо». То есть, конечно, когда-то унылая вереница безликостей, приведшая в итоге к нему, была крестьянами, как и подавляющее большинство жителей тогдашней, до агрессивности аграрной страны. К хорошему привыкаешь быстро, но ещё быстрее забываешь плохое. Избяная, лапотная память в роду Кенаревых стёрлась до полной неразличимости. Бабка ещё могла бы рассказать, как лебеду кушала и с лубяной котомкой пешком в город на заработки тридцать вёрст поутру ходила – но… не хотела. И её понять немудрено!
Изменилась бабка, получила образование, небольшое, но очень старательно пропиталась им. Много лет, до самой пенсии, бабка выписывала в конторе Гортранса оптовые накладные, трудовым коллективам на автобусные и трамвайные проездные билеты. Она славилась каллиграфическим почерком, и потому, по уговорам начальства, на несколько лет даже задержалась после достижения пресловутого «пенсионного возраста».
– Ну вот кто она после этого? – думал Серёга потерянно – Сказать «интеллигенция» – наврёшь. Какая же она интеллигенция, если всю жизнь, с восхитительными завитушками, писала шесть-семь слов, не больше?! Но «рабочая» – тоже ведь не скажешь, если человек с пером и бумагой неразлучный…
Взять мать Серёги – та же самая история! Табельщица в городской аварийной конторе, закрывающая наряды слесарям. Это не завод, и не университет, ни туда, ни сюда не отнесёшь с точки зрения «социального происхождения»! Всю жизнь с бумажками, как доцент какой-нибудь, а много ли в тех бумажках, табличках сводных, ума-то? Воробей капнул!
Отец Кенаря, рано покинувший бренный мир – был в этом самом миру мастером механического цеха. Хороший, говорят, был человек – но Серёга его почти не помнил. По старинной пролетарской традиции отца заменял, а точнее, пытался заменить дядя по материнской линии, Александр Степанович Веткин. Про него одного можно было сказать, пожалуй, более определённо: в «травильщики стекла плавиковой кислотой», единственной, что берёт стекло – гнилого интеллигента не возьмут. Рабочая кость!
Плохо лишь то, что товарищ Веткин свои навыки травильщика приносил с работы на досуг, и в свободное от опасных смен время травил уже не стекло, а бестолкового племенника. В общем-то, за дело, но грубо, не в духе времени, как-то, что ли, тоталитарно…
– Ты балбес! – и весь сказ.
А где же чуткость к молодому поколению?!
Веткины с незапамятных времён (для Кенаря это были пятидесятые годы, глубже которых, по его мироощущению, всякая история растворяется плавиковой кислотой доисторической эры) жили в коммунальной квартире, расположенной разорвано, в старинном лепном купеческом особняке. Занимали там сперва одну большую комнату, а потом присовокупили к заветной и пресловутой жилплощади вымороченную маленькую комнатку, завещанную им соседкой, пожилой и одинокой училкой «из бывших».
От входной двери начинался большой и ненужный холл, завешанный под самую тусклую лампочку оцинкованными корытами, велосипедами и салазками, заставленный больно дерущимися (особенно если ты выпимши) угловатыми овощными ларями.
Владения Веткиных, с приходом отца ставших Кенаревыми, да такими же и оставшихся после его трагического, безвременного ухода, нелепо разделялись в самой середине чужой комнатой.
«Твоё-чужое-твоё», чересполосица, и прорубить межкомнатный проход через дранковую облезлую перегородку нет никакой возможности. Поменяться с соседом комнатами тоже не получалось – все три разного метража, заколдованный круг какой-то!
Это прописочное безумие повергло Веткиных-Кенаревых в глубокое отчаяние, из которого они, ожидаючи с года на год отдельной квартиры, на памяти Серёги так и не вышли никогда.
Здесь, в семье механика и аварийной табельщицы и вырос Сергей, родившись, само собой разумеется, как и все советские люди, в роддоме.
Годы сознательного его становления пришлись уже на «бабье царство», лишь слегка разбавляемое визитами Александра Степановича, обычно с ремонтной целью или по праздникам. Научить Серёжу чему-то путному это царство (как и дядя-работяга) не могло, ибо и само ничего путного не знало, проживая в каком-то ядовито-истерическом дурмане «тоннельного зрения», узкой, как у роботов, бездумной функциональности. Если что-то и любили эти люди, «тянущие лямку», занудно считающие до получки не только рубли, но и копеечки – то, со всей одержимостью оторванных от земли селян, садоводство и «заготовки». Обычно ругань с отпрыском 1973 года рождения начиналась именно на почве огородной каторги – и только потом раскрывалась в своей чёрной копоти до более широких обобщений взаимной безысходной ненависти.
Правда, последнее время, мать, приходя с работы, начинала орать на Серёжу сразу же, с порога, до неприличия злобно, так что весь двор слышал, и хихикал:
– По скандалу у Кенаревых можно часы сверять! Тонька табель закрыла, хайван раскрыла…
А зачем так жить – никто не знал, и рассказать не мог. В школе Серёжу учили на уроках литературы наблюдениям Максима Горького: мол, иностранец злодействует ради выгоды, с корыстным расчётом, в русской же среде распространено злое бессмысленное хулиганство, не только не в прок хулигану, но даже ему в прямой ущерб…
– Это что ли?! – думал Кенарь, глядя, по мере сил отстранённо, на материнское бешенство, подобное русскому бунту, бессмысленное и беспощадное, несущее в себе какую-то укоренённую и глубокую, застарелую, как хроническая болезнь, обиду на жизнь, на всё человечество, предмета которой не в состоянии понять и объяснить и сам обиженный.
– Она рано мужа потеряла… – как-то попыталась рационализировать истерики бабка-Веткина.
– А я отца ещё раньше… – парировал Серёга.
– Ну, вот пойми и терпи…
– И чего это даст?!
– Мир в семье.
– Да какой же мир в семье – если терпеть скандалы?! – недоумевал Серёга, как всегда всё воспринимавший буквально. И уже заранее зная, что придёт дядя, привычно встанет на сторону своей сестры, обзовёт «балбесом»:
– На завод ты идти не хочешь, а кроме завода – где и кому ты нужен, бестолочь?!