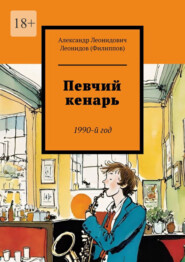скачать книгу бесплатно
Мышление в семье Веткиных-Кенаревых состояло из трёх частей. Первая – это чёрная зависть к тому, как «люди живут», причём Кенарь довольно рано понял, что «люди, умеющие жить» – собирательно-мифический образ. Вторая – это нытьё о собственной обездоленности и неудачливости, упорная ненависть к собственному, не менее упорному, труду. Третья – это завиральные проекты, призванные, но неспособные примирить первую часть со второй, оторванные от реальности, но нудно по кругу обсуждаемые прожекты «выхода в люди».
Менее всего подходил для этих смелых, но безмозглых планов Серёжа. Лишённый всякого азарта, туповатый, односложно на всё отвечающий, он год от года всё очевиднее становился семейной обузой, горьким напоминанием о «несбыче мечт».
Из таких верстаются алкаши, но ведь и алкоголик – тоже имеет свою страсть, гоним какой-то силой, толкающей его через внутренние страдания и противоречия в винно-водочный отдел, как магнитное поле направляет стрелку компаса строго на север.
Кенарев же болтался «цветком в проруби», мог выпить от скуки, но это совсем не то, что пить с горя или от шальной, душераздирающей чувственности. Скучные люди – они и пьют скучно, всегда смотрят, чтобы на закуску вдоволь денег оставалось…
Человек, не вполне справедливо заклеймённый ленивым и глупым, тяжёлым на подъём и в обхождении, Сергей и вправду казался каким-то вторичным, как вторсырьё, которое он всю сознательную часть жизни исправно сдавал в фанерный приёмный пункт на заднем дворе. От убогой жизни и ума собирал Серёжа, сколько себе помнил, бутылки и сметанные баночки, макулатуру, металлолом, выменивал на медяки, а иногда – на талоны дефицитных книжных изданий, которые сами по себе ему были без надобы, но хорошо шли с рук на углу у заядлых букинистов.
В школе он перебивался с двоек на тройки только лишь из человечности советских педагогов, жалевших его выбросить «со справкой». Он даже научился этим пользоваться. Когда после 8-го класса его хотели выпроводить в ПТУ – он довольно пафосно (сказывались обильные уроки русской классической литературы) и прилюдно воззвал к гуманной директрисе:
– Как директор, как должностное лицо, вы вправе меня выгнать, с моими-то оценками! Но как женщина, как мать…
Через это «Сей Рожа» перешёл в 9-й класс.
Из всех дел ему и там были наиболее привычны два: «лежать боками» перед жалким, траченным, зиявшим сломанными переключателями, чёрно-белым семейным телевизором «Таурус» или болтаться по всяческим задним дворам. Там он находил таких же, как сам, никчёмных «прожигателей» асбестовой шершавой жизни «без огонька», в которой, отметим, и гореть-то нечему!
«Слоняющийся человек» – не бродяга в классическом смысле слова. Он не бродяжничает из дали в даль, из города в город. Скажем, у Кенарева не хватило бы фантазии, чтобы сесть и уехать куда-то по-настоящему.
Но такие, как Кенарь, в широких горизонтах для своего кочевья и не нуждаются. Характерная их особенность – проявление живейшего и бессмысленного, даже болезненного, интереса ко всему, что вообще-то интереса не вызывает, и вызывать в принципе не должно.
Так было, пока носил он, словно арестант, скучную и одномастную школьную форму, синий пиджак с алюминиевыми пуговицами – но что изменилось «по выходе»? Ты, вроде как, официально считаешься «зрелым», даже документ выдали, если у кого возникнут оправданные сомнения…
А, по сути, всё так же полдня зависаешь, осматривая, как музей удивительных редкостей, дурацкий магазинчик «Мука-Крупа», который был аккуратно вписан в угол панельной пятиэтажки на первом этаже, вытеснив оттуда, судя по его скромным размерам, не больше одной квартиры. И не то, чтобы он этого серого, пыльного магазинчика раньше не видел – всю жизнь ходил мимо него и через него. А просто так… Надо ж время убить…
Со стороны могло показаться, что это шпион, вычисляющий хлебные запасы советской отчизны, или вор, ловящий момент для кражи одного из множества вповалку громоздящихся мучных мешков. Или что Кенарь – задумал сам открыть бакалею, изучает опыт…
Но Серёга не был ни шпионом, ни вором, ни бакалейщиком, на такое ему бы не хватило таланта, он тёрся возле «Муки-Крупы» в ожидании каких-то знакомых, чтобы потрындеть ни о чём. Или незнакомых – с той же целью, если они окажутся «братьями по разуму»…
Обретя «кентов», Серёжа безобидно и незло усаживался с ними на бортике детской песочницы под жестяным мухомором, и обсуждал «знаковые» для этой публики вопросы:
– Почему на перекрёстке у Центрального рынка такой неестественно-долгий красный свет у светофора?
– Считать ли новообретённую в глянце и красках мечту подростков, газету «СПИД-инфо» порнографической – или же просветительской?
– Окаменеет ли внутренность яйца, если само яйцо окаменеет? Или же протухнет?
– Что будет, если подделать талоны на продукты, которые отпускают «свободно», то есть без талонов?
– Можно ли получить дефицитный сахар из промёрзшей картошки, если она, промёрзнув, становится сладковата?
– Произошло ли название фирмы-производителя печатных машинок «Оливетти», реклама которой ежевечерне предваряет общесоюзную программу «Время», от оливок, или же это случайное совпадение звуков?
– Стоит ли разводить ос для получения осиного мёда в местах, где постоянно разоряют и обворовывают пчелиные пасеки?
– Нужно ли набить семейный гараж пока ещё очень доступными суповыми пакетиками на случай апокалипсиса – или всё равно не поможет, поскольку у сухих супов срок годности ограничен?
В своих разборах такого рода взыскательных экзистенций Кенарев считался у «кентов» очень мозговитым, основательным и уважаемым экспертом. Не только другом, но, в каком-то смысле, даже учителем.
Но не всегда пустыня города в полуденный час одаривала даже самыми «беспонтовыми» корешами. Тогда, не обретя гармонии в бомонде – Серёжа шёл дальше по улице, на угол в огромный «Гастроном» – может, там его ждут люди-зеркала, его отражения с пивными планами? Заходил, а точнее, забредал, и шёл от секции к секции очень неторопливо…
Слоняющегося человека, ковыляющего по бесконечной дороге из ниоткуда в никуда не смущало ничто. Даже капустно-луковая вонь овощного отдела, куда овощи поступали, подгнив уже «на дальних подступах». Не иначе как проклятые страшными заклятиями искушённых в колдовстве, расплодившихся без меры, как кролики в Австралии, прожорливых и бесполезных «научных работников», загоняемых, за ненадобностью, на овощебазы в помощь малочисленным овощехранителям.
Люди в стране Кенарева жили плохо – но не в том смысле, какой придаёт слову «плохо» беспощадная мачеха-история. Они жили плохо не потому, что не могли жить хорошо, а потому что не хотели. Люди замечали только то, чего нет, а что окружало их – не замечали в упор.
Только сверх-наблюдательный от безделья и внутренней пустоты Серёга видел, как много в его провинциальном убогом «Гастрономе» пузатых трёхлитровых банок с яблочным соком, как красиво выстроены жестяными рыцарскими рядами в огромные импрессионистские пирамиды консервные банки с килькой в томате и «завтраком туриста». Под застеклённым холодильным уклоном на алюминиевых поддонах громоздились тушки кур с бумажкой у окорочков: «куры по талонам». Куры выглядели синевато-нездоровыми, но рядом, уже без талонов, и даже «уценённые» – пирамидились здоровенные яйца, может быть, этим курам неродные… Город недавно напугали слухами про сальмонеллёз на птицефабриках, и город резко снизил потребление яиц, теперь даже высший сорт не знали, куда девать…
Это было скучно, неаппетитно, но отнюдь не страшно, не безнадёжно и не смертельно, как рассказывали с утра до ночи такие же нездорово-сизые, как бы отрезанные планкой экрана говорящие головы по телевизору. «Очень плохое снабжение»… Не лучшее, конечно, да ведь и не графьям… Расскажите о том, как оно худо худым людям, веками, как зайцы, глодавшим осиновую кору – они вас на смех подымут!
Баррикадами на пути надуманной драме «нового мышления» (суть которого сводилась к тому, что все тебе должны всё, а ты никому и ничего), громоздились плетёные из толстой проволоки ящики с бутылками молока под широкой крышечкой из фольги, стеклянными баночками-раструбами сметаны, творога и сырков в бумажных неряшливых облатках. Никогда не пропадали с деревянных полок до потолка, напоминавших книжные шкафы, буханки и булки дешёвого хлеба. До того дешёвого, что этим магазинным хлебом с выгодой откармливали скотину вместо силоса…
В непотопляемом рыбном отсеке наблюдался даже, можно сказать, избыток сайры, витрины забаррикадированы банками тушёнки с кашей и макаронными коробами. Проходы заставлены банками с маринованными помидорами, правда зеленоватыми и уксусными… В стране Кенаря всё это торжественно именовалось «голодом». Потому что не было, чего хотелось, а что было – того не хотели…
И вот он, венец всего этого бездумного разрушающегося мира – слоняющийся переросток в плотных лавсановых штанах за 8 рублей пара, производства хивинской швейной фабрики, несносных во всех смыслах: и по сроку службу, и по фасону. Человек без места в трикотажной олимпийке, синей кепке и светло-серых босоножках. Этого, с птичьей фамилией и птичьей судьбой, вполне удовлетворит два часа рассматривать жанровые чеканки наивного стиля на колоннах выстроенного в своё время на манер дворца, продуктового магазина. Что называется, глазеть «ни для чего»…
Он длинно и смазано маячил перед густо, по-индейски, накрашенными продавщицами, впрочем, за годы к его привидению уже привыкших, немым укором разлагавшейся советской торговле. Но не потому, что он не согласен с «линией партии», много лет уже заключающейся в гнобеже этой же самой партии, а просто потому, что он придурок. Напасть на свою страну он не может по той же самой причине, по какой не может за неё заступиться: она слишком большая, чтобы вообще уместиться в его голове, в его реальности.
Такие как Кенарев, пленники узкого круга лиц и пространства внутри нескольких скучных городских кварталов, блуждают дворнягами, не тяготясь ни вопросами из телевизора, ни газетными взвизгами спросонок, ни собственной неприкаянностью. Кенарь – это архетип вырождающегося энтузиазма пятилеток: он не понимает, куда себя девать, и к тому же – не понимает, что он этого не понимает. Потому что вопросом – куда себя девать? – задаваться не умеет.
И внутренне Кенарь убеждён, что занят делом. Потому что для Серёги всё всегда буквально. Дворы – это просто дворы, свалки – просто свалки, река – только река, парк – не больше, чем парк. А скамейки возле подъездов – всего лишь средство скоротать жизнь. Такие люди по-своему даже счастливы, скудным счастьем немощности, нетребовательной всеядности своей отмирающей фантазии, своей угасшей способности мечтать…
Каменное якутское спокойствие балбала, для которого, прямо по Гегелю, «всё действительное разумно», расположилось у подножия страны, живущей в мелодиях и ритмах свистопляски, от которой люди уже успели устать до обморочной черноты перед глазами…
И немудрено, ведь черта любого подлинного праздника – его кратковременность. Можно плясать день, самые удалые пляшут неделю напролёт, но когда разгул длится месяцами – он и самого разгульного утомит…
В стране Кенарева карнавал и маскарад бурлили не первый год, отчего и тамада уже примелькался, и острые шутки изрядно притупились, и конкурсы по церемониальному оплёвыванию всего монументального – успели утомить ёрническим однообразием.
Разоблачениями специально приставленные к ним люди занимались поутру так же одержимо, необходимо, ежедневно и в обязательном порядке, как граф Сен-Симон великими делами [1]. Власть настойчиво требовала покушаться на неё. Простоватый народ побаивался такой настырности, да и попросту ленился громить эту власть. Ведь она ему ничего, в сущности, плохого не сделала (как, впрочем, и хорошего). А раз так – покушения на «бюрократию» поощрялись чисто-бюрократическими методами. И в итоге превращались в навязчивую «обязаловку» для трудовых коллективов.
– Ступайте бастовать! – брюзжали прорабы и «прожекторы» «перестройки» – Что значит «не хочу»?! Через «не хочу»! Партия велела проявлять народное недовольство!
III.
Элемент творческой богемы вошёл в жизнь Кенарева сразу же после рождения, и довольно неотвратимо: пресловутую третью комнату в его разорванном родовом гнезде, вечно неприбранном и неряшливом, несмотря на бесконечную уборку, и неумолчные разговоры о недопустимости быть «неряхой», занимал саксофонист Артур Ватман. Дурацкую его фамилию забыли, и был он всем «чужой человек», для русских – еврей, для евреев – русский, потому что его за пьянство и нелепость никто своим не признавал. Чаще всего его звали «эй, ты», но был у него и псевдоним, как положено творческому работнику: Артур Арктур. В честь звезды [2], как вы понимаете… И если вы рассчитывали на его благосклонность, то лучше бы вам звать его Арктуром, чем по паспорту, Ватманом…
Горький пучеглазый алкаш, Артур Арктур давно уже не запирал дверь к себе в комнату, где решительно нечего было воровать. Он играл на своей гнутой гнусавой трубе, всегда плохо, и всегда за гроши, кроме последних лет. С приходом в город «кооперативных кабаков», «комков» – коммерческих ресторанов, Артур Арктур стал зарабатывать своей игрой куда больше, как он вычурно говорил:
– … денежных знаков.
Отчасти это нивелировалось тем, что советские дензнаки стремительно обесценивались. Но всё же, получая «в сухом остатке» больше прежнего, трубач Арктур стал пить тоже больше прежнего, и, наконец, не выдержав самого себя, помер.
– Это же какая-то про?клятая квартира! – думал Сергей Кенарев. И остобенело глядел на жалкий труп, лежащий на снятой с проёма межкомнатной двери, опирающейся на две кухонных табуретки. И видел в нём себя…
– Один умер, другой умер, и я никуда не поступаю, и вот-вот в армию угондошат…
Нужен безумный план! Серёже не привыкать: в его семье если и умели составлять какие-то планы, то только безумные, чему и его поневоле с малолетства обучили. А безумные планы – привычные спутники отчаяния. Так родилась идея выдать пожилого Артура за себя, и сдать в таком виде в военкомат. А себя за Артура, в силу возраста призыву в разлагавшуюся на глазах советскую армию не подлежащего… Авось, не заметят подмены!
Но на практике столь виртуозные махинации были слишком сложны для такого дурачка, как Серёжа Кенарев. Всё в итоге ограничилось тем, что он забрал у покойного его музыкальный инструмент и несколько документов, думая попытать счастья на освободившейся «поляне» покойного Арктура.
Откроем небольшой секрет: не научившись в жизни ничему, Серёга Кенарев, Бог уж его знает, через чьи гены и молитвы, обладал скромненьким даром. Он умел, сложив губы в трубочку, подражать звуку саксофона. Сперва он так дудел для забавы, между делом. Потом это заметили одноклассники и друзья во дворе, просили «для прикола» протрубить несложную мелодию. Даже заветная Регина, та самая, что Доммаже, один раз попросила – а Серёже жалко, что ли?!
Потом дудочные способности мальчика-соседа заметил профессионал, товарищ Ватман—Арктур. И очень оценил, правда, под пьяную лавочку, да ведь другой у Артурушки Ватмана и не имелось уж много лет!
– Разумеется, громкости полноценного инструмента ты дать не могжёшь (он так и говорил, жёвано, «не могжёшь», как другие говорят «не могёшь») … Но-таки по звучке очень похоже-ж!
Странное искусство однобокого звукоподражания восхищало Арктура, они с Серёгой даже играли, бывало, вдвоём: один на своей трубе, другой – на своей губе.
– Если ты станешь дудеть в микрофон – подсказал однажды Артурушка – то никто и не заметит подмены! У тебя же чистый джазовый звук идёт, просто громкости не хватает!
Кенарев это запомнил, и…
После смерти Артура Арктура посчитал смелым планом.
А что, «семь бед – один ответ»! Терять нечего: мать, по хладнокровным замерам Кенаря, в стрессе бурлящей «перестройки» совсем помешалась. И может, неврастенически распалившись, пожалуй, и ножом полоснуть! Что касается бабки, то ей и с ума сходить не нужно – всегда, сколько её помнил Серёга, была безумной.
В угрюмой тесноте заваленного хламом жилища, в обстановке постоянной свары и непрекращающейся истерики взбесившихся старых баб и их подпевалы Веткина ловить, очевидно, более нечего…
Была, правда, некоторая надежда на ВУЗ, но так уж получилось… Хвостом и шлейфом несчастной любви… Серёжа записался на подготовительные курсы непосильного для него факультета, только чтобы ходить туда вместе с Региной Доммаже, в силу чего и оказался там в хорошо знакомой мужской компании… Потому что не один был такой «хитрый»…
Полгода он ходил на курсы, выторговывая себе право проводить чемпионку рапиры до дому, совершенно не интересуясь иными предметами, включая преподаваемые…
На вступительных, вполне предсказуемо срезался. А Регина нет. Она уходила вверх, выскальзывая из неловких ухаживаний, а Серёжа свинцово падал в свинство, к себе на привычное дно, где провал усилил моральные, а порой и физические истязания «в домашних условиях», доходившие до рукоприкладства. И откуда дорога, если не считать кладбищенской, только на завод, в травильщики…
В затылок задышал «товарищ военком», а про армию Кенарев много лет слышал только самые страшные вещи: как там избивают, унижают, как оттуда, после «дедовщины», возвращаются калеками или вовсе не возвращаются…
Чрезмерно запуганный прожекторами «перестройки», напрудившими на мозги, что армия много хуже тюрьмы, Кенарев, однако же, и без всяких страшилок не пошёл бы туда. Будем честны, просто по природе своей Серёжа был блеклым паразитом, ни к труду, ни к службе по-настоящему не годным. На диване лежать или за помойками в закутках слоняться – согласитесь, та ещё «школа жизни»!
Из неё и вылупляются гадёныши, которым дома очень плохо, а за пределами дома – ничего не ждёт, кроме ледяной агонии полной ненужности.
– Одним я нужен, чтобы мучить меня – сделал вывод Серёга – А другим – не нужен ни в каком качестве…
– Был вот один приятель, Артур Арктур – качал головой Кенарев, глядя на жалкое тело, от которого все спешат побыстрее избавиться – и того боле нету… Что же мне, рядом с ним лечь-помереть?!
Вместо такого радикального решения своего вопроса, Сергей Кенарев, проводив соседа в последний путь, вырядился в свою лучшую одежду, впрочем, мало отличавшуюся от худшей.
Заглянул в распахнутую настежь, больше похожую на грязную ночлежку, комнату Ватмана, позаимствовал большеватый на подростковых плечах, но на любом человеке импозантный бархатный пиджак покойного. Потом сложил в фанерный чемоданчик нужные вещи, какие смог вспомнить – и… ушёл. Ну, а что такого? Аттестат зрелости, пусть и средненький, на троечках настоянный, он имел, значит – стал-таки взрослым человеком. Между прочим, Александр Степанович Веткин в его возрасте уехал в другой город – правда, по комсомольскому призыву, и на завод. Кенарев же, мутноглазый сын своего мутного времени – ушёл в никуда и ни для чего.
– Если старик Арктур играл в кабаке на саксофоне… – тяжело плескалась снулой рыбой убогая мысль Кенарева – То почему бы мне не попытаться унаследовать?! Правда, играть на саксофоне я не умею, но если там на эстраде будет микрофон… А в большой зале – как же без микрофона?! Тогда я могу делать вид, что играю на саксофоне, хрен там кто присматриваться станет! Буду в микрофон дудеть, а саксофон ко рту подносить, вот все и решат, что я дудочник-профессионал…
В первом кооперативном «комке», под вызывающим названием «КООП-Клеопатра» хорошо помнили Артура Арктура, поинтересовались, что с ним, покачали головой и поцокали языком в знак соболезнования, и согласились взять «на испытательный срок» юного преемника.
Но Кенарев, со свойственной иной раз недалёким людям звериной хитростью, наврал, что у него инструмент не с собой, и попросил показать рабочий подиум. Микрофона там не было – следовательно, «Клеопатра» пролетала, как фанера над Парижем.
Во втором «комке», снова полуподвальном и камерном, со странной и вычурной вывеской «Великий Могол», история повторилась. Господа кооператоры переживали, что остались без Артурчика, «он заводной был», «то-то неделю уж не появлялся – а мы думали, в запое»… Господа коммерсанты соглашались «дать шанс» молодому исполнителю, и по глазам было видно, что алкаши-трубачи к ним не ломятся гурьбой. А они, видать, привыкли публику тешить «звездой эстрады, Арктуром», у которого, на самом деле, от звезды было только имечко…
Совсем было уж загрустил Серёжа-Кенарь, но по третьему адресу из послужного списка Артура Арктура обнаружил ресторан-гигант, переделанный из советского общепита. В этом ресторане, «Удаче», несколько залов со столиками были совмещены в общем ансамбле, отделённые друг от друга только раскиданными в шахматном порядке массивными колоннами.
И подиум для эстрадников, шабашников-лабухов, был отдалённым, залит светом, мешающим в своей яркости распознавать детали, и – самое-то главное, с микрофоном! Завидя чёрную змею провода звукоусилительной техники, Кенарев не стал боле врать, а заступил на прослушивание, что называется, «не отходя от кассы». Его попросили сыграть «печальную» – он сверху продудел в микрофон «на сопках Маньчжурии». Потом его попросили «дать весёлую» – и он продудел «Камаринского». Притворятся саксофонистом оказалось даже проще, чем Кенарев думал: всех интересовал только звук, а он был у Серёги чистым, и, благодаря микрофону, сильным, до самого дальнего уголка совмещённых зал долетал. Что же касается тонкости ситуации, того, что саксофон чуть-чуть не достаёт до губ исполнителя – то про такой вид мошенничества никто и знать не знал, и думать не думал. Хозяева «Удачи», наверное, даже бы удивились, если бы им рассказали «способ развода и кидалова», применённый Серёжей в отчаянном жизненном положении.
А может быть, им бы было уже наплевать: парень играет? Играет. Звук саксофона? Саксофона. А чего ещё нужно? Кто сказал, что музыкант должен дудеть непременно в дудку? Вон у всяких виолончелисток и дудки-то никакой нет, а поди ж, самые высокооплачиваемые…
Ресторан «Удача» без лишних слов принял Серёгу «на испытательный срок» и объяснил график потребностей в лабухе-солисте.
– Место мы тебе предоставляем. А твоя оплата – это твои чаевые, так что старайся, чтобы гости тебе почаще мелодии заказывали!
Это было просто – потому что тоже перешло без изменений от покойного соседа Артура Арктура.
Даже сценическое имя коммерсанты решили не менять. Играет Артур Арктур – и пусть так останется, публика, которая завсегдатаи, привыкла. Будь, Серёжа, теперь ты Артуром Арктуром – что соответствовало планам Кенарева, мечтавшего затеряться и пропасть из прошлой жизни…
Можно ли потеряться человеку в нашу эпоху? Да запросто! Время пышных и блестящих пиршеств абстрактного безадресного гуманизма не то, чтобы отменило внимание к человеку, но как бы закрыло, заволокло его собой до непроглядности. Все, буквально все говорили про общественное благо и добро, и говорили витиевато, велеречиво, развесисто, но оставался осадок ощущения: все ораторы пытаются друг друга обмануть, навязать добродетель слушателям, чтобы оставить монополию на злодейства себе, любимым…
Впрочем, о настоящих злодействах, вспыхивающих неистовом рожзигом со страниц журнала «Огонёк», на какой странице не раскроешь – вегетарианское общество тоже имело очень смутное и перевёрнутое представление. Кто-то, когда-то, кого-то убивал, но не мы и не нас – так подсознательно засело в головах кенаревского выпуска, вместо «путёвки в жизнь» получившего «белый билет».
Эти ребята учили – и старательно учили – не только русскую и мировую историю, но ещё и литературу. Им – по пройденному материалу – был знаком брутальный накал взаимной ненависти властей и народов. Они зазубривали – и зазубривая, сомневались, что такое может быть – вулканическую энергетику «прежних войн и смут».
Но жили они совсем в другой среде, и видели вокруг себя совсем другое: равно-сибаритское бессилие верхов и низов, вполне себе взаимный маразм маслянистой податливой уступчивости. В год окончания школ поколением Кенарева осаждённые во власти дряблые улыбаки изнывали в томном ожидании своих победителей, чтобы вручить им ключи от крепости. Но и осаждающим было «вломы» являться на триумф. Всё подвисшее ждало способного на решения – пусть даже самые чёрные – человека.
Там, посреди всеобщего недоразумения, среди мусора предыдущих символов вер – и затерялся очень удачно «липовый» саксофонист Сергей Кенарев…
IV.
Получилось, как будто в изначальном плане: Сергей Кенарев умер, растворился, распался на молекулы, вместо него появился Артур Арктур-второй, человек, вполне из плоти, из крови, и даже с аппетитом, с потребительскими потребностями – но… живущий первый день на белом свете.
Страх от вечернего дебюта прошёл быстро: публика вечернего ресторана в угаре сумерек была разгульной, хамоватой, но добродушной, она поддержала нового саксофониста аплодисментами, нестройными криками, кидала в него чем-то съестным, но не обидно, как это смотрелось бы в Европах, а поощрительно.
Под конец программы нового Артура Арктура пригласили к столику неких нижневартовских коммерсов, страшно там напоили, отчего решилась другая проблема Серёги: где «теперича» жить? Не было бы счастья – да несчастье помогло. Пьяного саксофониста при закрытии ресторана отволокли в коптёрку к ночному сторожу, и уложили там на топчане, где он всю ночь болел, страдал и ворочался, но никого, кроме вышеупомянутого сторожа, тем не беспокоил. И даже было видно, что такая практика пригревать пьяных лабухов для этого ресторана не внове!
Город, вроде бы, и большой, но живут в нём люди кучно, общинами: учатся и работают в тех же кварталах, где и живут, на другую сторону улицы – носа не высовывают. А по нынешним нравам – туда и опасно соваться: спросят, с какого района, и навалять могут…
Оттого в этом городе про знакомых знают всё. А ничего не знают только о совсем уж незнакомых. Идёт-гуляет шепот бывших одноклассников:
– Слыхали, Серёга Кенарев из дома ушёл…
– Да ведь дома у него, строго говоря, и не было… Так, какое-то стойло Софья Власьевна выделила для своего рабочего скота по ордеру…
– Плохи же дела у этой вашей Софьи Власьевны, если у неё такой рабочий скот, как Серёжа Кенарев! Он же тунеядец, где сядешь, там и слезешь…
– Да уж, Кенарь – как индеец: убить можно, поработить никогда!
Были и насмешливо-бытовые голоса:
– Ушёл, конечно, держи карман шире! А как же он талоны на продукты получать-то будет?! Их же через жилуправление распределяют…
– Мать за него получит! Он же не выписался, просто ушёл…
– Так он ночами возвращается, что ли?!
– Я откуда знаю?!