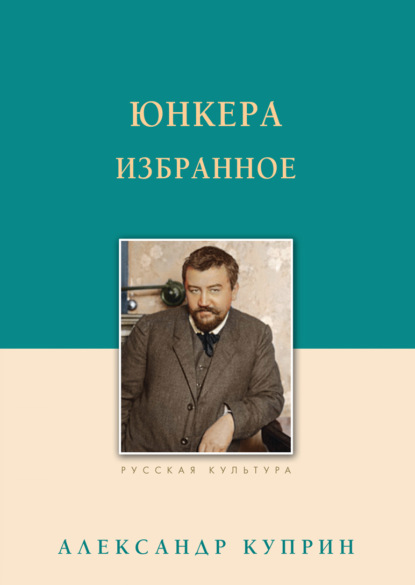
Полная версия:
Юнкера. Избранное
Автобиографический роман «Юнкера», пожалуй, главное произведение эмигрантского периода творчества Куприна, которое можно рассматривать как своеобразное завещание писателя. Начало работы над этой вещью относилось к 1911 году, как продолжение повести «На переломе (Кадеты)». Однако теперь вдали от Родины этот роман по своему настрою стал сильно отличаться от других произведений на армейскую тему. В нем автор как бы возвращался в свои юнкерские времена, любовно воссоздавая приметы прошлого, быт и обычаи юнкерской жизни, памятные места его московской юности. Писатель постарался изображать реальные лица и события своего прошлого, вспоминать о своих первых опытах в сфере литературы и о своей первой любви.
В последние годы жизни во Франции Куприн сильно изменился, став более спокойным и сентиментальным, совсем не похожим на былого «силача». К 1930 году Куприны еще больше обеднели, а алкоголизм писателя уже не был секретом для его круга общения. Зрение писателя все более ухудшалось, у него прогрессировало заболевание раком пищевода. Давно вынашивавшееся писателем возвращение в СССР стало в итоге реальной возможностью решить все проблемы разом, а главное, утолить давнюю тоску писателя, остававшегося русским патриотом, по Родине. В конце 1936 года Куприн обратился за визой в советское консульство в Париже. Полпред СССР во Франции В.П. Потемкин 7 августа 1936 года написал письмо с предложением разрешить возвращение писателя И.В. Сталину, высказавшему на это свое согласие, а 12 октября 1936 года обратился к наркому внутренних дел Н.И. Ежову и сообщил ему: «Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно, болен и неработоспособен. Тем не менее с точки зрения политической возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес. Тов. Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куприна впустить обратно на родину можно. Предполагая быть у Вас, я просил у тов. Сталина разрешения сослаться на его заключение по вопросу о возвращении Куприна. Такое разрешение мне было дано, причем тов. Сталин сказал, что и сам сообщит Вам свое мнение.
Между прочим, для меня небезразлично было выяснить, чем будет жить Куприн, если к нам вернется. Прежде всего, думается, можно было бы переиздать кое-какие его сочинения, среди которых имеются и хорошие вещи. Это дало бы ему некоторое обеспечение. Во-вторых, можно было бы использовать по линии Совкино дочь Куприна, довольно известную молодую киноактрису… Во всяком случае, однако, сам я не буду пока двигать вперед купринское дело, – в ожидании окончательного разрешения этого вопроса в Москве (Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953. М.: МФД, 1999. С. 322).
Ежов после этого обратился в Политбюро ЦК ВКП(б), которое 23 октября 1936 года приняло решение «разрешить въезд в СССР писателю А.И. Куприну» («за» проголосовали И.В. Сталин, В.М. Молотов, В.Я. Чубарь и А.А. Андреев, а воздержался К.Е. Ворошилов). Характерно, что вожди большевиков прекрасно знали о старых, контрреволюционных грехах писателя, но посчитали возможным пойти ему навстречу.
Накануне отъезда в Россию Куприн уже мало кого узнавал. Бунин отмечал в своих «Воспоминаниях»: «…Я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул, и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног…». Удивительно, но русская эмиграция почти не осуждала писателя, понимая, что он едет в СССР умирать.
В газете «Правда» от 1 июня 1937 года появилась заметка: «31 мая в Москву прибыл вернувшийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель Александр Иванович Куприн. На Белорусском вокзале А.И. Куприна встречали представители писательской общественности и советской печати». Среди встречавших был и глава Союза писателей России А.А. Фадеев.
Как сообщал секретарь Союза советских писателей В.П. Ставский 3 июня 1937 года И.В. Сталину и В.М. Молотову, «на другой день после приезда писателя А. Куприна в Москву состоялась с ним беседа у меня и Всеволода Иванова. Крайне тягостное впечатление осталось от самого А. Куприна. Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом, сильно шепелявит; при этом обращается к своей жене, которая выступает переводчиком.

Заметка в газете «Правда» о возвращении А.И. Куприна в СССР, 1937 г.
Не без труда удалось выяснить у обоих, что: "Никаких планов и намерений у нас нет. Мы ждем, что здесь нам скажут", "Денег у нас хватило только на дорогу. Сейчас сидим без денег", "Хорошо бы нам получить под Москвой или Ленинградом домик небольшой, в котором мы и жили бы, а Александр Иванович – отдохнувши и поправившись, – писал бы!
Прошу разрешения организовать А. Куприну санаторное лечение (месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом силами и средствами Литфонда СССР. Сообщаю, что Гослитиздат подготовил к изданию 2 тома произведений А. Куприна, что даст ему около сорока пяти тысяч рублей гонорара"». (Власть и художественная интеллигенция. 1917–1953. С. 377).
Куприн уже был неизлечимо болен и по совету врачей поселился с женой на подмосковной даче в Голицыно. Позднее семье была предоставлена большая квартира в Ленинграде на Лесном проспекте. В советской прессе стали появляться интервью и публикации за подписью Куприна, в том числе вызвавший большой интерес читателей очерк «Москва родная», писатель подписал с «Мосфильмом» договор об экранизации рассказов «Штабс-капитан Рыбников» и «Гамбринус», а также присутствовал однажды на военном параде на Красной площади. Однако сам Куприн уже ничего писать просто не мог. Но его согревало доброе отношение к нему в СССР и властей, и читателей, и представителей литературного мира.
Однажды летом к писателю на дачу приехали матросы-балтийцы. Куприна вынесли в кресле на лужайку, где матросы пели для него хором, подходили к нему, благодарили его и говорили, что с удовольствием читали «Поединок». Куприн долго молчал и вдруг громко заплакал…
Писатель умер 25 августа 1938 года в Ленинграде, чуть более года прожив после возвращения в СССР. В эмиграции он говорил, что умирать нужно в России, дома, словно «зверь, который уходит умирать в свою берлогу». «Чем талантливей человек, тем труднее ему без России», – утверждал он. И его последнее желание найти покой на родной земле исполнилось.
Писателя похоронили на Литературных мостках Волкова кладбища в Ленинграде почти рядом с И.С. Тургеневым. Дочь Куприна Ксения, которая в 1919–1956 годах жила во Франции, в 1958 году вернулась в СССР, работала в Театре имени А.С. Пушкина, написала книгу о Куприне «Мой отец» (М., 1971) и стала основателем дома-музея Куприна в селе Наровчат Пензенской области, открытого 8 сентября 1981 года в бывшем доме купца Шлыкова. В этом же году в селе Наровчат был открыт памятник Александру Куприну скульптора В.Г. Курдова. В 2015 году в том же Наровчате был открыт еще один памятник А.И. Куприну работы скульптора А.С. Хачатуряна. У подножия памятника установлены четыре барельефа с сюжетами из повестей писателя «Поединок» и «Суламифь», а также рассказов «Храбрые беглецы» и «Царев гость из Наровчата». В Гатчине имя Куприна было присвоено Центральной городской библиотеке, а в 1989 году там был установлен бюст-памятник писателю.
Немаловажно, что именем Куприна в России названы 21 населенный пункт, более 100 улиц, переулков и проспектов. Память о писателе живет на его Родине, и главным доказательством этого является постоянное издание произведений писателя в современной России, а также экранизации его произведений и театральные постановки по его произведениям.

Памятник А.И. Куприну работы скульптора А.С. Хачатуряна
«Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю», – так говорил один из героев писателя. Жизнь интересовала Куприна во всех ее мельчайших подробностях и самых разнообразных проявлениях, и это не могло не проявиться в его неподражаемом творчестве.
Куприн был и остается одним из крупнейших писателей-реалистов конца XIX – начала XX века. Его огромный талант, колоссальный жизненный опыт, нашедший отражение в десятках популярных произведений, его литературное мастерство со своим особым почерком стали залогом любви к писателю огромного числа читателей. Надеемся, что 155-летний юбилей со дня рождения писателя, который отмечается в 2025 году, послужит делу сохранения памяти о замечательном русском писателе, которому судьбой было определено творить в бурную эпоху войн и революций, выпавшую России в первой половине ХХ века.
* * *В настоящий сборник вошли избранные и самые яркие творения писателя: роман «Юнкера», в котором Куприн, находясь в эмиграции, описал свою незабываемую военную юность, а также ни на что не похожие и прогремевшие на всю страну повести «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1910) и «Звезда Соломона» (1917). Их отличают неожиданные сюжеты и неповторимый авторский голос. Всем любителям литературы «купринское слово» продолжает и сейчас дарить увлекательное чтение и глубину смыслов.
Кандидат исторических наук
С.Н. Дмитриев
Юнкера

И. Глазунов. Юнкер. Иллюстрация к роману А.И. Куприна «Юнкера»
Часть I
Глава I
Отец Михаил
Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.
Срок и час явки в корпус – строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчики, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»
Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а кружным путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неописуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.
Вот налево от входа в железные ворота – каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облупленное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле. Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.
Отец Михаил! Сердце Александрова вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния… Да. Вот как это было:
Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной вьющейся лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александров. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» – и тотчас же виновный отозвался бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и – без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:
– Господин капитан, это не я.
Яблукинский закричал:
– Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!
Обиженный, злой, несчастный поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым недоверием. Бог знает почему? потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается…
Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.
Издалека донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:
«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаюши щедрую руку Твою…» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.
После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.
«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я…
Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват – ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, «эта пробка», со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому – конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»
Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.
«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».
Во рту у него пересохло и гортань горела.
– Круглов! – позвал он сторожа. – Отвори. Хочу в сортир.
Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и строевая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.
– Куда, куда, куда? – беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?
Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.
– Что это такое? Что за безобразие? – закричал Ми-хин. – Сейчас же вернитесь в карцер!
– Я не пойду, – сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.
– В карцер! Немедленно в карцер! – взвизгнул Михин.
– Сссию секунду!
– Не пойду, и все тут.
– Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?
Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:
– Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!
В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Ми-хин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженых голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху донизу.
Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:
– Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься! – И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова: – А вы сию же минуту марш в карцер!
– А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, – ответил кадет, наклоняя голову, как бычок.
– Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам…
– Попробуйте, – сказал Александров, раздувая ноздри.
Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:
– Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.
– Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!
Отте начал очень спокойно:
– Милый юноша, сколько вам лет?
– А вам не все ли равно? – дерзко огрызнулся Александров. – Ну, семнадцать…
– Конечно, мне все равно, – продолжал учитель. – Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступать в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественного учреждения.
– Ну так что ж? – упрямо перебил его Александров.
– Да только и всего, – равнодушно ответил Отте. – Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.
– Моя мама. Но…
– И никакого «но», – возразил учитель. – Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет – как говорят мудрые французы.
– Ах, да что с ним церемониться? – нетерпеливо воскликнул Михин. – Дядька! Иди сюда!
Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Ми-хина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:
– Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того…
Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.
– Тише, мальчишка! – крикнул ласково и повелительно Отте. – Помолчи немножко. Господин поручик, – обратился он к Михину, – это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.
– Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, – от души сказал Александров. – Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры – управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.
Он низко поклонился Отте и сказал:
– Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.
– Ах, боже мой! – вскричал Михин, ударив себя по лбу. – У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.
Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:
– Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?
– Да, могу, могу, – тебя не запрут. Иди с богом, – замахал на него руками Отте. – Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!
Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:
– Велено не запирать на ключ. – И, помолчав немного, прибавил: – Ну и чертенок же!
Александров принял это за комплимент.
Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай – сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.
Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров, свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.
А, кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачастил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец – строевая рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты», начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» – «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.
В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю божию. И правда: с народом и с мальчиками перекручивать нельзя…
Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.
– Барчук, – сказал он (действительно, он так и сказал – барчук), – ваша маменька к вам приехали. Ждут около церкви, на паперти.
На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была – шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по какому-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».



