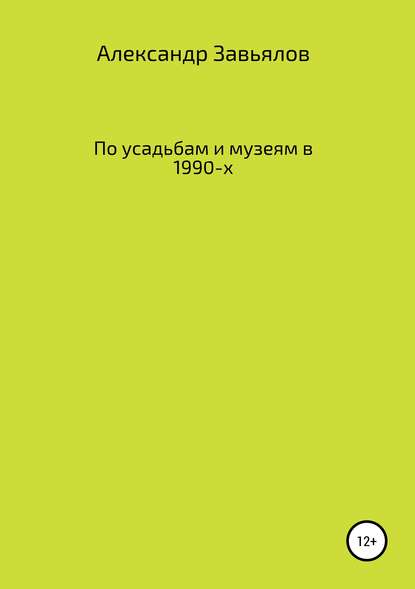 Полная версия
Полная версияПо усадьбам и музеям в 1990-х
В конце 1821 года Федор Тютчев досрочно блестяще заканчивает университет со степенью кандидата словесных наук, а летом родственник Тютчевых, граф А. К. Остерман-Толстой, посадил его, с собой в карету и увез за границу, где, как писал Иван Аксаков, «и пристроил сверхштатным чиновником к русской миссии в Мюнхене».
В 1831 году родители Тютчева продали свой великолепный особняк в Армянском переулке.
Как писал поэт Генрих Гейне, один из немецких друзей Тютчева:
«Закралась в сердце грусть – и смутно
Я вспомянул о старине -
Тогда все было так уютно
И люди жили как во сне.
А нынче мир весь как распался:
Все кверху дном, все сбилось с ног, —
Господь-Бог на небе скончался,
И в аде сатана издох». (Перевод Ф. И. Тютчева).
По-видимому, такую же грусть чувствовал тогда и поэт Федор Тютчев.
Лишь в 1844 году Федор Иванович Тютчев окончательно вернулся на родину.
Май 1996 г. Фото из архива автора.

Дом № 11 в Армянском переулке
Большая Дмитровка
Памяти дома
В июне этого года снесен еще один старинный московский домик. Он стоял на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка, дом № 10/18. Невзрачный с виду, двухэтажный, построенный после пожара 1812 года, интересен он был тем, что «видел в своих стенах весь цвет музыкальной жизни прошлого века и по праву может считаться колыбелью Московской консерватории», – так писала о нем москвовед и театровед Н. А. Шестакова, из книги которой «Прогулки по театральной Москве» (М., 1989) приведены здесь касающиеся истории этого дома факты.
В начале 1860-х годов у подпоручика А. С. Ладыженского весь второй этаж арендовал Петр Иванович Юргенсон. Он открыл в этом доме нотный магазин и нотное издательство. Профессор Московской консерватории и музыкальный критик Н. Д. Кашкин, также поселившийся здесь, вспоминал: «При магазине в то время помещалась контора только что возникшего за год перед тем Русского музыкального общества, и Н. Г. Рубинштейн ежедневно бывал там, кажется, от часу до двух… Иногда, если посетителей в конторе не было, Н. Г. Рубинштейн приходил к нам и либо только слушал, либо сам садился за какое-нибудь из фортепиано, вообще относясь сочувственно к нашим собраниям».
Здесь собирались педагоги Московской консерватории, в том числе бывал и приглашенный Н. Г. Рубинштейном П. И. Чайковский. Здесь Юргенсон, в частности, начал издавать произведения тогда еще малоизвестного композитора Чайковского. В 1863 году в этом доме побывал Рихард Вагнер, дававший тогда свои концерты в Большом театре.
Вскоре экскурсоводы о культурной жизни столицы в XIX веке будут, останавливаясь здесь, говорить, вероятно, уже ставшие привычными слова: «На этом месте стоял дом…».
Июль 1998 г. Фото из архива автора.

Братцево
По следам фаворитов императрицы
Усадьба Братцево в XVII веке принадлежала дьяку, носившему самую распространенную русскую фамилию – Иванов. Состоял этот дьяк в различных приказах – в Поместном, Казачьем и даже Сыскном, где он служил при князе Д. И. Долгорукове. Затем во владение Братцевым вступил астраханский воевода А. И. Зубов.
В 1657 году усадьба за долги была продана боярину Богдану Матвеевичу Хитрово, влиятельному государственному деятелю, ведавшему при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче делами многих приказов и Оружейной палатой. Боярин построил в Братцеве в 1672 году пятиглавую каменную церковь Покрова Божией Матери и хоромы. Церковь украсили изразцами, а колокольню – башенными часами.
После пресечения боярского рода село перешло в царскую собственность и в 1695 году было пожаловано Кириллу Алексеевичу Нарышкину – стольнику, а затем кравчему Петра, отличившемуся во время Азовских походов. Был Кирилл Нарышкин воеводой в Пскове, участвовал в строительстве Петропавловской крепости (до сих пор один из ее бастионов называется Нарышкинским), затем занимал должность первого петербургского коменданта. Но, вызвав неудовольствие Петра, получил «понижение» – в 1716 году назначили его комендантом в Москву. Ни сам Кирилл Алексеевич, ни его сын строительством в Братцеве не занимались – не до того было. Семен Кириллович, предпочитавший больше жить в Париже или Петербурге, продал в 1754 году Братцево своим сестрам, а они, в 1780 году, – племяннику Александру Сергеевичу Строганову, сыну Софьи Кирилловны Нарышкиной и барона Строганова.
Пока Александр Строганов завершал образование в Женеве и Париже и собирал коллекцию живописи в Италии, не стало матери и отца. Вернувшись на родину, он женился на невесте, выбранной ему самой императрицей Елизаветой Петровной. Но этот брак с дочерью вице-канцлера, Анной Михайловной Воронцовой, оказался неудачным. Как, впрочем, и второй, с Екатериной Петровной Трубецкой. Графиня Е. П. Строганова влюбилась в И. Н. Римского-Корсакова, очередного фаворита Екатерины II. Оставив мужа и сына, графиня уехала вслед за высланным из Петербурга экс-фаворитом в Москву. Возлюбленные обосновались в Братцеве, которое граф Строганов отдал жене, и прожили вместе до самой смерти графини, так и «не оформив» своих отношений.
«В 1780–1787гг., – как сообщается в мемориальной табличке, висящей на стене усадебного дома, – бывшие боярские хоромы были перестроены архитектором А. Н. Воронихиным в классическом стиле…». Интересно, что Воронихин, создатель Казанского собора в Петербурге, был прежде крепостным Строгановых и, как считают, побочным сыном графа.
Рядом с Покровской церковью в Братцеве лежат три могильные плиты. По-видимому, это все, что осталось от фамильного склепа. На центральной плите надпись: «Здесь покоится прах рабы Божией Софьи Федоровны Ладомирской, рожденной княжны Гагариной…». Эта женщина была женой Василия Николаевича Ладомирского – сына невенчанных супругов. В. Н. Ладомирский стал владельцем усадьбы после смерти И. Н. Римского-Корсакова.
В 1887 году к Покровской церкви пристроили придел. К тому времени владельцем Братцева становится князь Николай Сергеевич Щербатов, один из создателей Исторического музея в Москве.
В 1930 годах по инициативе академика О. Ю. Шмидта в Братцеве разместили дом отдыха.
И несколько слов о дне сегодняшнем. Сейчас в Братцеве разместились гостиница и кафе. Покровская же церковь реставрируется, а по выходным в ее приделе проводятся службы.
Проезд: от станции метро «Сходненская» троллейбусом № 70 до конечной остановки.
Сентябрь 1997 г. Фото из архива автора.

Усадебный дом
Варварка
Отчий дом Романовых
Есть в Москве на Варварке дом, сохранившийся, по счастью, при строительстве гостиницы «Россия» – дом бояр Романовых, отчий дом царя Михаила Федоровича – первого царя династии Романовых.
В XVI веке в усадьбе на Варварке жил дед царя Михаила Федоровича, Никита Романович Захарьев-Юрьев, приходившийся братом Анастасии, ставшей первой женой Ивана Грозного.
Судьба бояр при царе Иване Грозном была, как известно, переменчива. Женившись на Марии Нагой, грозный царь решил разорить своего бывшего шурина. Посланные Иваном Грозным стрельцы разграбили боярские палаты, конфисковали у боярина и все его поместья. Вынужден был Никита Романович даже послать в соседний английский торговый дом за материальной помощью. Хорошо еще, что сам жив остался.
Вообще Никита Романович ладил с соседями. Один из англичан давал уроки латинского языка его сыну Федору, будущему отцу царя Михаила Федоровича. Историк С. Ф. Платонов писал о том времени: «В особенности выдавался среди своих сородичей Никита Романович Юрьев, брат царицы Анастасии, знаменитый «земский» боярин Грозного. Его известность и популярность была такова, что он стал героем народных песен. Он был первый по времени опекуном царя Федора и до своей болезни был главным лицом во дворце».
Перед смертью царь Иван Грозный вспомнил о бывшем шурине и назначил его одним из четырех советников своему сыну Федору. Но у царя Федора тоже был шурин. И это был Борис Годунов.
После смерти царя Федора Иоановича и соборного избрания Бориса Годунова на царство бояре, убедившись постепенно, что новый царь тоже намерен править самовластно, стали выражать свое недовольство. Борис Годунов принял меры. Наследников боярина Никиты Романовича, пятерых Никитичей с их родственниками, разослали по отдаленным углам государства, а старшего, Федора Никитича, при этом еще постригли в монахи под именем Филарета. Постригли и жену его и выслали их в разные монастыри. Но до этих печальных событий уже родился в 1596 году у Романовых, сын, ставший царем Михаилом Федоровичем, и родился, по преданию, здесь, в боярских палатах на Варварке.
После ссылки бояр Романовых дом долго пустовал и разрушался. Но заканчивалось Смутное время, с избранием на престол Михаила Федоровича боярские палаты Романовых были поправлены, а после основания рядом с ними Знаменского монастыря пожалованы этому монастырю.
Палаты Романовых пострадали от пожара, и в 1674 году были разобраны до подвала и вновь возведены. Императрица Елизавета Петровна позаботилась об их возобновлении. В войну 1812 года монастырь и палаты уцелели от пожара, а в 1858 году император Александр II повелел капитально отреставрировать жилище своих предков по проекту архитектора Ф. Ф. Рихтера. После реставрации, в 1859 году, был открыт один из первых музеев Москвы – «Дом бояр Романовых».
Историк Пыляев в книге «Старая Москва» так описывает этот дом Романовых: «Древняя боярская палата была построена в четыре этажа: первый, подвальный этаж, или так называемые в древности погребье с ледником и медушею; второй, нижний этаж, или подклетье с людскою, кладовою, приспешнею и поварнею; третий, средний этаж, или житие с ceнями, девичьею, детскою, крестовою, молельной и боярскою комнатою; четвертый, где находятся вышка, опочивальня и светлица».
Сейчас в музейных палатах можно увидеть типичные интерьеры московского боярского дома XVII века, шедевры прикладного искусства, побывать в подземном археологическом музее и проникнутся духом того далекого времени.
Март 1999 г. Фото из архива автора.

Дом Романовых
Камергерский переулок
От Любимовки до МХАТа
«Практически изучив когда-то чуждое Вам дело, Вы, вместе с Вашими сотрудниками, превратили в течение нескольких месяцев вертеп разврата в изящный храм искусства», – эти слова взяты из обращения К. С. Станиславского к Савве Тимофеевичу Морозову после окончания строительства Художественного театра. А история о том, как городская усадьба превратилась в «вертеп разврата» дошла до нас благодаря историкам и театроведам.
Здесь в XV веке Романовы построили Георгиевский монастырь. В этих же местах был и двор Собакиных, известных при Иване Грозном родственников его третьей жены, был и двор Стрешневых – родственников жены царя Михаила Романова, а также и двор Милославских – родственников первой жены царя Алексея Михайловича. Здесь выращивали будущих цариц.
С середины XV века земля, на которой стоит МХАТ, была во владении князей Одоевских, древнейшего рода, происходящего от Рюрика. В этом роде не сумели вырастить царскую невесту, но в области культуры род Одоевских дал русского писателя – Владимира Федоровича Одоевского.
Князь Петр Иванович Одоевский построил на пепелище, оставшемся на месте его палат после пожара 1812 года, роскошный, по тем временам, особняк с колоннами и флигелями. В этом особняке жил и молодой князь Владимир Одоевский, внучатый племянник князя Петра Ивановича.
В середине XIX века владельцем княжеской городской усадьбы стал надворный советник Сергей Александрович Римский-Корсаков. Он затеял перестройку фасада по своему вкусу, но, вероятно, это подорвало его семейный бюджет и в 1872 году он продал усадьбу купцам Степанову и Лианозову. Они-то и пришли к мысли перестроить особняк для размещения в нем театра. Перестройку особняка осуществил тогда архитектор М. Н. Чичагов. В этом лианозовском театре начал работать в 1882 году Русский драматический театр Ф. А. Корша, здесь дебютировала Частная русская опера С. И. Мамонтова. А в 1891 году в этом доме открылось кабаре-буфф Шарля Омона – это и был по выражению Станиславского «вертеп разврата». Впрочем, мнение Станиславского поддерживали и газеты тех времен.
Как известно, историческая беседа Станиславского и Немировича-Данченко произошла в 1897 году не в «вертепе разврата», а в солидном ресторане «Славянский базар» и продолжалась на даче в Любимовке. Здесь, в подмосковном имении Алексеевых, где теперь создан мемориально-культурный центр, и дозрела окончательно идея общедоступного театра.
На следующий 1898 год, 14 июня, в Пушкине, недалеко от Любимовки, на торжественном собрании труппы перед открытием «Художественно-общедоступного театра», Станиславский в своей речи сказал: «Мы стремимся создать первый разумный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь…».
Для учреждения общедоступного театра было создано товарищество из десяти человек, включая братьев Морозовых – Савву и Сергея Тимофеевичей, а также Станиславского и Немировича-Данченко. На собранные средства арендовали театр «Эрмитаж» в Каретном ряду и в октябре 1898 года состоялся первый спектакль «Царь Федор Иоанович». (С того времени и идет отсчет истории МХАТа).
После того, как разработали новый устав Паевого товарищества, пайщиками которого стали теперь и ведущие актеры: Москвин, Качалов и др., и даже А. П. Чехов, решили искать для театра другое здание, свое. Тут-то Савва Тимофеевич обратил внимание на «вертеп разврата» и заключил с Лианозовым договор долгосрочной аренды здания для нового театра.
И вот в 1902 году Художественный театр переехал из помещения «Эрмитажа» в Каретном ряду в новое здание, перестроенное теперь по проекту архитектора Ф. О. Шехтеля, в Камергерском переулке.
Июль 1998 г. Фото из архива автора.

Театральный павильон в Любимовке
Кузьминки
«Влахернское, Мельница тож», или просто Кузьминки
«Кузьминкам как-то не повезло. Шереметевские усадьбы в Останкине и Кускове восстановлены, а Голицынская усадьба по-прежнему не поддается реставраторам. Только восстановят, допустим, двухэтажный «Домик на плотине» – разваливается «Банный павильон», начнут реставрировать «Конный двор» – рушится «Мостик у пруда». А потом кончаются предназначенные для реставрации деньги.
Конечно, Сергею Михайловичу Голицыну было проще, он же был человеком известным, богатым, и бюджет у него был не федеральный или, там, городской, а княжеский, семейный. Он и архитекторов каких хотел для работы приглашал: хоть Казакова, хоть Жилярди с Григорьевым, ну и других, самых лучших. И зарплату вовремя платил, и не только архитекторам, но и дворникам (чисто у него было всегда в усадьбе), и садовникам (сад-то усадебный доход давал), и даже врачам (была у него своя усадебная больница, да директорствовал в голицынской, основанной его дядей Дмитрием Михайловичем). Да что говорить – крепостники, эксплуататоры.
Но, что интересно, князь С. М. Голицын был при этом чуть ли не демократом – он сделал Кузьминки или, как тогда предпочитали называть, Влахернское, общедоступным местом для прогулок. И такую «красивую жизнь» князь С. М. Голицын старался устроить в течение 43 лет его владения усадьбой до 1859 года.
Другой Сергей Михайлович Голицын, племянник старого князя, получивший усадьбу в наследство после рано умершего сына князя; владел Кузьминками до 1917 года, но предпочитал жить в другой подмосковной усадьбе – Дубровицах. Поэтому Кузьминки оказались заброшенными, а это, само собой, ни к чему хорошему не привело – сгорел дворец, построенный с участием Родиона Казакова. Позднее на его фундаменте было построено другое здание.
После революции «Пропилеи» с колоннадой, памятники императрице Марии Федоровне, Николаю I и даже обелиск в честь пребывания в усадьбе Петра I были разрушены. Особая история с чугунными воротами и церковью, они пригодились и в советское время.
Петр I подарил промышленнику Григорию Дмитриевичу Строганову эти земли, изъятые у Симонова монастыря, и Строгановы заложили здесь, у мельницы, на речке Голедянке, где жил мельник Кузьма, усадьбу. А еще раньше царю Алексею Михайловичу привезли в дар от константинопольского патриарха икону Божией Матери из первого храма Богородицы, что на берегу Босфора в местечке Влахерна. Строгановым была подарена одна из копий этой иконы, сама же икона была помещена в Успенском соборе в Кремле. Для иконы Строгановы построили деревянную церковь, и село стало называться «Влахернское, мельница тож». А название «Кузьминки» утвердилось позднее и стало с годами основным.
Так вот Влахернское вместе с уральскими заводами перешло к Голицыным в качестве приданого за Анной, дочерью теперь уже барона Александра Григорьевича Строганова, на которой женился князь Михаил Михайлович Голицын. При нем вместо деревянной была построена в 1744 году каменная церковь, остатки которой использовались еще в наши годы под общежитие и автобусную станцию. И только в 1995 году, 14 сентября, отреставрированную стараниями правительства Москвы церковь освятил Патриарх. Справа от входа в церковь долго висел стенд с фотографиями посещения храма Святейшим Патриархом Алексием II и мэром Москвы Ю. М. Лужковым.
Теперь – о воротах. На въезде в усадьбу были поставлены величественные чугунные ворота, скопированные с тех, что были сооружены Росси в Павловском парке под Петербургом. Высота ворот от основания до герба Голицыных достигала до 10 метров, на их отливку ушло более 300 тонн чугуна. В годы великих пятилеток этот шедевр пошел на переплавку. Только название улицы Чугунные ворота, что идет параллельно забору парка. напоминает сейчас о той истории.
Перед усадебным парадным двором сохранились другие ворота с прекрасной чугунной оградой и тумбами со львами. За оградой обосновался в советские годы Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарии. Вход, конечно, запрещен. Пора бы ветеринаров-экспериментаторов, не имеющих средств для реставрации занимаемых зданий, перевезти в менее историческое здание, выразив им благодарность за хранение голицынского наследия по мере их небольших возможностей. Еще хуже обстоит дело с теми зданиями, из которых постояльцев выселили и никого не впустили. Эти здания обречены на разрушение.
Долго шла борьба за статус усадьбы. Но какой бы статус ни имела усадьба Кузьминки – городского парка или музея-заповедника всероссийского значения – без финансирования это ничего не значит. На дворе рыночная экономика, и хорошо бы использовать ее рычаги для сохранения этой великолепной русской усадьбы. Ростки этой самой рыночной экономики прорываются и в Кузьминках. Уже появились частные конюшни, за плату можно покататься кое-где по парку верхом на лошади, но вот «Конный двор», творение Доменико Жилярди и Афанасия Григорьева, в котором разместился бы целый табун, стоит заброшенный. Появилось небольшое открытое кафе, а рядом – голицынский двухэтажный «Домик на плотине». Сколько раз его уже реставрировали? Но он и будет разрушаться, пока нежилой. Здесь же, у плотины, стоят павильоны голицынской усадьбы, один заколочен, от другого остались только две белые колонны, которые торчат, как бивни доисторического мамонта.
Так что нужно признать, что табличка с надписью «Охраняется государством» не имеет силы, и искать порядочных и состоятельных граждан или фирмы, которые могли бы хозяйствовать лучше государства, как это делал Сергей Михайлович Голицын, первый.
Февраль 1998 г. Фото из архива автора.

Вход в усадьбу

Церковь Влахернской иконы Божией матери
Кусково
Шереметевские домики
«Земли лоскутик драгоценный – Кусково! Милый уголок,
Эдема сколок сокращенный…»
И. М. Долгоруков
Петр Борисович Шереметев, сын фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, женился в 1743 году на единственной наследнице князя Черкасского, дочери Варваре Алексеевне, и стал одним из богатейших помещиков России, присоединив к своему селу Кусково село Вешняково и другие владения, полученные в приданое.
Прежде здесь, в Кускове, был усадебный дом и постройки. Стояла и небольшая Спасская церковь, построенная в 1737–1739 годах. В Вешнякове была Успенская церковь, шатровая, 1640-х годов постройки. И церкви эти должны были вписаться в будущий архитектурный ансамбль.
Местность в Кускове была низкая, заболоченная и граф начал создание новой усадьбы с расчистки и осушения леса. Граф также требует «богадельню и другое строение, которое занимает вид на перспективу, оное все сломать и доставить в пристойное место».
Существовавший здесь пруд увеличивают в несколько раз, а в сторону шатровой Успенской церкви в Вешняках прорывают канал. Вдоль этой оси, обозначенной каналом, располагаются некоторые постройки усадьбы.
Голландский домик возведен над маленьким прудиком, соединенным в свою очередь, каналом с большим прудом. В нижнем этаже домика была голландская кухня с очагом-горном и облицованными изразцами стенами, на втором этаже – гостиная и собрание картин голландских художников.
Итальянский домик был выстроен под руководством архитектора Ю. И. Кологривова. В нем все должно было напоминать Италию – картины, скульптура, мебель.
Грот, построенный по проекту крепостного архитектора Федора Аргунова, изображал чертог морского царя. Окна оплетены, как водорослями, коваными решетками, залы грота декорированы морскими раковинами. Оформлением интерьеров в годах занимались Иоганн Фохт и Михаил Зимин. В этом гроте был накрыт стол во время знаменательного события – посещения усадьбы Кусково Екатериной II.
Сооружение Большой каменной оранжереи осуществлял Ф. С. Аргунов, а Эрмитаж построен под руководством архитектора К. И. Бланка. На второй этаж в Эрмитаже стол для гостей поднимался снизу уже сервированный. Гостей тоже поднимали в специальном кресле, расположенном в башне ротонды.
Кусковский дворец был сооружен в 1769–1775 годах под руководством К. И. Бланка по проекту Шарля де Вайи.
Многие архитекторы, скульпторы, художники, садовники работали в Кускове. Далеко не все строения и «затеи» сохранились до нашего времени и не закончилась еще реставрация.
«В Кускове помимо постоянного театра существовала еще воздушная сцена в саду из липовых шпалер с большим амфитеатром… Летом, в праздники, представления переносились на «воздушный театр», помещавшийся под открытым небом в Большом саду, между итальянским домом и деревянным бельведером».
От Воздушного театра, созданного из постриженных «живых» садовых кустов и деревьев, в котором выступала, конечно, и Прасковья Жемчугова, осталась только земляная основа.
«В саду Кускова, – как описывал далее историк Пыляев, – было 17 прудов, карусели, гондолы, руины, китайские и итальянские домики, китайская башня наподобие нанкинской, с колоколами, – граф называл ее голубятней, каскады, водопады, фонтаны, маяки, гроты, подъемные мосты». Множество людей бывало в этом саду – граф славился своим гостеприимством, «это был образец екатерининского вельможи-богача», недаром его единогласно выбрали губернским предводителем дворянства.
В 1792–1793 годах в усадьбе Кусково была завершена по проекту архитекторов А. Ф. Миронова и Г. Е. Дикушина постройка колокольни с высоким шпилем около усадебной церкви.
Николай Петрович Шереметев, сын и наследник Петра Борисовича Шереметева, устроил тогда большой праздник. Сотни карет, тысячи пеших гостей собрались в усадьбе. Сиял свечами бело-золотой зеркальный танцевальный зал, сверкали фейерверки, горели факелы на прогулочных лодках. В планах же графа Н. П. Шереметева вырисовывалась и другая известная нам усадьба – великолепное Останкино.
В Кусково лучше приезжать в солнечный день – рельефнее смотрятся архитектурные украшения и статуи, ярче цветы и небо.
Сентябрь 1998 г. Фото из архива автора.

Итальянский домик

Грот

Усадебная церковь и колокольня



