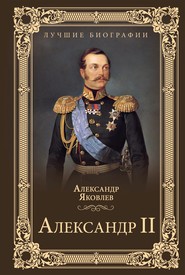
Полная версия:
Александр II
– …поляки, литовцы, прибалтийские немцы, финляндцы и другие племена по вере, языку, историческим преданиям, характеру и обычаям совершенно различествуют друг от друга и от русского народа, – четко излагал Арсеньев. – Но все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собой, что составляют одно целое.
– А чем все это держится? – спросил Николай Павлович, шагнув к ним. Спросил привычно громко и внушительно, но губы кривила улыбка. Государь был в хорошем настроении.
– Самодержавием и законами, – заученно ответил наследник.
– Законами? Нет, – веско ответствовал Николай Павлович. – Самодержавием – и вот чем, вот чем, вот чем! – сильно махая сжатым кулаком при каждом повторении этих слов. Бросил еще взгляд на замерших учителя и ученика и вышел.
Глава 3. Зимний дворец
Зимний дворец, увиденный впервые, поражает своим великолепием. В нем слиты громадность объемов, красота формы и та естественность, полная вписанность в окружающую обстановку, которые присущи подлинно великим творениям. С декабря 1825 года дворец стал местом жительства Николая Павловича и его семьи. Им там нравилось, хотя поначалу Александра Федоровна жалела об уюте Аничкова дворца.
Стоявший неподалеку Мраморный дворец оставался в распоряжении великого князя Константина Павловича, но большей частью пустовал. Михаил Павлович в том же 1825 году построил себе Михайловский дворец, вызвавший общее восхищение. Все, правда, понимали, что подлинной вдохновительницей поразительной по гармонии постройки Карла Росси была великая княгиня Елена Павловна.
То были разные миры в рамках одной императорской фамилии Романовых. Дороже и ближе всех взрослеющему наследнику был мир отца и матери.
После рокового декабря и от частых родов матушка часто болела. Она закрывалась в спальне с верной баронессой Фредерикс, пруссачкой, подругой детских лет, а молодые фрейлины сменяли одна другую на дежурстве. Дети посещали ее по утрам и перед сном. Николай Павлович в такие дни заходил часто, проверял, как готовит сиделка питье, вовремя ли подает, а то и сам проводил ночи у ее постели (в этом нет ничего удивительного, позднее он так же часы проводил у больного графа А.X. Бенкендорфа).
Чуть только лейб-медик Н.Ф. Аренд объявлял, что дело идет на поправку, с тем же пылом и настойчивостью Николай Павлович увлекал жену в вихрь приемов, смотров, поездок, прогулок, балов. Александра Федоровна, право, любила все это.
Она, а не государь, соединяла большую семью, неосознанно следуя примеру свекрови. Ежедневно ко времени утреннего кофе между девятью и десятью часами по коридорам Зимнего к ней спешили дети, большие и малые с воспитателями и воспитательницами: Саша, Мария, Ольга, Александра, малыш Костя и совсем маленькие Коля и Миша. Рассаживались в маленькой угловой столовой. Посторонних не было, и потому не пыжились, говорили свободно, шутили, жаловались и обижались.
Николай Павлович почти всегда посещал эти утренние собрания. День его начинался рано. В девятом часу, после гулянья, пил кофе, а в десятом его твердый шаг слышался в покоях царицы. Оттуда он шел заниматься делами. В первом часу вновь навещал ее, играл с детьми, после чего гулял. В четвертом часу кушал, в шесть вновь гулял, в семь пил чай с семьей. Одет бывал попросту – в сюртуке без эполет.
«Боже, какой у вас утомленный вид!» – восклицала Александра Федоровна. «Страшно много дел», – отвечал он. После чая еще два часа отводилось на занятия, в десятом часу ужинал, вновь гулял и около полуночи ложился почивать. Из распорядка дня императора видно, что семье он отводил немало времени, но и гулянью тоже.
Царь любил музыку, имел необыкновенную музыкальную память и верный слух. В домашних концертах играл на трубе (корнете-а-пистон). Для полноты портрета добавим, что он всю жизнь был страстным поклонником театра и в молодые годы сам играл во французских комедиях на половине великой княгини Анны Павловны.
В воспоминаниях мануфактур-советника Рыбникова описывается обед, данный государем группе московских купцов в Зимнем дворце 13 мая 1833 года. Выведя к гостям шестилетнего сына Костю и взяв его за головушку, император сказал ему: «Кланяйся, кланяйся ниже! Ну, а теперь – ты ведь адмирал – полезай на мачту!» – и маленький адмирал российского флота полез на высокого и стройного отца и уселся у него на плече. «Ну, видите! – весело сказал государь собравшимся. – Адмирал у меня исправный!»
Саша был уверен, что отец ничего не боится. Осенью 1830 года страшная холера-морбус пришла в Россию из Бухары и Хивы через Оренбург. Эпидемия охватила все центральные губернии, Москву, а на следующий год вспыхнула в Петербурге. Число умерших доходило до шестисот за день. Умерли цесаревич Константин и фельдмаршал Дибич, сотни и тысячи знатных и незнатных людей. В церквах молились о спасении земли русской, но простой народ охотнее посещал кабаки. Люди образованные опрыскивали дома свои хлором, запасались дегтем и уксусом. Начальство призывало к порядку и обдумывало мероприятия по борьбе с холерой. Главное средство видели в установлении карантинов.
Осенью 1830 года Николай Павлович съездил в зараженную Москву и посетил холерные бараки. На обратном пути, чтобы показать свое уважение к правилам, он одиннадцать дней просидел в карантине в компании графа Бенкендорфа.
В июне 1831 года мрачные дроги с жертвами болезни бесконечной чередой потянулись по улицам столицы. Страх был велик. Простой народ чувствовал себя брошенным и беззащитным перед безжалостной и невидимой угрозой. Прошел слух, что сами лекари губят людей, что зловредные очкастые немцы нарочно распускают заразу. Этому сразу верилось. Одни кричали, другие охали, а третьи поймали двоих в очках и прибили. Стали громить госпитали.
22 июня на Сенной площади собралась пятитысячная толпа. Назревал бунт. Узнав об этом, император устремился из Царского Села, где укрывалась семья, в Петербург. Отмахнувшись от предостережений адъютантов, он смело пошел в середину возмущенной толпы. Высокая фигура его казалась еще выше в море серых, синих, коричневых кафтанов, невольно пригибавшихся.
– Что вы это делаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара Божия! – вскричал император. – На колени, глупцы! Молитесь Богу! Я вас!..
И огромная коленопреклоненная толпа с обнаженными головами покорилась успокоительной ругани государя.
От разных людей с прибавлением несовпадающих подробностей слышал Саша эту историю. Как было не восхищаться отцом!
О, это был могучий воспитатель – Зимний дворец. От юного наследника скрывали многое, но все скрыть было невозможно. Саша мучился, сознавая, что чистый и ясный мир Василия Андреевича все более тускнеет и отходит вдаль, теснимый миром дворца, в котором все было внешне прилично, а внутри добро и зло безнадежно перепутались.
Он по-прежнему любил отца. Но как-то вдруг пропало то почтительное уважение перед государем императором, которое он ощутил в давнюю декабрьскую ночь. Он вроде бы ничего особенного и не узнал, но там – слово-другое, там – лукавые улыбки, где-то злобно-завистливый взгляд и внешнее равнодушие матери, и он догадался, что любимый батюшка вовсе не верен матери.
Юный Саша не мог знать всего, но он многое чувствовал. Сластолюбие Николая Павловича до поры до времени оскорбляло его мальчишеское целомудрие. Он презирал мадемуазель Вареньку Нелидову и всех матушкиных фрейлин, миловидных, кокетливых, самоуверенных, вкрадчиво-любезных с ним и открыто влюбленных в отца, одна – так просто при каждом появлении Николая Павловича падала в обморок. «Они – куклы», – говорил он себе. Но какие прелестные куклы… Он отворачивался, когда случалось проходить мимо лестницы, ведущей во фрейлинский коридор, обращенный на Александровскую площадь. Но запомнилось, что в лестнице той 80 ступенек. Для него это было запретное место.
В столице похождения государя были одной из любимых тем. Публика заинтересованно обсуждала избранниц, полагая сие законным правом царским. Тем большее удивление вызвало известие о стойкости какой-то актриски Александрийского театра Варвары Анненковой. Отказать государю, служа в императорском театре, казалось делом непостижимым. Публика ее не осудила, но и не одобрила.
С изумлением и разочарованием записывал в дневник двадцатилетний Александр Васильевич Никитенко, недавний крепостной, а ныне преподаватель университета, один из летописцев николаевской и александровской эпох, свое впечатление о высшем свете: это «сущие автоматы. Кажется, будто у них совсем нет души. Они живут, мыслят и чувствуют, не сносясь ни с сердцем, ни с умом, ни с долгом, налагаемым на них званием человека. Вся жизнь их укладывается в рамки светского приличия. Главное правило у них: не быть смешным. А не быть смешным, значит, рабски следовать моде в словах, суждениях, действиях так же точно, как и в покрое платья… И под всем этим таятся самые грубые страсти».
Светское общество усиленно занималось сплетнями. Женщины следовали последней французской моде, по которой прическа представляла собою нечто вроде перевернутой вазы: уложенная на затылке коса и локоны (большей частью из чужих волос), прикрывающие уши. Талию сильно стягивали корсетом, что было вредно для здоровья, но кто бы осмелился появиться иначе на людях. Сильно занимали умы награды и продвижения по службе, вот уже несколько лет как не шло из умов щедрое пожалование генералу Паскевичу – миллион рублей и титул графа Эриванского.
На новогодней елке для своих в Зимнем дворце устроили лотерею. В Георгиевском зале на большом столе были выставлены фарфоровые и хрустальные изделия императорских заводов. Под каждым чайным или кофейным сервизом, вазой или зеркалом лежал билетик с номером. Такие же билетики государь всем раздавал при входе. Стоя у стола, он вынимал из-под вещей билетик и выкликал номер. Выигравшие подходили и получали приз. Собственно, проигравших не было.
Каждый год 1 января дворец открывался для всех желающих, то был «бал с народом». Полиция регулировала вход, впуская не более сорока тысяч человек. Но все, сильно желавшие увидать государя, имели такую возможность. Под руку с императрицей он обходил залы, раскланиваясь на обе стороны и беспрестанно повторяя: «Позвольте пройти», – и толпа расступалась.
В Гербовый зал, где вдовствующая императрица играла в карты с министрами, мужиков пускали по десятку человек, и они бочком проходили, шарахаясь от многочисленных зеркал и высокомерных лакеев. Правда, с удовольствием получали от лакеев чашки с чаем, в который те сами накладывали сахар и размешивали. Ложечки народу на всякий случай не давали. Кстати сказать, фрейлины, статс-дамы и камер-фрау надевали на этот вечер фальшивые драгоценности, поэтому в их кругу бал имел название «бал фальшивых камней».
Много толков вызвал новый балет «Бунт в серале», в котором будто бы сам государь ставил один танец. В чиновном мире большое волнение вызвало постановление об отмене ежегодных денежных наград, служивших важным дополнением к невеликому чиновничьему жалованью. Пушкин выпустил вторым изданием «Повести Белкина», а Крылов опубликовал три новые басни, довольно слабые, но принесшие ему 500 рублей, необходимые для покупки кареты. Митрополит Филарет оскорбился на Пушкина за стих в «Онегине», где он, описывая Москву, говорит: «и стая галок на крестах». Митрополит пожаловался начальнику III Отделения С.Е.И.В. канцелярии графу А.X. Бенкендорфу на оскорбление святыни. Призванный к ответу цензор отвечал, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но виноват в том московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор». Бенкендорф учтиво ответил московскому митрополиту, что такое дело слишком незначительно для участия столь высокой духовной особы.
В ясный мартовский день 1836 года двое великих князей гуляли на Дворцовой набережной. Михаилу Николаевичу было четыре года, братцу Николаю Николаевичу – пять. Побегав и накидавшись вволю снежками, которые на диво хорошо лепились из влажного синего снега, царские детки собрались домой, но увидели, как с другого берега Невы на лед соскочил высокий красивый кучер в черном полушубке и сдвинутой на затылок барашковой шапке. Только дошел он до середины реки, как лед проломился с громким хрустом. Хлюпнула вода, и прильнувшие к парапету люди увидели, как исчез в полынье черный полушубок. Охнули все, но тут мужик без шапки показался у края полыньи. Он пытался и не мог вылезти. Великие князья уговорили каких-то мужиков, боявшихся отойти от своих саней, спасти утопающего. Вскорости мокрый и дрожащий от холода он очутился на набережной. Тут же подступилась к нему полиция: а знал ли о запрете ходить по Неве? а не посидеть ли тебе, милый человек, на съезжей? Михаил и Николай попробовали прикрикнуть на полицейских, но те не слушали. Едва-едва их лакеи заставили полицейских отступить. Парня отпустили, он упал в ноги своим маленьким избавителям.
В апреле 1836 года много шума вызвала комедия Гоголя «Ревизор». Не все знали, что за выпуск ее хлопотали Жуковский и граф Виельгорский. Последний читал комедию в Зимнем дворце. Читал прекрасно. Рассказы Добчинского и Бобчинского весьма насмешили государя и решили судьбу гоголевского творения.
Комедию давали беспрестанно, почти через день. Передавали, что Николай Павлович на первом представлении хлопал и много смеялся. На третьем представлении была императрица с наследником и великими княжнами. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Он сказал якобы: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» Министр финансов Е.Ф. Канкрин добросовестно отсидел час в креслах и сказал только: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу?»
Вскоре после того великий князь случайно услышал, как самая насмешливая из матушкиных фрейлин, Россет, обозвала его Бобчинским за будто бы косолапую походку бочком. Он уже научился не обижаться. Дал себе урок: выучиться ходить, как батюшка, величественно и грозно.
С походкой не очень ладилось, он все спешил. Вот в танцах, по отзыву верного Паткуля, слышавшего не от одной дамы, «никто так ловко и красиво не танцевал, как наследник». Саша поверил, что это не выдумка, не лесть, и был страшно доволен.
29 января 1837 года наследнику передали записку. Волнуясь, он прочитал: «Пушкина нет на свете. В два часа и три четверти пополудни он кончил жизнь тихо, без страдания, точно угаснул. Жуковский».
К Пушкину отношение в царской семье было разное. Матушка его любила за остроумие, за талант, читала, но больше привечала его красавицу жену. Батюшка высоко чтил как поэта, но считал пагубными его либеральные увлечения. Младшие братья и сестры заучивали его стихи и сказки, постоянно слышали о нем от Жуковского и Плетнева, и для них Пушкин был личностью необыкновенной.
Александр не раз видел Пушкина на дворцовых балах, и поначалу никак не мог поверить, что маленький высокомерный и любезный живчик есть автор Руслана, Полтавы, Онегина. В то же время поэт казался ему очень чуждым, лишенным той светской легкости, которая была во всех сочинителях – графе Соллогубе, том же Василии Андреевиче.
Историю с анонимными письмами и последующую несчастную дуэль обсуждали не раз за вечерними чаепитиями. Матушка держала сторону Дантеса, которому давно покровительствовала, он был в ее кавалергардском полку. Некоторые фрейлины в угоду ей открыто смеялись над «страшным уродом», бешено и беспричинно ревновавшим свою ангельской красоты жену. Батюшка видел во всем прежде всего дело чести. Он приказал Бенкендорфу разыскать авторов оскорбительных анонимных писем, но и не одобрил Пушкина за резкость.
Записку Жуковского он спрятал в письменный стол. Накинул шинель и, выйдя из Салтыковского подъезда, отправился на набережную Мойки. Подняв воротник, чтобы не быть узнанным, он прошел мимо дома, где умер поэт, мимо молчащей толпы. Тихо похрустывал снег под ногами. Александр встал было за каким-то господином в хвост желающих поклониться покойному, но вдруг, испугавшись чего-то, ушел.
Знаменательным пророчеством царствованию Николая Павловича стал пожар в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года.
Огонь показался в шесть вечера в аптеке, но его притушили. От государя это скрыли, и он с женой, братом, с детьми Сашей и Марией поехал смотреть новую постановку балета «Баядерка» с несравненной Тальони.
Великие княжны Ольга и Александра играли в карты в маленькой гостиной. Часу в девятом вечера двенадцатилетняя Александра случайно глянула в окно и увидела, что на двор вырываются языки пламени.
– Мы горим! – закричала девочка.
– Это ничего, ваше высочество, – успокоительно сказал призванный камердинер. – Это, изволите знать, из трубы выкинуло. Не тревожьтесь.
И великие княжны спокойно легли спать.
Под их покоями в кардегардии заступивший в караул поручик Мирбах вечером также забеспокоился.
– Что за дым? – спросил он.
– Даст Бог, ничего, – отвечал старик лакей. – Два дня, как лопнула труба у печки. Мы, стало быть, заткнули мочалкою и замазали глиной. Раз уж загоралось, да мы потушили. Ничего…
Всерьез забеспокоились во дворце, когда дым повалил неизвестно откуда густыми серыми клубами. Дежурный ординарец был послан в театр с донесением о дыме и заверением, что ничего страшного нет.
Но какой уж тут балет! Николай Павлович с Александром направился домой и с полпути просил брата Михаила встретить императрицу и просить ее ехать в Аничков.
Взбежав по парадной лестнице, император обнаружил растерянных донельзя придворных, испуганных фрейлин и решительных гвардейцев, не знавших, что делать.
Совещались в Фельдмаршальском зале. Граф Бенкендорф указывал, что дым идет с чердака. Туда отправился верный Адлерберг с солдатами, но вскоре принужден был вернуться – уже на лестнице дым был столь густ и тяжел, что невозможно было дышать.
– Окна! – звонким тенорком скомандовал государь. – Разбить окна!
Расчет был на то, что порыв воздуха продует залы, вышло же иное. Источник пожара, получив такое усиление, разошелся вовсю, и вскоре страшные, высокие языки пламени поползли по стенам. Дым, однако же, уменьшился.
Государь, как был в Преображенском мундире с забытым биноклем в руке, прошел через горящие Фельдмаршальский, Петровский, Белый залы. Достигнув покоев, не затронутых пожаром, он велел вызванным преображенцам и павловцам выносить мебель и вещи и складывать во дворе. Адъютантов послал проверить, разбудили ли всех на половине императрицы. Вдруг сама она появилась. На уговоры Михаила Павловича, встретившего ее на Большой Морской, Александра Федоровна ответила вопросом:
– Где дети?
– Сейчас их привезут в Аничков.
– Мое место там, где они!
Меж тем серый тяжелый дым потянулся уже по всем залам, кабинетам и коридорам.
– Ваше величество, – доложил ординарец, – еще пожар!
– Где?
– На Васильевском, ваше величество.
Заведено было, что государь ездил на большие пожары. Николай оглянулся на наследника, и тот сразу откликнулся:
– Позвольте, батюшка, я съезжу туда!
– Давай! Мы тут сами справимся.
Солдаты, грохоча сапогами по драгоценному наборному паркету, выносили диваны, столики, комоды, кресла, тащили в охапку шторы и гардины, длинные рулоны драгоценных шпалер, шкатулки, вазы, часы, в узлах звякали драгоценные столовые приборы, в корзинах тонко позванивал хрусталь.
– Всех ли разбудили? – беспокоилась Александра Федоровна. – А Кутузову не забыли? Она, бедная, болеет, могла и не услышать.
Девица Кутузова, конечно, мирно спала, стука в дверь и топота по фрейлинскому коридору не услыхала, приняв сильное успокоительное. Разбудили и вывезли. Отправив детей, императрица оставалась во дворце, пока Николай Павлович попросту ее не выгнал. И уж тогда, обойдя комнаты и залы, попрощавшись с былым, она покинула Зимний и перешла в здание министерства иностранных дел напротив.
Алексей Федорович Орлов позднее вспоминал, что император обратил особое внимание на Эрмитаж, где были собраны коллекции живописи. «Его потеря была бы для нас истинным народным трауром. Распоряжениям Государя мы обязаны спасению Эрмитажа», – считал Орлов.
Вскоре стало ясно, что огня не потушить, слишком много источников его обнаружилось. Горело все. Главной задачей стало спасение людей и вещей – насколько возможно.
Из Фельдмаршальского зала преображенцы вынесли все знамена и портреты и побежали в галерею героев 1812 года. Солдатам было приказано выносить вещи на площадь, так и делали, складывая их в кучи у Адмиралтейства и у здания министерств. А портреты героев Отечественной войны были составлены у Александрийского столпа и прикрыты солдатскими обгорелыми шинелями. Портреты императорской семьи из Романовской галереи отнесли в здание министерств.
К одиннадцати вечера опасность возросла. Фельдмаршальская зала сгорела дотла, обрушились Белый и Георгиевский залы.
– Государь, – спросил Орлов, – не нужно ли вынести бумаги из кабинета? Позже мы туда не сможем подняться.
– У меня там нет бумаг! – отвечал Николай Павлович. – Я оканчиваю свою работу изо дня в день, и повеления тут же передаю министрам. Остаются только три портфеля с дорогими моему сердцу воспоминаниями… Принеси их, а я пойду посмотрю, как там у императрицы.
Эта часть дворца была уже пуста. Николай прошел в спальню, намереваясь взять бриллианты жены. Он нашел ящик комода открытым и пустым. Удивился, но промолчал.
Сначала огонь взялся за сторону дворца, обращенную к набережной, а разгулявшись там, пламя, усиливаемое ветром от проломленной крыши и выбитых окон, перебросилось на другую сторону. В мгновение там и здесь осветились темные окна, выходившие на Дворцовую площадь, и вскоре вся громада дворца превратилась в громадный костер.
Надо было спасать Эрмитаж, надо было преградить огню доступ. Разрушили крышу галереи, соединявшей его с главным зданием, но это только усугубило положение. Михаил предложил заложить все окна и арки кирпичами.
– Делай!
В одной зале государь увидел толпу гвардейских егерей, силившихся оторвать вделанное в стену громадное зеркало. Вокруг все пылало.
– Ребята! – скомандовал царь. – Бросайте вы это!
– Ниче-е… – раздалось в ответ. – Тяни, тяни!.. Потихоньку…
– Бросай, кому говорю! – рявкнул Николай, но его будто не слышали.
– Как можно бросать, государь, – попросту обратился к нему седоусый унтер, утирая черный пот со лба. – Все, что можно, вытащим!
Тогда Николай, вспомнив о бинокле, бросил его в зеркало.
Огромная зеркальная стена тонко звякнула и рассыпалась на кусочки.
– Ребята! – давясь дымом, сказал Николай Павлович, не зная, от дыма ли или от чего другого слезы текут по его щекам. – Ваша жизнь для меня дороже зеркала! Расходитесь!
Примеры такого рода были не единичны. Из Большой дворцовой церкви в дыму и пламени солдаты выносили иконы, вопреки приказу. С самой вершины иконостаса сняли горящий образ Спасителя.
Около трех утра государь оставил дворец и перешел в Эрмитаж. Пламя полностью овладело Зимним. Дворец уже полностью превратился в сплошное огненное море. Клубы черного дыма тянулись лениво вокруг стен, снопы искр падали на ближние здания.
За цепью полков, окружавших Зимний, в безмолвии стоял народ, завороженный небывалым зрелищем.
По повелению государя провели проверку среди солдат. Немало обнаружилось обгоревших и угоревших в дыму, но все оказались живы. Стоит вспомнить, что за два года до того на Адмиралтейской площади на Масленицу случился пожар в балагане. Там из-за паники и растерянности погибли две сотни людей.
К утру усилился мороз. Рассвет наступал великолепный. Солнце ярко блистало, но стоило повернуться к Зимнему, и дневное светило меркло рядом с пучиной огня, бушевавшей в царских покоях. Пылали все четыре этажа. Снопы пламени и клубы дыма вырывались из крыши. На подъезде вдовствующей императрицы обрушились мраморные украшения. Пламя утихло к вечеру 18 декабря.
По Невскому валом валил народ поглазеть. Толпились ближе к площади, смотрели во все глаза, с жадностью слушали слова знающих людей, что вот теперь горит половина государя, его кабинет…
Толпа расступалась перед санями государя. Он очень приветливо кланялся, был бледен, но спокоен. «Мне показалось, что физиономия его была менее сурова, чем обыкновенно», – несколько непочтительно заметил Никитенко, увидевший в тот день царя на Дворцовой площади.
– Ничего, – слышал Николай Павлович из толпы успокоительные возгласы. – Бог дал, Бог взял…
Примечательно, что мебель, вещи, столовое серебро и золото были сложены и просто свалены в кучу на площади, и за полные сутки ничего не пропало. Правда, один гвардейский солдат утащил было массивный серебряный кофейник, но на следующий день был схвачен: ни один торговец в городе не захотел взять вещь с императорским гербом. Золотой браслет, оброненный императрицей ночью на площади, поутру был найден в луже растаявшего снега. Да и бриллианты ее, как оказалось, были взяты ее камер-фрау госпожой Рорбек.

