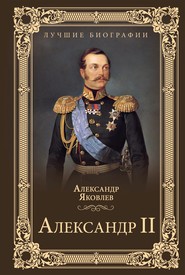
Полная версия:
Александр II
День был сумрачный. Тяжелое серое небо сеяло снегом с дождем. Карету еще не переставили на полозья, и потому она часто проваливалась в рытвины. В карете было тесно. Сестры капризничали, фрейлины их успокаивали. На него никто не смотрел.
Брызги снега и грязи залепили окошки, и были плохо видны в утренних сумерках знакомые здания на Невском. Саша потрогал большой холодный орден и решил, что, когда станет царем, будет ездить в карете только один.
Николай Павлович 14 декабря поднялся еще затемно. «Нынче или я буду государь, или мертв», – сказал он себе. Мысль о возможности смертельного исхода не покидала его последние дни. Из головы не шли рассказы о гибели Людовика XVI с Марией Антуанеттой и цвета французской аристократии от рук парижской черни. Еще страшнее были глухие толки об убийстве отца руками его же слуг… Этой ночью он молился с плачущей женой, а после сказал ей: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется, умереть, – умереть с честью». Он был готов ко всему.
И все же огромная внутренняя сила этого человека заставила его собраться и вступить в борьбу.
В шестом часу утра во дворец прибыли все генералы и полковые командиры гвардии. Объяснив им, почему после присяги, принесенной ранее Константину Павловичу, он ныне вынужден покориться его воле и принять престол, к которому после отречения брата является ближайшим в роду, сам прочитал им духовную покойного императора Александра Павловича и полученный из Варшавы акт отречения Константина.
Генералы и полковники слушали в угрюмом молчании. На вопрос нового государя, можно ли быть уверенным в их преданности и готовности жертвовать собой, отвечали утвердительно. Николай приказал им ехать по своим полкам и привести полки к присяге.
Несмотря на пугающие слухи, генерал-губернатор граф Милорадович в полной парадной форме и голубой ленте перед присягой утром заехал к своей милой Катеньке Телешовой, двадцатилетней балерине Александрийского театра. Вскорости прискакал вестовой, соскочил с лошади и, гремя шпорами, побежал по лестнице в квартиру Телешовой. Через несколько минут сам граф сбежал вниз, и карета в четверке помчалась по Невскому.
Милорадовича любили солдаты и отмечало начальство. Смелость его была легендарной. Из всех войн он выходил без ранений, с орденами. Ему исполнилось пятьдесят четыре года, но он был полон сил и энергии.
Еще поутру пребывал в уверенности, что не бунт в столице, а дурь головы некоторые замутила.
Рано утром скороходы и курьеры обегали весь центр столицы. От двора было повелено всем, имеющим право на приезд, собраться в Зимнем дворце к 11 часам утра. В тот же час Синод и Сенат должны были собраться у себя для принесения присяги. Так было объявлено вчера, и, узнав об этом от Оболенского, на это рассчитывали заговорщики. Но члены Сената и Синода принесли присягу много раньше, в 7 утра.
Николай не мог сидеть на одном месте. Он переходил из комнат в залы, жадно бросался к приехавшим за новостями.
Примчался Милорадович, две недели назад противившийся признанию его законным государем, и уверял в полном спокойствии столицы. Командир конной гвардии генерал-майор А.Ф. Орлов доложил, что полк присягу принял. И.О. Сухозанет сообщил, что артиллерия присягнула, но в гвардейской конной артиллерии офицеры выказали сомнение в законности присяги Николаю, желая слышать удостоверение от великого князя Михаила, известного дружбой с Константином и потому будто бы удаленного из Петербурга. Нескольких «протестантов» Сухозанет был вынужден арестовать. По счастию, послышался голос брата, и Михаил Павлович показался на пороге кабинета. Он с готовностью отправился для приведения заблудших в порядок.
Все это были огорчительные неприятности, не более. Николай ждал известий о заговоре, и вскоре они поступили.
– Государь! – воскликнул с порога генерал-майор Нейгардт, начальник штаба гвардейского корпуса. – Московский полк в полном восстании! Мятежники идут к Сенату! Я их едва обогнал, чтобы донести вам об этом. Прикажите, пожалуйста, двинуться против них первому батальону Преображенского полка.
– Так… – наклонил голову Николай. Не миновала его чаша сия. – Пусть седлают конную гвардию. Дворец пока не покидать!
В кабинет вошла Александра Федоровна.
– Никс! – протянула к нему руки, – У меня сердце не на месте. Я боюсь за тебя! За детей! Вдруг они ворвутся сюда…
– Кавелин! – крикнул он адъютанту. – Приготовь у Эрмитажного подъезда те три кареты. И возьми у Орлова эскадрон!..
Простившись с женой, Николай отправился на Сенатскую площадь. Им двигало желание поскорее так или иначе развязать завязавшийся узел. На площади уже стоял батальон преображенцев. Конные кавалергарды, шесть эскадронов, обогнув строящийся Исаакиевский собор, размещались перед домом князя Лобанова-Ростовского. Здесь же собрался дипломатический корпус.
По воспоминаниям очевидцев, Николай был чрезвычайно бледен, по виду то решителен и грозен, то растерян в высшей степени. В одном мундире с голубой лентой он ехал верхом перед батальоном преображенцев от Дворцовой площади к Сенатской – рядом была дюжина генералов, но вдруг стало ясно, что никто из них не решается взять в свои руки подавление мятежа.
– Дело идет дурно, государь! – сказал вышедший из кареты Милорадович. – Мятежники не хотят уходить с площади, но я пойду уговорю солдат.
– Вразумите их, граф! – отвечал Николай. – Скажите, что их обманывают! Вам они поверят.
Милорадович в объезд, через Синий мост, по Мойке, Поцелуев мост добрался до конной гвардии, ставшей между зданием Адмиралтейства и мятежниками.
– Поедем вместе их уговорим! – предложил он Алексею Орлову.
– Я только что оттуда, – отвечал тот, – и советую вам, граф, не ходить туда. Мой полк скоро будет готов.
– Нет! – запальчиво вскричал Милорадович. – Я не хочу вашего г… полка! Да и не хочу, чтобы этот день был запятнан кровью!
Он взял лошадь адъютанта Орлова. Ряды конногвардейцев разомкнулись, и Милорадович выехал на площадь, с которой его через полчаса увезут смертельно раненным.
В полдень Николай послал Адлерберга к князю Долгорукому, обершталмейстеру императорского двора, а проще говоря – главному конюшему, с приказанием приготовить выезд императрицы-матери и жены с детьми в Царское Село.
Сам же, положась на волю Божию, выехал на Сенатскую площадь, дабы рассмотреть положение мятежников, и был встречен выстрелами. Николай никогда ранее не бывал в бою, но этот свой первый бой он должен был выиграть. Пока же он отступил.
Центр Петербурга опустел. Везде ворота были заперты, магазины закрыты, и только одни дворники изредка выходили из калиток узнать, что делается на улице. Тишина, самая печальная и самая тревожащая, царствовала повсюду, вспоминали после очевидцы.
Александра Федоровна прошла в комнату, где находились дети. Никакого в них не было величия, просто напуганные котята. Уставясь на картину Буше, она внимательно разглядывала глупую веселую даму, к губам которой не менее веселый кавалер в чулках и парике подносил бокал вина. «Ходит птичка весело по тропинке бедствий…» – пришли на ум слова старой песенки. Она вдруг поняла, что тяготило ее – тишина. Плотно закрытые двойные двери отгородили ее от невиданной ранее во дворце суеты, громких разговоров и беготни. Все это волновало, но тишина беспокоила еще больше.
Оставив Машу, Ольгу и грудную Сашеньку под присмотром фрейлин, с маленьким Сашей она прошла в маленький кабинет императрицы-матери.
Им освободили место у окна, пододвинули кресла. Примостившаяся рядом на банкетке истинный друг императрицы баронесса Цецилия Владиславовна Фредерикс не теряла присутствия духа, и ее пустая болтовня производила обычное успокоительное действие. Окна покоев Марии Федоровны выходили на Адмиралтейство, но видны были и набережная, и разводная площадь. Все было заполнено людьми. Вперемешку двигались ряды военных мундиров, конный строй и штатские в темных шубах, шинелях, поддевках.
– Матушка, нельзя ли послать кого-нибудь узнать, что там? – просительно сказала Александра Федоровна и вдруг заметила удивленные глаза императрицы-матери. Да, верно, и самой можно теперь повелевать… но было непривычно.
Послали одного гонца, другого, третьего – они не возвращались. Попросили Карамзина, и бедный старик побежал, и еще несколько раз бегал, чтобы успокоить новую императрицу – император жив.
Падал мелкий снег. К трем часам почти стемнело.
К этому времени петербургский митрополит Серафим и киевский митрополит Евгений также были отправлены уговаривать восставших солдат. В полном облачении, в сверкающих драгоценными камнями митрах отправились они с крестом и Евангелием на площадь. Митрополит Серафим громко заявил перед шеренгой солдат, что перед Богом свидетельствует: воля покойного государя и великого князя Константина состояла в том, чтобы царствовал Николай. Ему кричали, что не верят.
Солдат вывели на площадь обманом. Не за свободу пошли они, а за законного, как им объяснили умные офицеры, «царя Константина и его жену Конституцию». Мужики в серых шинелях не революции хотели, а порядка.
Над стариком-митрополитом смеялись, ему открыто грозили, и он поспешил уйти. Во дворце Мария Федоровна спросила его: «Чем нас утешите? Что там делается?» – «Обругали и прочь отослали», – только и ответил первосвятитель столичный.
«Толпа знати в Зимнем дворце час от часу редела», – хладнокровно отмечал Карамзин, находившийся там с утра. Он нетерпеливо ожидал пушечного грома, уверенный, что нет иного способа прекратить мятеж, «нелепую трагедию наших безумных либералистов».
Зимний дворец оказался почти без охраны, как и предполагали мятежники. Туда под командой офицера Н.А. Панова Рылеев отправил неполный батальон лейб-гренадер для захвата дворца и царской семьи. Хотя приказания Николая Павловича в тот день выполнялись с промедлением, однако направленные им гвардейский и учебный саперные батальоны успели дойти и выстроиться во дворе Зимнего до прихода Панова.
– Да это не наши! – закричал Панов и поворотил гренадер, бросившихся бежать обратно на площадь.
Меж тем к Московскому полку присоединились весь гвардейский Морской экипаж и часть гренадер. К преображенцам – Измайловский, Семеновский, Павловский и Егерский полки.
Толпившийся на площади народ начал колебаться. Соблазн сопротивления власти, неподчинения начальству имеет волшебную силу над русским человеком.
Вожди мятежа уже поняли, что цель их – подчинить своей воле Сенат – недостижима. После принятия присяги сенаторы поспешили разъехаться. Князь С.П. Трубецкой, пораженный малочисленностью заговорщиков, не решился возглавить мятеж. Военной смелости у него было с избытком, но только сейчас он понял, что недоставало гражданской мудрости. Укрывшись в доме сестры, графини Елизаветы Потемкиной, он жарко молился. «О Боже! Вся эта кровь падет на мою голову!» – в ужасе повторял он.
А к этому времени на площади многие из собравшейся толпы стали перебегать к восставшим. Ремесленники, крестьяне, купцы, разносчики, чиновники, подмастерья, любопытствующие, школьники – все они, волнуемые речами офицеров и небывалостью событий, окружили каре восставших. Толпы людей, хлынувшие на площадь позднее, не пропускались жандармами, народ толпился за правительственными войсками, образуя второе кольцо. Вскоре Николай понял опасность такого окружения десятками тысяч простонародья.
Шум и крики усиливались. Рабочие-строители из-за забора «исаакиевской деревни» стали кидать поленьями в группу генералов. Принц Евгений Вюртембергский, племянник Марии Федоровны, повалил конем одного рабочего и закричал:
– Ты что делаешь?
– Сами не знаем. Шутим-с, барин, – отвечал тот.
Из рядов мятежников раздавались выстрелы. Утром Каховский смертельно ранил Милорадовича. Позже стреляли в генерала Воинова, жестоко избили флигель-адъютанта Бибикова; в великого князя Михаила, также уговаривавшего солдат покориться, стрелял Вильгельм Кюхельбекер, но револьвер дал осечку. Надо было решаться положить конец бунту – так повторяли люди рядом, а он кивал механически и ничего не приказывал, отъезжал к Зимнему дворцу и возвращался.
Французский посол Ла Ферронэ подошел к нему и выразил готовность поддержать его авторитет присутствием всего дипломатического корпуса.
– Благодарю вас, – отвечал Николай Павлович на безупречном французском языке, – но это дело семейное, здесь Европе делать нечего.
Чего ждали мятежники? Намечено было заранее, что в случае неудачи они ретируются на военные поселения близ Новгорода и превратят последние в очаг сопротивления. Ростовцев мельком слышал об этом и среди прочего сообщил в письме Николаю. Подобный исход сулил опаснейшую угрозу.
– Ваше величество, толпа все растет, они могут окружить войска, а скоро стемнеет. Могут и дворец захватить! Позвольте послать кавалерию!
Конная гвардия, ведомая Алексеем Орловым, первой пошла в атаку, но по тесноте и от гололедицы ничего не смогла добиться. Лошади были подкованы без шипов и падали вместе с всадниками.
– Государь! – вновь подъехал генерал-адъютант Васильчиков, начальник гвардейского корпуса. – Нельзя терять ни минуты! Ничего не поделаешь – нужна картечь!
У него самого была эта мысль, но прибывшая артиллерия оказалась без зарядов. За ними послали. «Неужели придется начать царствование пролитием крови своих же подданных?» – ужасался он и все медлил.
– Заряды есть? – спросил он.
– Подвезли, – наклонил голову генерал. – Только так вы можете спасти империю и династию.
Николай был благодарен Васильчикову за эти слова. За несколько часов на бунтующей площади он пережил и передумал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Не случайно многие отмечали, что Николай Павлович стал иным после того.
Перед строем Преображенского батальона поставили три орудия, зарядили картечью. Генерал Сухозанет был послан к мятежникам с предупреждением, но ни вид орудий, ни слова генерала не изменили их намерений. Все оглянулись на Николая, и он, не обычным звонким тенорком, а хрипло, скомандовал:
– Пли!
Первый залп ударил высоко в здание Сената и вызвал смех противной стороны. Но второй, третий и четвертый залпы били прямо в самую середину толпы. Мгновенно все рассыпалось. По Английской набережной, по Галерной и даже к Крюкову каналу бросилась напуганная толпа, обезумевшая, желающая спастись. Клубы пушечного дыма повисли над площадью, мозгом и кровью обрызганы были колонны Сената.
Шел пятый час вечера. При первом залпе Александра Федоровна упала на колени и стала горячо молиться. Она никогда ранее так не молилась. Встав с колен, обратилась к сыну:
– Запомни этот день, Саша! Там твой отец, твой государь!
– Что скажет Европа! – сокрушенно восклицала Мария Федоровна.
Испуганный сын уставился на Александру Федоровну большими глазами.
– Мама, мама! Что с тобою?
У новой государыни от нервного потрясения начала трястись голова, и это осталось у нее на всю жизнь.
Сашу пытались отправить во внутренние комнаты, но он не захотел, вместе с матерью стал дожидаться возвращения императора. Оба бросились на звук его шагов и встретились на деревянной лестнице. Николай обнял их обоих.
– Ты жив! Ты жив! – только и повторяла Александра Федоровна. – А нас тут чуть не захватили…
– Знаю. Ах, сердце мое, – устало сказал он, – самое удивительное в этой истории – это то, что вас не захватили, что нас с Михаилом не пристрелили в толпе. Само милосердие Божие правило к лучшему и спасло нас. Все позади, позади… Больше такого не случится!
Маленький Саша прижался к его боку и всхлипывал.
– А тебе должно быть стыдно! – строго сказал отец. – Сегодня ты стал наследником престола.
И почувствовав облегчение и уверенность в себе, схватил Сашку на руки и вынес на двор, где стояли столь дорогие ему отныне саперы.
– Слушайте, ребята! – громко скомандовал он. – Я не нуждаюсь в защите, но вот его я вверяю вашей охране! Вы его полюбите, как я сам люблю!
На всю жизнь запомнил будущий Царь-Освободитель, как страшные, усатые мужики, пахнущие мокрым шинельным сукном, табаком и потом, окружили его, целовали руки и ноги, а он лишь теснее прижимался к широкой отцовской груди.
Наступил вечер. Зимний дворец, превратившийся не то в военный штаб, не то в бивуак, гудел от разговоров. Людей прибыло много больше, чем днем. Все высшее общество терпеливо ожидало возле дворцовой церкви.
В седьмом часу показались Николай Павлович в Преображенском мундире и Александра Федоровна в белоснежном русском платье. За ними следовали императрица-мать, великий князь Михаил и новый наследник Александр Николаевич в голубом гусарском мундире с голубой лентой через плечо.
Митрополит Серафим вышел к ним навстречу с крестом и святой водой. Служба была недолгой. Николай и Александра стояли на царском месте на коленях и тихо повторяли слова молитвы. Когда хор грянул «Многая лета», они взглянули друг на друга и с умилением увидели на глазах слезы.
Но долгий день на этом не закончился. Ночью начались аресты, а многие мятежники сами приходили во дворец сдаваться. Николай несколько раз за ночь проведывал жену, которая легла, окруженная детьми. Он называл ей фамилии арестованных и печально улыбался ее неверию. Сказал, что сабельная рана барона Фредерикса не тяжела, а Милорадович скончался. Случилось это уже под утро.
Нехотя наступал серенький, мутный рассвет.
Часть II. Отец и сын
Глава 1. Коронация
Декабристы были казнены на рассвете 13 июля 1826 года.
22 августа в Москве состоялась коронация Николая I.
Эти два события стали огромным потрясением и сильно повлияли на формирование личности Александра Николаевича. Как ни огораживали его играми, товарищами, учебой, он многое видел, слышал, чувствовал и пытался понять в той мере, в какой это возможно восьмилетнему человеку.
Он видел состояние отца. Николай Павлович писал матери 12 июля 1826 года: «…у меня прямо какая-то лихорадка, у меня положительно голова идет кругом. Если к этому еще добавить, что меня бомбардируют письмами, из которых одни полны отчаяния, другие написаны в состоянии умопомешательства, то уверяю вас, дорогая матушка, что одно лишь сознание ужаснейшего долга заставляет меня переносить подобную пытку».
В дворянских гостиных говорили, теперь уже шепотком, что Александр I в первые дни своего царствования выпустил всех узников Петропавловской крепости, так что один из них написал на двери своей темницы: «Свободно от постоя». Братец же начал с тюрем, каторги и казни. Стоит ли дальше ждать добра?
Припоминали и многочисленные рассказы о Николае, еще великом князе. То он при фронте разругал офицера лейб-егерского полка В.С. Норова и, стукнувши ногою по земле, обрызгал его грязью. Норов подал в отставку, и все офицеры полка сделали то же самое. Это было сочтено за бунт. Норова и многих офицеров перевели тем же чином в армейские полки. Как-то на учении великий князь до того забылся, что хотел схватить офицера Самойлова за воротник. Тот ответил ему: «Ваше высочество, у меня шпага в руке». Николай отступил, промолчал, но ответа не забыл и после декабрьского мятежа два раза осведомлялся, не замешан ли Самойлов. По счастию, он не был замешан. Норов же оказался членом «Союза благоденствия» и Южного общества, был арестован в Москве и осужден по II разряду на каторжные работы.
Меньше говорили о великодушии нового царя. Тяжело заболевшему Карамзину он отпустил 50 тысяч рублей на лечение и снарядил фрегат для поездки историка за границу.
Существенно дополняют облик Николая его письма к брату Михаилу. Так, 9 мая 1826 года он писал из Петербурга в Москву: «…Я получил сегодня после обеда твое письмо, любезный Михайло, и благодарен тебе весьма за оное, но не за „ваше величество“. Я не понимаю, что тебе за охота дурачиться; а еще менее понимаю, как можно в партикулярном письме, разве в шутку, себе позволить с братом выражение, которое походит на насмешку. Я прошу тебя серьезно переменить этот тон, который меж братьями вовсе неприличен.
Оставайся в Москве, покуда матушке угодно или жене твоей нужно будет… Твой навеки друг и брат Н.».
Невозможно в жизни государственного деятеля отделить сугубо личное от делового, все взаимопереплетено. И как же много разного было перемешано в личности Николая…
Письмо из Царского Села от 12 июля 1826 года: «…Чем мне было тебе воздать за 14 число и за твое усердие и дружбу! Я придумал – и желаю, чтоб тебе столь же было приятно, как мне от души желательно – те четыре орудия, которыми все решилось, прошу тебя принять в память этого дня в знак нашей старой ребячьей дружбы, с которой росли, с которой и умру. Твой верный брат и истинный мученик. Н.».
Разговоры о коронации Николая Павловича пошли с апреля месяца. Думали совершить ее в июне, но 4 мая пришло известие о кончине императрицы Елизаветы Алексеевны. Был объявлен траур на полгода, и коронация перенесена.
Разговоры и толки не прекращались, и потому было решено сократить траур и провести церемонию в августе. Начались приготовления.
Двор прибыл в Москву 20 июля. Государь и государыня по традиции остановились в Петровском замке, а утром следующего дня торжественно въехали в Первопрестольную. Императрица ехала с великим князем Александром Николаевичем в карете, а император рядом верхом. С ними были великий князь Михаил Павлович, брат императрицы прусский принц Фридрих-Вильгельм (будущий король Пруссии), большая свита, послы от иностранных дворов.
По обеим сторонам пути были выстроены войска. Зрители стояли на специально сколоченных подмостках, чего, как говорили старики, раньше не бывало. Коронация эта по торжественности и пышности превосходила многие прежние.
В дни царских приездов Кремль всегда полон народа, все надеются увидеть государя. Николай Павлович вышел на балкон с двумя братьями, Константин справа, Михаил слева. При виде царя с братьями крики «Ура!» сделались оглушительными, так что Александра Федоровна во внутренних покоях взволновалась, помня недавние события.
В толпе рассказывали, что при первом свидании цесаревича с братом, который уступил ему престол, Николай хотел обнять Константина, но тот схватил руку Николая и поцеловал, как подданный у своего государя.
В вечер накануне коронования погода установилась ясная, тихая. В обычный час поплыл над Москвой благовест к всенощному бдению. Ударил Иван Великий, за ним ближние и дальние, большие и малые колокола.
Многие плохо спали, опасаясь опоздать в Кремль. Проход был по билетам, те, кто поспешил, смогли хорошо устроиться на деревянных помостах.
Пышно и торжественно было шествие в Успенский собор. Короновали три митрополита: Петербургский Серафим, Киевский Евгений и Филарет, к этому дню получивший сан митрополита Московского.
Пышная трапеза состоялась по окончании церемонии в Грановитой палате. Семья царская кушала под балдахином на тронной площадке, на ступеньках к которой с обнаженными палашами стояли родовитые дворяне.
К царской трапезе допущены были немногие. Немногие и получили в тот день милости: было даровано несколько андреевских и иных лент, несколько дам пожалованы статс-дамами, были пожалования деревнями и назначения новых фрейлин.
Маленькому Саше при коронации позволили принять участие в параде в Москве, и он лихо промчался на коне перед эскадроном своего лейб-гвардии Гусарского полка. На опасения придворных его отец дал характерный ответ: «Пусть он лучше подвергается опасности, которая вырабатывает в нем характер и с малолетства приучит его стать чем следует, благодаря собственным усилиям».
Стоит ли говорить, что маленький великий князь вызывал всеобщее умиление. В дни коронации он отправился посмотреть иллюминацию, но восторг толпы при виде «нашего московского князя Александра Николаевича» был настолько велик, что трудно было ехать в коляске из опасения раздавить кого-либо. Пришлось, к огорчению мальчика, вернуться и смотреть иллюминацию с балкона Кремлевского дворца. Яркими желтыми огнями горели кремлевские стены и сады, большие и малые царские вензеля светились на ближних и дальних домах.
Саше было скучно без его верной компании – Паткуля, Адлерберга, Виельгорского и Алеши Толстого, а с компанией в Кремле не очень-то разгуляешься. Отец отправил его с мальчишками в Нескучное, пригородную дачу за Калужской заставой, только что приобретенную им у графини Анны Орловой для жены. Дача была названа Александрией. Вот уж там, на просторе они играли в зайцев, серсо, носились наперегонки, стреляли в беседке, а вечерами чинно пили чай на веранде за большим столом.
Осы кружились над нежным земляничным и малиновым вареньем, и одна непременно увязала в нем к веселому ужасу девочек. Великие княжны очень любили варенье, а вечно голодные мальчишки налегали на холодную телятину, так что к концу чая на большом блюде с золотым царским вензелем на синем фоне оставалось ее немного.

