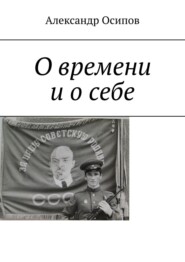
Полная версия:
О времени и о себе
Когда привозили кинофильм – это был праздник для всех. Я хорошо запомнил, как мне не пришлось посмотреть индийский кинофильм «Бродяга». Кинофильм показывали в каком-нибудь доме. Приезжала кинопередвижка, устанавливали в доме аппаратуру и нам показывали кинофильм. Киномехаником на кинопередвижке работал мой двоюродный брат по маминой линии – Иван. Однажды он привез кинофильм «Бродяга». До начала кинофильма был у нас в гостях. Меня угостил конфетами «горошек», долго качал меня на качелях. И, видимо, укачал. Я уснул, а идти на кинофильм меня не разбудили. Я долго очень сожалел, что не посмотрел этот кинофильм. Да, в этот день я переел конфет «горошек» и у меня надолго было к ним отвращение. Но появилось желание курить. Рассказывали, что когда мама брала меня в магазин и предлагала купить конфеты, я говорил, что конфет не надо, а требовал купить папиросы. Но всерьёз ни когда не курил.
Остались в памяти детские впечатления о радио. Громкоговоритель весел в горнице. Это был большой конусный черный динамик. Меня всегда мучил вопрос: как он разговаривает? В голове рождались всевозможные вымыслы. Иногда радио наводило на меня и страх. Это было тогда, когда я оставался дома один, особенно вечером, а по радио делал сообщение или передавал новости диктор Левитан. Его голос вызывал даже мурашки по телу.
Хорошо помню свой первый трёхколёсный велосипед, который купил мне папа. Велосипед из трехколёсного переделывался в двухколёсный. Ездить на двухколёсном велосипеде учил меня брат. Учился ездить с приключениями. Я уже стал ездить один, но ещё не умел поворачивать. И вот однажды, когда набрал скорость, велосипед покатил меня к забору, где была густая крапива. Увидев крапиву, руки ещё более одеревенели. Я не мог ни свернуть, ни затормозить. Въехав в крапиву – я упал. Был я в одних трусах. Всё тело пронзило, как ошпаренным кипятком. Это приключение на несколько дней отшибло желание кататься на велосипеде. Но сила желания победила страх, и я снова стал кататься. Катался на велосипеде без страха. За что мне дали кличку: «Сорви голова».
Это было самое беззаботное время. Мы радовались каждому новому дню, потому что он открывал для нас новый мир. Радовались и родители за наше детство. Мы были детьми послевоенной поры. Поэтому родителям мы доставляли меньше забот с питанием и одеждой. Мы не знали, что такое голод. Нас часто баловали гостинцами. Народ стал лучше жить. Появилась уверенность, что жить будет ещё лучше. В годы войны и тяжёлые послевоенные годы народ жил, в основном, одной заботой – выжить. Но после того, как он выжил, у него стали пробуждаться другие потребности: воспитание детей, повышение культурного образования, тяга к знаниям. Познав трудности, они старались сделать всё для своих детей, чтобы они в своей жизни меньше бы видели трудностей, и жизнь была бы более счастливой, чем у них.
Учёба в начальной школе
1957 год был особый для нашего народа и всего человечества. В октябре был запущен первый в мире космический спутник земли. Пионером в освоении космического пространства стала наша страна. Это был великий подвиг нашего народа. Народ ликовал. Наступила эпоха освоения космического пространства.
Для меня 1957 год также был особый. В этом году я пошёл в школу. Начальная школа находилась в нашей деревне. Школа была не большой. Все школьники четырёх классов занимались вместе в одном классе. Со всеми одновременно занималась одна учительница. Классы были малочисленные. При школе было подсобное хозяйство. Разводили кроликов, растили сад, выращивали овощи. В школе была школьная библиотека. В школе проводили колхозные отчётно-перевыборные собрания. Интересно проходили новогодние праздники. Я всегда принимал в них активное участие. В четвертом классе был дедом морозом.
Начальная школа для меня была храмом знаний, где я научился писать, читать, считать и получил другие знания.
Школа прекратила работу где-то в семидесятые годы, потому что учить уже было некого. Школу разобрали. Сохранился частично только сад и деревья. Сохранились и мои тополя, которые были когда-то посажены моими руками.
Кладом знаний и душой школы был учитель. Моим первым учителем была Тырина Екатерина Захаровна. Женщина среднего возраста, высокая, стройная, на лицо – красивая, с мужскими чертами и мужским оттенком в голосе, строгая и требовательная. В школе она работала до пенсии. В 1969 или в 1970 году у неё умер муж – Сергей Иванович. Когда ушла на пенсию – вскоре уехала в Рязань. В Рязани жили её дети: две дочери и сын. В конце восьмидесятых годах у неё неожиданно умирает младшая дочь.
В третьем классе нас учила Ельцова Валентина Ильинична. Жила она в селе Ягодное. Отец у неё работал учителем физики в Мордовской семилетней школе. Он преподавал моей сестре и брату. Валентина Ильинична работала в нашей школе один год. Она была по характеру намного мягче, чем Екатерина Захаровна. В жизни я больше с ней не встречался. Но пришлось учиться в Муравлянской средней школе с её младшими сестрами: Верой и Любой. Вера на один год закончила школу вперёд меня, а Люба на один год позже. Я ближе всех был знаком с Верой. Она после школы поступила в Рязанский медицинский институт. Когда я учился в Рязанском радиотехническом институте, мы иногда встречались. После института Вера распределилась в г. Свердловск. Там она поддерживала хорошие отношения с моей сестрой.
Первые наши учителя. Они дали нам первые знания по русскому языку, литературе, математике, истории и другим предметам. Они пытались определить наши способности и раскрыть их. Так они заметили мои небольшие способности по рисованию. Стали привлекать меня к оформлению в школе. Один раз принимал участие в смотре рисунков в Муравлянской средней школе и занял там призовое место. Эти небольшие успехи разожгли во мне страсть к рисованию. Рисовал я много. Рисовал с натуры, с картин и по воображению. Жаль, что рисунки не сохранились. В то время не задумывались о том, что уже в зрелом возрасте было бы интересно их посмотреть.
Во время учёбы в начальной школе появились и первые настоящие друзья. Первым моим другом с которым я дружил ещё до школы был Мамонов Сергей. Он был на полтора года моложе меня. В школу пошёл на один год позже меня. За время дружбы я не помню, чтобы мы с ним когда-то конфликтовали. По характеру он был на много спокойней меня. Был в отца: такой же спокойный и невозмутимый ни к чему. Внешне, пожалуй, больше был похож на мать. В физическом развитии немного отставал от меня, но в десятом классе и за время службы в армии, резко увеличил рост и вес, обогнав меня. Многое у нас в жизни совпадало. Так одинаковые были увлечения радиолюбительством и фотолюбительством. Он и я закончили парашютную школу. Служили в воздушно-десантных войсках специального назначения. Только я в Германии, а он под Рязанью. Но в дальнейшем наши дороги стали расходиться, стали реже видеться, а после того, как я уехал в Запрудню, наши встречи стали ещё реже. У него жизнь сложилась несколько необычно. Он жил у двоюродного брата в Рязани. Двоюродный брат был женат на женщине, у которой уже был ребёнок. От него она родила второго. Через несколько лет двоюродный брат умер. Сергей незаметно сошёлся с этой женщиной. Своих детей у него не было.
Вторым другом детства, с которым я подружился, учась в начальной школе, был Лескин Павел. С ним у меня была наиболее романтичная дружба. Он был на один год старше меня. Рос он в многодетной семье. У родителей он был первым ребёнком. Жил в деревне Левонтевка, которая находилась на расстоянии одного километра южнее нашей деревни. Павел был первым ребёнком, а потому ему приходилось много помогать родителям. С детского возраста помогал отцу пасти скот. Отец пас скотину у колхозников, а затем пас коров в колхозе. С Павлом нас объединяли общие увлечения. Он и я любили читать книги, одновременно увлекались радиолюбительством, занимались фотолюбительством, любили играть в шахматы. Павел был любитель фантазировать. С ним у меня была самая крепкая дружба. Дружба не угасла и тогда, когда он учился в Мордовской школе, а я в Муравлянской. В Муравлянской школе он учился один год в девятом классе, а затем поступил в ГПТУ в посёлке Запрудня Московской области. Интересно распорядилась судьба со мной: после окончания института по распределению я приехал работать в Запрудню. Да, и вообще мы с Павлом всегда были почти рядом. Я учился в Рязани – он там же работал в милиции. Потом он переехал работать в Москву, а я переехал работать в Московскую область. В Москве он женился. Имеет двух сыновей. Очень жаль, что последнее время из-за занятости стали редко встречаться. Но о Павле, о времени проведённом вместе с ним я часто вспоминаю. С ним всегда было интересно проводить время. С ним можно было говорить на разные темы, и, учитываю его умение фантазировать, приятно было вместе с ним окунуться в мир фантазии. С ним я много времени проводил за шахматной доской. Благодаря его я стал увлекаться радиолюбительством.
За годы учёбы в начальной школе крепкая дружба завязалась у меня с Воронковым Володей. Он на три года был старше меня. Он также как и Павел был из простой многодетной семьи. Но в отличие от Павла он был у родителей последним ребенком. Отец Володи и отец Павла вместе пасли скот, а потому и им часто приходилось пасти скот вместе. Володя был смелым и сильным парнем. У меня порой складывалось мнение, что он не имеет чувства страха. За его смелость ему дали кличку «Лётчик». Эта кличка осталась за ним на всю жизнь. Хотя имел кличку «Лётчик», но с детства он мечтал и жил морем. Он много книг читал о моряках и море. Эта любовь к морю и к людям морской профессии от него перешла и ко мне. Ещё учась в начальной школе, мы зачитывались книгой Вилиса Лациса «Бескрылые птицы». Мечта его сбылась. После седьмого класса он поступил в мореходное училище и на всю жизнь связал себя с морем. Поступил в мореходку, несмотря на то, что перед этим сломал несколько шейных позвонков. Нырял в воду на речке и, не рассчитав, врезался головой в землю. Висел на волоске от смерти. Из-за того, что позвонки срастались неверно, несколько раз их ломали по-новому. И всё же они срослись не совсем удачно, в последствие он ещё ломал их. Володя любил играть на гитаре и хорошо пел песни. В нашей деревне он был первым гитаристом и лучшим исполнителем песен.
В конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов в песенном репертуаре мальчишек было много песен пришедших из тюрем. Эти годы пришлись на хрущёвскую оттепель. Из тюрем много было выпущено людей, репрессированных в сталинские годы.
Хорошие отношения у меня были и с другими ребятами. Но с Сергеем, Павлом, Володей у меня были наиболее тёплые отношения. Нас объединяли общие интересы, у нас было много общего и в характерах.
Первые школьные товарищи. Воспоминания о той дружбы всегда приятны. Эта дружба была особенно кристально чистой и крепкой, потому что она кристаллизовывалась на примерах дружбы революционеров, героев гражданской и отечественной войн. Мы воспитывались также и на сказочных героях.
Впервые через прочитанные книги мы стали открывать для себя сказочный мир и историю нашей страны и мира. Благодаря книги мы стали лучше разбираться в людях. С каждой прочитанной книгой для нас становилось ясней: что такое хорошо и что такое плохо. Книга – великий учитель. Жажда к чтению книг у меня началась в начальной школе и сохранилась на всю жизнь. Любил ходить в библиотеку и книжный магазин. По долгу рылся в книгах. И этот процесс приносил мне много радости. Я был записан в нескольких библиотеках. Когда учился в Муравлянской средней школе – был книгоношей: обеспечивал нашу деревню книгами. Родители давали мне иногда деньги, чтобы я в школе покупал и ел пирожки. Я эти деньги экономил и покупал на них книги. С начальной школы я стал создавать свою домашнюю библиотеку. До службы в армии была собрана неплохая библиотечка. В ней, кроме художественной литературы, было много технической, особенно по радиотехники. Но во время службы в армии мою библиотеку родители отдали для пополнения колхозной библиотеки. Так закончила своё существование моя первая библиотека, которую я создавал десять лет. После армии пришлось создавать библиотеку снова.
В начальных классах стал появляться интерес к новым увлечениям и играм. Больше тянуло уже к шашкам, домино, шахматам. То есть от игр, где требовалась сила, ловкость и выносливость, всё больше стало тянуть к играм, где требовалась тренировка ума. Из всех этих игр мне больше всего нравилось играть в шахматы.
Больше всего в начальных классах я увлекался рисованием. В школе оформлял уголок «Октябрёнка» Принимал участие в смотрах на лучший рисунок – был призёром. Рисовал много, но, к сожалению, ни чего не сохранилось. Как-то не думал о том, что эти рисунки надо сохранить. Конечно, сейчас было бы интересно через свои детские рисунки проследить, что меня больше всего волновало. Ведь, как правило, человек через рисунок передает свой внутренний мир: чем он живёт, что его волнует и беспокоит. Моим любимым художником был Суриков В. И.. Любовь к нему у меня сохранилась на всю жизнь. Любовь к рисованию стала угасать где-то с восьмого класса, когда стал увлекаться радиолюбительством. Но в определённые промежутки времени во мне вновь загорал огонёк прежней любви к рисованию. Видимо, самые первые серьезные увлечения остаются у человека надолго, а может и на всю жизнь.
Немного увлекался я ещё игрой на гармошке. Гармошка осталась от брата. Слух у меня был не важный, да и особого желания играть не было. Но всё же немного играл. От игры получал заряд бодрости. Музыка: она как наркотик пьянит человека, придает ему силы и уверенности.
Любил я также слушать патефон. Патефон оставила нам после работы в Дагестане сестра. Много было пластинок. Было много хороших песен и задорных частушек. Очень часто приходили слушать патефон знакомые и ребята. Особенно любили слушать в летние тихие вечера. Из-за открытого окна мелодия разносилась по всей нашей небольшой деревни.
На годы учёбы в начальной школе пришлось и моё первое длинное путешествие. На зимние каникулы я с отцом ездил на поезде к сестре в Свердловск. Из Свердловска заезжали в Москву. В Москве были у тёти Паши. У неё я впервые увидел телевизор КВН с линзой. Ходили в Мавзолей. В это время в мавзолее находились Ленин В. И. и Сталин И. В. Ходили в кремль. Из Москвы заезжали в Красноармейск к Маше, моей двоюродной сестре по маминой линии. От этой поездке у меня осталось очень много впечатлений. Впервые увидел для себя очень многое. Это и большие города, и Кремль, и Красную площадь, и мавзолей, и метро и многое другое. И всё это первый раз в жизни. Поездкой я был очень доволен.
Начальная школа дала нам основы знаний. Первичные накопления. Что-то и не успели познать, и усвоить. Но впереди нас ждала средняя школа. Она раскрывала перед нами двери в ещё более светлые храмы знаний. А это уже новая страница в моей жизни.
Учёба в средней школе
1961 год. Год начала покорения человеком космоса. Двенадцатого апреля впервые в Мире наш Юрий Гагарин полетел в космос. Он сделал один виток вокруг земли. В августе, второй советский человек – Герман Титов, семнадцать раз облетел вокруг земли. Этот год был годом великого начала освоения человеком космоса. Наша Родина ещё раз удивила весь мир своими великими достижениями в науке и технике. Героический советский народ вписал ещё одну яркую страницу в историю Человечества.
Каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. В этот период мы ещё больше стали мечтать о будущем, о полётах на другие планеты. Увлеклись фантастикой. Любимыми книгами стали книги из серии «Фантастика». С нетерпением мы ждали новых новостей о полётах в космос.
В 1961 году я пошёл в пятый класс в Муравлянскую среднюю школу. Муравлянская средняя школа находилась в пяти километрах на северо-западе от нашей деревни в селе Муравлянка. Село – бывший районный центр. На базе села Муравлянка был создан колхоз «Светлый путь». Кроме того, в селе были построены: молокозавод, электростанция, радиоузел, средняя школа, больница, баня, столовая, магазины (продовольственные, промтоварный, хозяйственный, книжный), пекарня. В здании бывшей церкви работа клуб и библиотека. Работал сельский совет. Это было крупное село с развитой инфраструктурой.
Школа размещалась в двух зданиях. В старом здании учились с первого по пятый класс, в новом – с шестого по десятый. При школе был интернат, мастерские, учебное поле. В сравнении с начальной школой было немного непривычно: в классе было учащихся больше чем во всех классах нашей начальной школы, по каждому предмету был свой учитель, в начальной – одна учительница на все предметы. С пятого класса по восьмой класс я учился в «а» классах, с девятого по десятый – в «б» классах. Два или три года мы учились при директоре школы, который преподавал по истории. Ходил он чаще всего в гимнастёрке и галифе, был добрый, но в тоже время не очень был доступен. Держался не только по отношению к ученикам, но и учителям более высоко. После того, как его перевели работать в райком партии, на его место прислали другого – он преподавал физику и астрономию. Был менее воспитан. Первая его реформа, которая обострила отношения с ним не только учеников, но и учителей – это создание единой раздевалки. До него все раздевались в классах. Конечно, это было не совсем эстетично, но все привыкли, и ни кто не хотел раздеваться в общей раздевалке. Может быть надо было разъяснить ученикам с позиции эстетики и культуры, но он молча приказом поломал сложившийся порядок. Делал он правильно, но метод был выбран не совсем верный. В результате произошёл конфликт. Многие ученики демонстративно какое-то время раздевались в классах. В целом он был не плохой директор и педагог.
Очень требовательным был завуч школы – Лызлова. Она пришла в школу где-то в конце 1961 года. Её мужа назначили председателем колхоза «Светлый путь», и они переехали жить в Муравлянку. У них было трое детей. Старшая, Катя, училась в нашем классе. Завуч преподавала историю. Преподавала хорошо, была очень требовательна. Но был у неё и существенный недостаток: у неё были свой любимцы, которых она чаще других спрашивала, давала им возможность развивать себя, а остальными занималась как бы между делом.
Первым моим классным руководителем была Соколова Анна Никитична. Она преподавала немецкий язык. Ей порой было с нами очень тяжело. Класс наш был озорной. Часто выводили из терпения учителей. Выводили и Анну Никитичну. Она пыталась на нас воздействовать через родителей, но не на всех это действовало. Анна Никитична была местная, а так как моя мама была из Муравлянки, она её хорошо знала. Но так как наша деревня находилась от школы в пяти километрах, то с мамой она встречалась очень редко.
С точки зрения воспитания для меня, пожалуй, больше всех дал второй мой классный руководитель с девятого по десятый класс – Пахомов Александр Михайлович. Он преподавал физику. Заочно учился в институте. Преподавал средне, но умел привлечь внимание к предмету не столько своими знаниями, сколько манерой преподавания. Был доступен. С ним можно было беседовать как со старшим товарищем. Много доверял ученикам. Так, в радиокружке, который он вёл, мне доверял вести занятия.
Хорошим учителем была Соловова Клавдия Степановна. Она преподавала математику. Прекрасно разбиралась в математике. Была очень требовательна. С середины девятого класса, вместо Клавдии Степановны, нам стала преподавать новая учительница по математике. Её направили в нашу школу после окончания института. Она также отлично преподавала и любила свой предмет. По-моему с её приходом мы все стали больше любить математику.
Русский язык и литературу преподавал муж Анны Никитичны – Соколов Григорий Герасимович. Преподавал хорошо. Будучи сам немного артистичным, ему легко было преподавать литературу. Подмечал в каждом из нас что-то смешное и любил разыгрывать нас.
Требовательным учителем была преподаватель географии Ожерельева Ксения Степановна. Она хорошо разбиралась в географии, но почему-то особой любви к предмету у нас она не пробудила.
Рисование, а затем и черчение преподавал Соловов Алексей Алексеевич. Он хорошо рисовал сам, любил рисовать, любил живопись. Любовь к прекрасному стремился привить и нам. В школе он создал картинную галерею. Мне, кажется, она у многих учеников оставила частицу прекрасного в сердце.
Физкультуру вёл Москвитин Василий Петрович. Бывший фронтовик. Имел много боевых наград. Майор в отставке. Офицерская выправка в нём виделась во всём.
В общем, все учителя были неплохие педагоги и люди. Конечно, этому их обязывала среда, в которой они жили. Они были у всех на виду. По образованию они были самыми образованными людьми в селе. Они были цвет села. Это понимали и жители села и они сами. В меру своих сил они стремились прививать у жителей любовь к культуре. Для многих учеников учителя помогли выбрать профессию. Порой не родители, а именно учителя стали советниками в выборе дороги жизни. Не легкая это миссия – быть учителем. Авторитет учителя во многом определялся уровнем профессиональной подготовки, уроками жизни, которые ему пришлось пройти, а также его гражданской позицией. Я считаю, что нам повезло на учителей. Они дали нам не только знания, но и частицу своей души.
В средней школе у меня появились и новые школьные друзья. Друзья. По каким критериям люди сближаются и становятся друзьями? Таких критериев много. Люди могут сближаться на общих интересах – спорт, рыбалка, радиолюбительство, искусство и т. д. Сближает людей и одинаковые характеры, и взаимоподдержка, и защита слабого и т. д. Но порой бывает так, что между людьми ничего общего нет, а они друг без друга жить не могут, и на оборот – много есть общего, а они не могут видеть друг друга. Так что же сближает людей? Видимо есть какие-то невидимые силы, которые идут не от души, а от сердца и сближают людей. Поэтому правильно говорят: друзей не выбирают, а ими становятся. В жизни приходилось встречаться с таким примером, когда кто-то из родителей хотел и стремился к тому, чтобы их дети подружились, но из этого ни чего не получалось. Когда-то в своём дневнике я немного философствовал о любви и писал, что может быть когда-нибудь пофилософствую о дружбе, но пока к этой теме не подступал.
С ребятами я быстро нашёл общий язык. И если между собой ребята иногда давали волю кулакам, то у меня ни разу не было потасовок ни с кем. Быстрому сближению с ребятами помогло то, что я дружил с Воронковым Володей, а он в школе прославился как смелый и сильный парень. Слава о нём шла не только по нашей деревне, но и по Муравлянке. Что стоил его поступок очистить школьный колодец. Колодец был очень глубокий, и никто не осмеливался спускаться в него даже из взрослых, а он тринадцатилетний парнишка без колебаний согласился. Выходил он победителем и при стычках с муравлянскими ребятами. Знали и о его мужестве, когда он сломал шейные позвонки. Естественно, что к такой личности интерес особый, а у мальчишек тем более. Когда в классе узнали, что я его друг, ребята ко мне потянулись с расспросами о нём, и на этой почве я быстро вошёл в доверие к ним, и мы быстро сблизились. Затем со многими из них я стал дружить. Вспоминать о той романтичной дружбе порой бывает интересно и сейчас.
Наиболее крепкая дружба связывала меня с Цинкиным Петром. Петя Цинкин был из многодетной семьи. Его отец работал начальником радиоузла. Мать не работала, воспитывала детей. Жили они в здании радиоузла. Петя был предпоследним ребёнком в семье. Они были не местными, а приезжими. От куда они приехали я не знал, да и как-то об этом мы с Петей и не вели разговор. Петя внешне и по характеру был в отца. Внешне был строен, чувствовалась сила, хотя он и не старался её показать, немного увлекался спортом, но больше увлекался радиолюбительством и фотографией. Характер был немного скрытый, но общительный, в достижении целей твёрд и упрям. Во всех классах, начиная с пятого, я сидел с ним за одной партой. Ни разу с ним не ссорились, и дружба трещины не давала. У меня с ним было много общего и в характере и в увлечениях. Петя помогал мне освоить основы фотолюбительства. Вместе познавали основы радиолюбительства. После школы наши пути разошлись, но мы продолжали встречаться и, самое главное, вели активную переписку. Петя после армии несколько лет работал милиционером на Байкало-Амурской магистрали. Затем вернулся в Рязань. Я в это время заканчивал институт. Встречались уже реже, да и интересы стали расходиться и забот у каждого стало на много больше. С болью в сердце жалел я ни один раз, что потерял связь с Петром.
Так же крепкая дружба связывала меня с Солововым Анатолием. Жил он в Муравлянке. Особых увлечений у него не было, но у него был внутренний магнит, к которому я всегда тянулся с радостью. От общения с ним я всегда получал заряд душевного удовлетворения, и как бы происходило очищение души. От общения с ним я становился светлей и на жизнь смотрел как-то по-особому. У меня всегда было ощущения того, что я всегда перед ним в долгу, мне всегда хотелось сделать для него что-нибудь хорошее. Анатолий так же тянулся ко мне. Я видел и ощущал, как он желал получить от меня душевной поддержки и доброго совета. После школы я с ним, так же как и с Петей, ещё несколько лет поддерживал связь. После армии я советом и делом помог Анатолию жениться. Он дружил ещё до армии с девчонкой из села Мордово. Девчонка жила с матерью и бабушкой. Отец – умер. Я видел, что они любят друг друга и внутренне готовы были пожениться, но сказать об этом стеснялись. И вот в этот ответственный час я помог им переступить эту робость, и они поженились. После окончания сельскохозяйственного техникума он работал инженер-механником в колхозе и жил у них. Потом переехал жить и работать в Московскую область. Вот так распорядилась судьба с моими лучшими школьными друзьями. Вспоминая о них очень жалею, что мы потеряли связи. С потерей этих связей я всё больше и больше ощущаю, что мне не хватает их для подпитки моей души.



