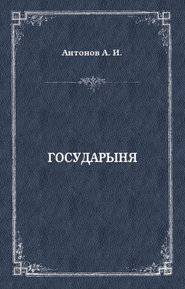
Полная версия:
Государыня
– Ишь какой лепотой одарил Всевышний будущего семеюшку княжны Елены.
– То так, красив, как рождественский пряник, – отозвался дьяк Курицын. – Токмо матушке Елене с его лица воду не пить, а как поглубже заглянешь, так и огрехи душевные видны. Да и кремня в нем не вижу. Видел, как он хмельное пил, ну как есть гулящий зимогор с Ходынки.
– Тут ты перебрал, думный! Да тебе и кремень сразу подай, – взялся защищать Ряполовский великого князя.
А «кремень» Александру был нужен. Вокруг него толпой увивались паны-вельможи. Он со всеми поднимал кубок с хмельным, пил легко, лихо, и вельможи без особого почтения и вольно говорили ему, как равному, все, что взбредет в хмельную голову. Он со всеми соглашался, улыбался беспечно. Лишь изредка он хмурил брови, отмахивался от панов, но вдруг хлопал по плечу какого-либо гетмана или маршалка и милостиво одаривал его улыбкой. Все это дотошный дьяк Федор отметил и закруглил свой разговор с князем Семеном Ряполовским настораживающим выводом:
– Нас с тобой, боярин, многие каверзы ожидают, и придется держать глаз и ухо востро.
– В воду, что ли, поглядел, досужий? – удивился Ряполовский.
– Чти, как мыслишь, – отозвался Курицын.
В своем предсказании дьяк Федор не ошибся. Уже на другой день после торжественного обеда маршалок Станислав Глебович вручил князю Ряполовскому договорную грамоту. Поначалу князь Семен, прочитав ее, не увидел изъяна.
– Все тут при грамоте: вот печать, вот подпись – все, как положено. А ты говорил – каверзы… – заметил он дьяку Федору. – Наконец-то вижу праведную грамоту, – и передал ее Курицыну.
Дьяк Федор начал читать ее медленно и прилежно, вдумываясь в каждую строчку и в смысл, что крылся за нею. И быть бы послам в позоре и в немилости от государя, если бы не дотошность Федора. Он нашел-таки коварную ловушку, которую приготовили добродеи великого князя Александра, о которой он сам, поди, не ведал.
– Экая оказия, ты посмотри-ка, боярин Семен! – воскликнул Федор. – И как это в нашей грамоте очутилась сия замечательная строчка: «Принуждать к переходу в римский закон великий князь Александр не будет, но княжна вольна перейти по своей воле»? Вот оно где, коварство литвинов, боярин Семен! Никому не дано раскрыть его, ежели и мы с тобой, как мыши, войдем в Ягеллонову мышеловку, – четко и твердо сказал дьяк Курицын князю Ряполовскому.
– То верно, мудрая твоя голова. Ой как не полюбится такая оговорка Ивану свет Васильевичу! – распалялся князь Семен.
Маршалок Глебович почтительно стоял рядом. Ему не нужен был толмач, он хорошо понимал русскую речь и теперь переживал из-за того, что хитрость государя Александра и его вельмож стала явной и понятной московитам. Он с холодком в душе ждал, какой оборот примет теперь раскрытый обман.
– Ты, пан маршалок Станислав, иди к своему князю и отдай сию грамоту. Его целование и клятва ложные, – сурово объявил князь Ряполовский и, смяв бумагу, вручил ее Глебовичу.
Гнев князя Семена был явный, и Станислав испугался. Он понял, что русские послы ни под каким видом не повезут в Москву эту целовальную грамоту. Но и паны рады не захотят уступить и потерять возможность обратить будущую великую княгиню в католичество. «Матка боска, нашла-таки коса на камень!» – воскликнул в душе маршалок и покорно взял грамоту. При этом он, однако, сказал:
– Вы, панове московиты, не сомневайтесь. Его величество государь Александр Казимирович исправит погрешность. Вы только наберитесь терпения.
Но зависимость литовского великого князя от панов рады была уже ведома русским послам, и они не надеялись на скорое исправление целовальной грамоты. Потому князь Ряполовский, поразмыслив, откровенно заявил:
– Нам нет нужды протирать у вас штаны, маршалок. Как исправите грамоту, так везите ее в стольную Москву. Так ли я говорю, Федяша? – спросил князь дьяка Курицына.
– Истинно так, – ответил тот. – И чем скорее мы уедем, княже, тем для нас лучше.
Вскоре русское посольство в полном согласии с князем Ряполовским и дьяком Курицыным покинуло Вильно. Началось противостояние.
Иван Васильевич похвалил послов за прозорливость и повелел своим воеводам блюсти порядок на рубежах с Литвой, строго наказывать тех, кто нарушит порубежный устав. Государь больше не называл Александра своим зятем, а когда вспоминал о нем, то гневался: не мог простить ему коварства. Противостояние продолжалось с апреля и длилось все лето, почти всю осень. Лишь в ноябре паны рады поняли, что их хитрость потерпела неудачу, что решение государя всея Руси получить грамоту по своему образцу твердое, и дали Александру «добро» на отправку в Москву посольства с новой грамотой. И вновь в кремлевских палатах появились знакомые лица панов во главе с Яном Заберезинским. Во время первой же встречи с придворным князем Василием Ромодановским Ян Заберезинский наивно сказал:
– Наш государь думал, не полюбится ли государю всея Руси прибавленная строчка.
На что князь Ромодановский ответил без обиняков:
– Не полюбилась уже, панове, и, коль вы не привезли истинную целовальную грамоту, скатертью вам дорога в Вильно.
Литовские паны струхнули: не хотелось им снова мерить версты туда и обратно. Между ними завязался жаркий спор, и маршалок Станислав Глебович предупредил Яна Заберезинского:
– Ты, вельможный пан, не играй больше в неверные игры, исполни волю великого князя нашего, не то одному придется мчать в Вильно за грамотой.
Заберезинский тоже понял, что дальше водить за нос московитов опасно, что все благое задуманное можно порушить одним махом, и сказал князю Василию Ромодановскому:
– Один я виноват в сей промашке с прибавленной строкой и прошу тебя, ясновельможный князь, скажи государю всея Руси, что мы привезли исправленную по его желанию договорную грамоту. Сами и вручим ее. Милости попросим, дабы опалой нас не обжег.
– Что ж, покаяние ваше кстати. Государь ждал его. Вот пойду и доложу, – ответил князь Василий и отправился к великому князю.
Вернулся он скоро и пригласил послов в тронную залу. Туда же пришли Иван Васильевич, Софья Фоминишна и Елена. Получив грамоту от Яна Заберезинского и прочитав ее, Иван Васильевич сказал:
– Мы довольны нашим зятем Александром. Передайте ему, чтобы слал кого-либо из вас за невестой после Рождества Христова. А мы тут приданое ей приготовим, все путем…
Прекрасная Елена стояла за спиной своего отца, и в ее лице не было ни кровинки. Дьяк Федор Курицын смотрел на нее с жалостью и думал: «Эко она, сердешная, мается. Ведь краше в гроб кладут».
Глава восьмая
В Литву на тернии
Минувший девяносто четвертый год пятнадцатого столетия в жизни княжны Елены был самым тяжким из прожитых восемнадцати лет. Она не показывала виду, что страдает. Всегда спокойная, иногда на людях веселая, заводная с подругами и сестрами или в меру печальная, грустная, когда мельком увидит князя Илью Ромодановского. После похищения Елены, где он оказался ее спасителем, государь отстранил-таки князя от служения великой княжне. Они страдали от разлуки, но не в силах были что-то изменить. Долгие месяцы сватовства и переживаний, какие принесло это сватовство, как-то приглушили в груди Елены боль первой девичьей любви. Зная, что их разлука неминуема, Елена почти равнодушно приняла весть о том, что Илье тоже засватана невеста из княжеского дома Шуйских. Посетовала Палаше, родной душе, на весть о сватовстве шуткой:
– И как меня угораздило родиться в великокняжеской опочивальне!
Палаша тоже отшутилась и с горечью в голосе сказала:
– Да и в боярских теремах нам, девицам, краше не бывает.
– Коль так, примем ненастье за вёдрышко, – засмеялась Елена.
Княжна еще шутила, а тревога за завтрашний день в ее душе разрасталась все шире. Суета вокруг целовальной грамоты, длившаяся более полугода, зловещими всполохами все еще маячила на окоеме. Елена пыталась осмыслить затянувшуюся борьбу вокруг ее вероисповедания. Временами ей казалось, что идет торг, какая из сторон получит больше влияния на ее душу. В этом торге, по мнению Елены, обе стороны были по-своему правы. Литовцы хотели видеть в будущей великой княгине приверженность к католической церкви: чтобы в храм она ходила вместе с великим князем, чтобы паны рады не чурались великокняжеской семьи и служили едино литовскому народу. Никак нельзя было отрицать справедливость их притязаний на угодное им вероисповедание своей будущей государыни. И Елена не осуждала ни Александра, ни его послов, которые вкупе искали путь, каким могли бы увести Елену в лоно католичества.
У отца Елены, государя всея Руси, как ей казалось временами, правда была значимее, выше. Он не хотел, чтобы его дочь предала веру предков, веру рода, твердо стоявшего за православие со времен Владимира Святого, крестителя Руси. Елена соглашалась с отцом. Но в православии она видела не только вековое постоянство россиян, но и то, что сама вера православная была чище, возвышеннее и милосерднее католической. Православие по-иному наполняло благовоспитанностью души христиан, нежели католичество. Может быть, думала Елена, и отец о том знал, однако у него было еще желание удержать дочь в православии для державной цели. Он считал, что православная великая княгиня – опора в чаяниях всех православных христиан, оказавшихся временно под пятой литовского владычества. Россиянам легче будет выстоять перед постоянным посягательством католических ксендзов, приоров и всех других священнослужителей на их духовную свободу, если будут знать, что они под крылом православной государыни. В этом и сама Елена видела большой резон. Осознавать, что за спиной две трети населения Литовского княжества – твои преданные россияне, – это твердь, на которую всегда можно опереться.
И все-таки Елену посещали крамольные мысли. Иной раз она искала в себе силы противостоять батюшке ради своего благополучного супружества и чтобы не быть в Литве государевой заложницей. Ведь великий князь Александр мог поступить с супругой-иноверкой как ему заблагорассудится или, вернее, как заставят его поступить всесильные и жестокосердные паны рады. Однажды своими крамольными мыслями Елена поделилась с думным дьяком Федором Курицыным. Это случилось как раз в те дни, когда литовские послы привезли исправленную целовальную грамоту. Однако мудрый дьяк ничем не сумел утешить юную княжну. Больше того, оба они попали в неловкое положение. За беседой их застала Софья Фоминишна. Дьяк Федор счел за лучшее посвятить великую княгиню в суть его беседы с Еленой, дабы она не приняла их разговор за сговор.
– Мы, матушка-государыня, исповедуем друг друга. Близок час разлуки, и надо к тому подготовиться, – сказал дьяк Федор.
– Исповедуйтесь, это всегда очищает душу, – ответила Софья Фоминишна. И, присев в византийское кресло, сама повела речь: – Только я и без исповеди моей дочери давно знаю о ее душевном смятении. Я понимаю ее, родимую. Ее страдания разрывают мне сердце. Но Богу угодно, чтобы она несла крест смирения и послушания, ибо государь всея Руси прав. Он не ради своей прихоти желает сохранить будущую великую княгиню в православии.
– Хватит ли моих сил, матушка?! – вмешалась Елена. – Какая тяжесть упадет на мои плечи…
– Пребывай в молитве, и Господь Бог укрепит твой дух. И разумом одолевай сердечную маету. Ты умна, тебе сие посильно.
Елена посмотрела на дьяка Федора, словно ища у него поддержки, и отважилась сказать матери супротивное:
– Но ведь может и так случиться, матушка, что у меня не будет никакой возможности сохранить себя в православии. Ведь ежели случится…
Княжна осеклась, увидев в глазах матери вспышку гнева.
– Забудь о «ежели» и о «все-таки», – жестко произнесла Софья Фоминишна. – И ты, Федор, не потакай ей и слушать ее запрети себе. Знаете же, что государь может быть и милосерден и жесток даже со своими близкими. У него хватит норова наказать любимую дочь, ежели она встанет ему встречь. Да вы же помните, как он остудил головы своих младших братьев, когда они отважились пойти ему наперекор. – Софья Фоминишна расслабилась, уселась поудобнее в кресле и уже мягким голосом повела речь о былом: – В ту пору тебе, Елена, было три годика, когда братья батюшки Андрей и Борис побудили новгородцев пойти в заговор против него. Да ежели бы справедливо шли, а то ведь искание твоих дядьев было на руку лишь новгородской вольнице. Даже сам архиепископ Феофил встал во главе заговора. Он отправил гонцов к польскому королю Казимиру, дабы договориться вместе с новгородцами укоротить власть Ивана Васильевича. И его братья с новгородцами надеялись на то же. Думали они добиться того, чтобы их старший брат не ширил пределы своего Московского княжества. В ту пору он как раз взял под свое крыло Дмитровский удел умершего брата Юрия и не поделился с братьями присоединенной к Московскому княжеству землей. Они же требовали того.
– А верно ли поступил батюшка, по совести ли? – спросила Елена.
– Он поступил по византийскому закону, коими и Русь живет со времен Олеговых. У нас императоры никогда не делили свою державу с братьями и сыновьями, но давали им достойную почестей службу. Каждому свое. А Борис с Андреем хотели, чтобы Иван Васильевич делил все приобретенные земли не только с ними, но и со всеми удельными князьями.
– И что же батюшка?
– О судьбе его братьев лучше спроси у дьяка Федора.
Тот отозвался молча, лишь покивал головой.
– А новгородцы были жестоко наказаны, – продолжала Софья Фоминишна. – Батюшка вершил дело решительно. По первым же морозам он с тысячей воинов выступил в Новгород. Горожане не вняли увещеваниям великого князя, закрыли ворота, спрятались за городскими стенами и не выдали заговорщиков. Дождавшись главную рать, батюшка велел палить по Новгороду изо всех пушек. Две недели днем и ночью летели в него ядра. Там взялись пожары, гибли люди. Житние, черные горожане взволновались и вынудили заговорщиков отдать себя на всю государеву волю. Милосердия Иван Васильевич не проявил. Грозный государев розыск длился два месяца. А как пришел конец ему, так сотня главных извратников была предана казни. Феофила привезли в Москву и заточили в Чудов монастырь. Там он и преставился. Тем бы и надо кончить розыск, но гнев батюшки не угас. Еще пятнадцать тысяч боярских и купеческих семей он выселил из Новгорода без имущества и тягла и расселил по пустынным землям. В монашество тысячи постриг, самих заставил обители возводить. Ты в одной из них побывала.
– Ой, страху натерпелась, – отозвалась Елена.
– Вот и подумай, идти ли тебе встречь родимому батюшке, – тихо завершила свой рассказ великая княгиня.
– Ведь за рубежом отчей державы буду, – с угасающей надеждой ответила княжна.
– Верно, за рубежом. Да та препона не помеха великому государю, достанет и в Вильно, и в Риме. Господи, любимая доченька, покорись батюшке, обрети мужество противостоять латинянам! – воскликнула Софья Фоминишна со слезами на глазах и добавила: – Держава почтит тебя за сию жертву.
Елена подошла к матери, приникла к ней.
– Матушка, успокойся. Я во всем вняла твоим советам и смирюсь с неизбежным. А даст Господь сил, так и за Русь стоять буду.
– Вот и славно. Ублажила ты мое сердце, доченька. Да держи голову выше не от гордыни, а от достоинства. Ты всегда будешь дочерью великой Руси.
Эта беседа с матушкой в присутствии дьяка Федора слово в слово была памятна Елене долгие годы, и, случалось, она перебирала ее, будто зерна жизни. Она прорастала в душе, и уходили горечь и боль, безысходность и покорность. И приходили облегчение, жажда жизни и борьбы. Особенно это проявлялось тогда, когда от боли некуда было деться и когда, оставаясь вдвоем с Палашей, Елена становилась на молитву. Она молилась Михаилу Архангелу, защитнику всех православных христиан, и он, ясноликий, мужественный архистратиг, вносил в ее душу умиротворение и покой, вселял в нее уверенность в том, что она выстоит в борьбе и с честью пройдет свой тернистый путь.
Однако молитва спасала не всегда. Бывало, что по ночам к ней приходили кошмарные сны, со зловещими вещаниями. Ей снились мерзкие чудовища, или ее приводили на шабаш нечистой силы и там, распластав на колоде, доставали из материнского лона дитя. Она кричала, пытаясь дотянуться до розового тельца ребенка, и с криком просыпалась. По утрам она выходила к трапезе пасмурная, болезненная. Отец и мать смотрели на нее с тревогой. Иван Васильевич догадывался, что гнетет дочь, но ни ласковым взглядом, ни словом не разрушал пелену отчужденности Елены. Он лучше, чем кто-либо другой, знал, какая борьба ждет ее впереди, среди чуждых ей вельмож-панов. Перед полуденной трапезой Иван Васильевич вел свою большую семью на литургию в Успенский собор, а там, после окончания богослужения, уводил Елену в ризницу, поручал ее священнослужителям, не то и самому митрополиту Симеону для вразумления.
Митрополит Симеон, еще моложавый и крепкий, с умными карими глазами, знал, чего хотел от него великий князь, и увещевал княжну примерами стояния за веру многих славных россиян, вспоминал королеву Франции Анну, дочь Ярослава Мудрого, которая оставалась в православии, будучи единой среди католиков королевского двора. «Церковь чтит ее и поныне, как радетельницу за православие и мироносицу королевства Франции», – мягким голосом говорил митрополит Симеон.
Он вспоминал сказания летописей и патериков о княгине Анне Романовой, жене князя Галицко-Волынского княжества Романа Мстиславовича.
– А еще ведать тебе нужно, дщерь Ивановна, и о подвиге Елены Ростиславовны. Стоя во главе Краковского стола и будучи женой Казимира Справедливого, она не предала веру отцов православных.
– Я постараюсь запомнить твои увещевания, святой отец. Спасибо, что облегчил мое бремя примерами стояния достославных россиянок за веру предков, – покорно отвечала княжна Елена.
Конечно, митрополит Симеон знал и обратные примеры. У королей и королевичей польской династии Пястов были жены-россиянки, которые принимали католичество. Мария Святополковна, жена Болеслава Кривоустого, приняла католическую веру, но осталась истинной россиянкой. Связи с Русью, которыми муж Марии пользовался благодаря ей, были так прочны, что на Руси Болеслава считали русским князем. Но об этом митрополит Симеон не рассказывал княжне Елене, остерегаясь дополнить сумятицу, царящую в душе будущей великой княгини Литовского княжества.
И пришел день, когда святые отцы добились своего. Елена дала на исповеди слово митрополиту Симеону, что, как бы ни сложилась ее судьба в Литве, она исполнит волю государя всея Руси и останется в греческом законе до исхода дней своих. Труднее было привыкнуть к наказу отца: «И хоти будет тебе, дочка, про то и до крови пострадати, и ты бы пострадала, а того бы еси не учинила». Однако и с этим она смирилась и приняла его как должное.
– Я ко всему готова, батюшка. Ты и святые отцы укрепили мой дух. Я ничем не огорчу тебя, родимый, – молвила Елена отцу во время их последней беседы.
Приблизился день расставания с родной землей. Что-то подсказывало Елене, что она разлучается со всем окружающим ее с детства навеки. В стольном граде готовились к празднику Крещения Господня, а Елена в эти дни думала уже о своих последних светлых днях в Москве. Она видела себя в святочные дни на Москве-реке, на Неглинке, где резвилась вместе с потешными, она каталась с гор с сестрами и братьями, советовала им, как позадорнее устроить игрища. Вскоре, однако, все задуманное порушилось. На второй день Крещения, в самый разгар праздника, под несмолкаемые звоны колоколов в Москве появилось великое посольство литовское. Прибыли три пана-наместника: виленский, полоцкий, бреславльский, – с ними некий лях с Волыни, Георгий, и два брата-половчанина – Корсаковичи. Главой над ними, как и в прежние годы, был Ян Заберезинский. В тот же день послы пришли в кремлевские палаты бить челом государю всея Руси Ивану Васильевичу, дабы получить от него благословение увезти невесту Александра в Вильно.
Иван Васильевич не был расположен к спешке, тем более в торжественные дни празднования Крещения Господня.
– Некстати они явились. Свое Рождество отгуляли, а на Русь прикатили под ногами мешаться в светлый праздник, – сказал сердито государь боярину Василию Патрикееву.
– А ты, батюшка, заставь их помолиться в наших соборах и по православному обычаю. То-то будет им что вспомнить о православии.
– И ты думаешь, что они исполнят нашу волю? – с хитринкой посмотрел на боярина государь.
– Как могут отказаться! За милую душу помолятся, – улыбнувшись, ответил Василий Патрикеев.
И государю захотелось повеличаться, показать послам великолепие русских церковных торжеств, ненароком заставить-таки их помолиться. Бог един, счел государь, и урона чести послам не будет, как почувствуют благость обрядов, сами потянутся к православию. Не сомневаясь в своей правоте, Иван Васильевич поручил Василию Патрикееву от его имени пригласить послов на богослужение в Успенский собор. Вначале они запротестовали: дескать, это нарушение канонов католичеств, – но боярин был человеком себе на уме и нашел лазейку к душам послов. Он сказал Яну Заберезинскому:
– Как побываете в главном соборе державы, отстоите службу да помолитесь, так от церкви и от государя-батюшки ждут вас богатые дары. Так уж заведено на Руси, – прибавил для красного словца боярин.
Как уговаривал Ян Заберезинский послов, Василий Патрикеев не ведал, но на другое утро они пришли в Успенский собор в полном сборе, отстояли службу молча и зачарованно. Да и было отчего: послов поразила торжественность богослужения, великолепие храмового убранства и единение душ прихожан и священнослужителей. Пел и молился в храме русский народ.
По мнению Ивана Васильевича, Святое Богоявление, Крещение Господа Бога, не только вносило в души православных христиан благолепие, но и возносило их дух. Сам государь не стыдился слез и плакал от умиления, когда на утрене волшебный хор Успенского собора пел: «Величаем Тя, живодавче Христе, нас ради ноне плотью крестившегося от Иоанна в водах иорданских». В торжественном пении великий князь слышал и глас Иоанна Предтечи. Он звучал ясно, слова словно сходили с губ у самого уха государя: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем; я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”; и я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий».
К удивлению своему, все это слышала и княжна Елена. Она не знала, кто сказал ей: «Бог Отец свидетельствовал, возглашая: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение”», – но всему сказанному Елена поверила. На сердце у нее стало благодатно, спокойно, она была готова к любым жизненным невзгодам и испытаниям. «Господь Бог страдал, и я пострадаю», – промолвила она в душе и принялась истово молиться.
Миновал день после празднества Богоявления, и Иван Васильевич назначил литовским послам час торжественного приема. Были приглашены многие вельможи. Собрались на прием людно. В Столовой палате было тесно. Ян Заберезинский вручил государю всея Руси верительную грамоту и произнес краткую речь, в которой изложил просьбу великого князя Литвы Александра отпустить его невесту в Вильно.
– А вот выкуп тебе, великий государь, и твоим близким, – заявил Заберезинский и распорядился внести в палату дары.
Тут были алые и голубые ганзейские сукна, меч и броня со щитом из Ливонского ордена, добытые литовцами в сечах, разные ларцы красного и черного дерева из Палестины.
Иван Васильевич принял дары благосклонно, лишь при виде последних двух даров помрачнел лицом и даже отступил от них, словно боялся оскверниться. А Заберезинский, который преподнес дары, смотрел на них с завистью. Многое отдал бы он, чтобы завладеть ими. Он держал в руках портрет Папы Римского Александра VI и католическое Евангелие в золотой оправе по бордовой коже переплета. Великий князь, однако, погасил в себе раздражение, но не поблагодарил посла и строго спросил:
– Зачем привез в мою державу неугодное мне и нашей православной церкви?
Заберезинский не растерялся, у него был приготовлен ответ:
– Великий государь всея Руси, мы выполнили твою просьбу и с честью отстояли две службы в вашем соборе. Уважь и ты нашу веру. Когда уезжали в Москву, прибыл в Вильно папский легат. Он и передал нам эти дары для тебя от понтифика вселенской церкви Папы Римского Александра. Было сказано при том Папой, что он высоко чтит царя русов и твою супругу Софью Фоминишну, которую он знал девочкой. Он желает вам здравия и надеется на ваше благорасположение.
– Хорошо сказано главою Римской церкви. Я принимаю дары и пошлю ему свои при первой же оказии.
Иван Васильевич прикоснулся к портрету и посветлел лицом, когда увидел, с каким искусством исполнен образ понтифика западной церкви. Великому князю было трудно отвести взор от живых, умных и проницательных карих глаз, от лица, выражающего благородство.

