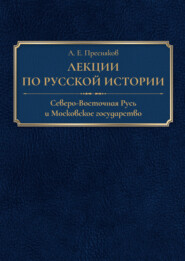
Полная версия:
Лекции по русской истории. Северо-Восточная Русь и Московское государство
Это отступление в сторону идеи старейшинства казалось мне неизбежным, чтобы перейти к характеристике судеб вотчинного княжеского права в ХII – ХIII вв. В общей их картине прежде всего привлекает внимание крайне своеобразное положение Киевской земли в тесном смысле слова. Ей, как известно, не привелось стать вотчинно-семейным владением какой-либо линии княжого рода. Попытка Мономаха утвердить право на киевское старейшинство, вместе с обладанием киевским столом, за нисходящей от него линией не удалась, разбитая раздорами среди самих Мономашичей и слабостью материальной основы – киевской силы, на которую она только и опиралась. С тех пор Киев, как говорится, переходит из рук в руки, все более теряя свое централизующее русские отношения влияние и значение. Но любопытно отметить, что в связи с этим общим положением Киевщины она сохранила свое территориально-политическое единство, не дробясь на отдельные более мелкие княжения-вотчины, что, однако, не мешало частому, хотя и мало устойчивому возникновению таких явлений, как княжение особых князей на отдельных «волостях киевских», как Вышгород, Белгород, Торческ, Канев, Овруч и др. – до 15–16 городков киевских. Сидели ли тут князья, у которых только и было владенья, или братья, или сыновья князей, по семейной связи с которыми они были «вотчичами» других областей и орудиями политики Смоленска или Владимира Суздальского и т. п., эти княжения не выделялись в особую «вотчину», не приобретали особности, а рассматривались как «часть» в Русской земле, т. е. в узком смысле слова – в земле Киевской. Отмечаю это незначительное само по себе явление как особую разновидность древнерусского княжого владения: «наделение» (таков технический термин) старшим князем младшего из своих владений «частью» – по соображениям родственных отношений, союзности или иных моментов междукняжеской политики.
Что до отдельных земель, обособившихся во владении особых линий княжого рода, то сложившиеся в них отношения в общем мало нам известны, отчасти по скудости данных, отчасти потому, что и имеющиеся-то данные мало изучены. Очерк этих отношений в моем «Княжом праве» – только беглый набросок, не более[31]. Эти отношения довольно разнообразны и складывались под сложными влияниями местных обстоятельств в каждой области, более или менее на свой лад. Отмечу некоторые из этих особенностей, более ясно выступающие в рассказах летописных. Но прежде всего будем иметь в виду, что в развитии форм княжого владения отдельных земель-областей мы наблюдаем те же общие черты, какие выступают в истории Киевской Руси как целого: борьба двух тенденций – сохранения единства сил всей земли под «старейшинством» большего стола или по крайней мере в форме одиначества всех ее князей, и дробления ее сил и интересов по вотчинам, частям земли, все более обособляющимся. Преобладание той или другой из этих тенденций обусловливалось, насколько видим, преимущественно внешними условиями: силой или слабостью внешней боевой опасности для данной земли или данной группы князей-родичей от иноземного врага или от князей-противников.
Так, в отрывочных известиях о Полоцкой земле до 20-х гг. XII в. ее князья выступают в союзе против киевских Мономашичей, пока в 1129 г. не постигла их общая ссылка в Грецию. После смерти Мстислава Великого (1132 г.) в Полоцкой земле намечается раздел на три линии и три вотчины (Глебовичей, Васильковичей и Борисовичей) – Минск, Витебск, Друцк – при центральном значении Полоцка, из-за которого идет борьба, сплачивающая каждую княжескую линию. Но ранние осложнения внешних отношений не дали полоцкой истории довести внутренний строй земли-княжения до законченной определенности.
Своими усложненными путями идет история юга – Волыни и Галича, хотя и тут видим раздел Галицкой земли на вотчины внуков Ростислава, пока Володимерко их не объединяет, а на Волыни образование особых княжений Владимирского и Луцкого, с дальнейшим дроблением на более мелкие княжения-вотчины. Но для нас важнее те явления, какие можно наблюдать в землях Черниговской, Смоленской и Суздальской.
И в Черниговщине, подобно Полоцкой земле, внутренний распад на вотчины долго задерживался интересами общечерниговской политики, особенно в отношениях к мономахову потомству, владения которого охватили широким кольцом черниговские волости. Впрочем, уже первая четверть XII в. закончилась отделением Муромо-Рязанских волостей в особое княжение Ярослава Святославича, в вотчину его потомства, окончательно оформленным в 1127 г. Собственно Черниговская земля (вместе с Северщиной и «вятичами») осталась в обладании двух линий – Давыдовичей и Ольговичей, и вся первая половина XII в. наполнена то их борьбой за Чернигов, то за господство над всеми волостями черниговскими, то их участием в общерусских делах, в борьбе за Киев, против господства Мономашичей. В 60-х гг. XII в. сошли со сцены постепенно захудавшие Давыдовичи – старшая линия черниговских вотчичей, и судьбы земли остались в руках двух линий Ольговичей, потомков Всеволода и Святослава. Долгие годы борьбы с черниговской родней, а еще больше с Мономаховым племенем, сплотили Ольговичей. Их интересы далеки еще от того, чтобы замкнуться в границах семейной вотчины.
Напряженные отношения к степному врагу, все упорнее наступавшему на южную Русь, поддерживали в черниговских князьях традицию киевского единства, стремление возродить в свою пользу киевское старейшинство, овладеть Киевом. Черниговщина в тяжелую годину второй половины XII – начала XIII в. переживает самостоятельно эпилог первого периода русской истории в большом и безнадежном напряжении сил. Это сказалось и в деятельности черниговских князей на киевском столе – Всеволода и Святослава Ольговичей, в таких памятниках черниговских настроений, как «Слово о князьях» и «Слово о полку Игореве», в преобладающем значении черниговской письменности для развития общерусского летописания за этот период. С этими общими чертами черниговской истории второй половины XII в. представляются связанными любопытные особенности ее внутреннего строя. Вовне Ольговичи выступают как «Ольговичи вси», во главе с черниговским старейшим князем, который «княжаше в большем княжении, понеже бо старей братьи своей». Таким старейшиной, по-видимому, бывал «старей леты» во всей группе черниговских князей, принадлежавший то к одной, то к другой линии Давыдовичей. Одиначество Ольговичей носит характер союза двух линий, разрешавших рядом соглашений спорные вопросы о судьбе черниговского и других княжих «столов» Черниговской земли, о которой князья в летописи говорят как о единой «волости своей».
Значение черниговского старейшины сохранялось и за теми, кто достигал киевского стола, передавая Чернигов другому князю. Так держались Ольговичи против Мономахова племени, спаянные этим соперничеством. И во внутренних распорядках в данную эпоху не можем разглядеть образования внутри Черниговской земли обособленных княжений-вотчин. Столы княжие перераспределяются по соглашениям между князьями и «старейшим в братьи», причем речь идет не о «вотчинах», а о «наделеньи вправду» младших князей, без пристрастия к ближней родне, сыновьям или братьям. Связь частей с целым брала верх над тенденциями вотчинного раздела, пока сильны были общие интересы Черниговщины, вотчины Ольговичей, как целого. По-видимому, только буря татарского погрома разрушила эти устои черниговского одиначества, и лишь накануне ее – под 1226 г. – слышим о первой усобице в Ольговичах – Олега Игоревича, князя курского, с Михаилом Всеволодовичем. Татарский погром на черниговской почве сделал то дело, что повсюду подорвал в конец упадавшее и без того значение крупных городских центров, разбил остатки более значительных политических систем. В жизни Черниговщины этот крутой перелом привел к быстрому измельчанию местных отношений и сдвигу населения и деятельности с юга на север. Не заменив захудалого Чернигова, возвышается Брянск, где во второй половине XIII в. княжит сын св. Михаила Черниговского Михаил и живет черниговский епископ. Но Брянск скоро втягивается в сферу влияния Смоленска и в XIV в. переходит под литовскую власть. С упадком общего центра разрастается дробление на княжения-вотчины, как Брянское, Стародубское, Трубческое (Трубецкое), Новгород-Северское, Рыльское, Путивльское, Глуховское, Новосильское, Воротынское, Карачевское, Кромское, Козельское, Мосальское, Перемышльское, Елецкое, Хотетовское, Торусское, Мезецкое, Говдыревское, Болховское, Одоевское, Борятинское и т. д. Это дробление нарастало постепенно. Земля распадалась на вотчины «больших» князей, а внутри их слагались владения меньших, им «послушных», но и эти второстепенные группировки были неустойчивы и непрочны, тем более что с XIII в. в Чернигово-Северской земле стали возникать «уделы» литовских князей и вообще князей пришлых (в XV в. – московских выходцев), разбивавших традиции старого владения и ставших над мелким местным княжьем как носители иных связей, иной политики (вотчинность, отъезды с отчиной, служба на две стороны, измельчание, потеря политической самостоятельности, иногда и титулов, княжата-землевладельцы). Черниговщина в татарскую эпоху и под литовским владычеством поистине страна классическая для вотчинного дробления земли и торжества вотчинного характера княжеского владения.
Смоленская земля обособилась в ХII в. в семейное владение Ростиславичей (Ростислава Мстиславича). Ростислав Мстиславич положил начало своеобразным отношениям тем, что, княжа в Киеве, Смоленск держал через старшего сына, а младшими держал города Киевской земли (Овруч, Вышгород, Белгород). Киевская политика – с приемом держания «части» в ней – продолжалась и после Ростислава. Отдельные князья смоленского гнезда получали «волости» в Смоленской земле, но не выделяли их этим в особые вотчины-княжения, а только жили с них, как с обеспеч[ения] доходом. И до конца XII в. не видим дробления Смоленской земли на отдельные политические единицы, самостоятельные вотчины. Только в XIII в., когда Смоленская земля все больше чувствует ломку старых отношений и засорение торговых путей с падением Киева, движением Литвы, напором татарской силы, определяются особые вотчины князей Вяземских и Торопецких, два сравнительно крупных княжения, и мелкие «отчины», как кн[яжество] Березуйска, как Глинки, Козлово, Хлепень и т. п. «Волость» Бельская с городом Белым выделилась только как пожалование Ягайлы родоначальнику князей Бельских. Вяземский князь и торопецкий в ХIII в. под рукой Смоленских князей и вместе с ними подчиняется Литве.
Глава II
Ростово-Суздальская земля до татарского нашествия
Ростовская земля занимает совсем особое место в представлениях русской историографии. Она выступает в общей схеме русской истории как новообразование XII–XIII вв. Продолжая построение, данное еще С. М. Соловьевым, Ключевский говорит о ней, что это «край, который лежал вне старой коренной Руси, и в XII в. был более инородческим, чем русским краем». Объясняя «образование великорусского племени», он выводит его «не из продолжавшегося развития этих старых областных особенностей», а из новых условий, возникших, «когда население центральной среднеднепровской полосы, служившее основой первоначальной русской народности, разошлось в противоположные стороны», говорит о «разрыве народности» как моменте перелома в XII–XIII вв. Поток переселенцев из Днепровского бассейна в эту пору встретился в междуречье Оки – Волги с финскими племенами. «В области Оки и верхней Волги в XIXII вв. жили три финских племени: мурома, меря и весь». Смешение с ними русских переселенцев создает великорусскую народность как новообразование XII и следующих столетий. Условия колонизации северо-восточного финского захолустья сказываются в ничтожном значении торговли, малом числе городов, решительном перевесе сельских поселений над городскими, гораздо большей разбросанности населения, подвижном характере землепашества, развитии лесных и рыболовных промыслов. В этих условиях возникает и новый уклад социально-политических отношений; в них вырастает «новый владетельный тип» – князя-вотчинника; новый общественный тип – боярина, военно-служилого землевладельца (первоначальный тип боярина-землевладельца сложился на юге, но «вероятно» заслонялся другими интересами дружины). «Изучая историю Суздальской земли с половины XII в. до смерти Всеволода III, мы на каждом шагу встречали все новые и неожиданные факты»; изучая разнообразные последствия русской колонизации верхнего Поволжья, «мы изучаем самые ранние и глубокие основы государственного порядка, который предстанет перед нами в следующем периоде», московском, для которого «удельный порядок стал переходной политической формой, посредством которой Русская земля от единства национального перешла к единству политическому»[32].
Картина ясная и яркая. Разрыв с жизнью днепровской Руси полный. Иная обстановка, иной строй, иная народность. В Суздальщине и в Москве – «корень развития северной истории», как говорил москвич Забелин, «от Москвы начался прогрессивный ход самой русской истории», а «корень южной истории» – в Киеве. И ему вторит украинец Грушевский: «перед нами, несомненно, две народности, две истории».
Конечно, многое в этой антитезе севера и юга верно. Но ведь существенно не это, а цельность всей стройной противоположности, характеристика двух противоположных систем быта и отношений, так сильно влияющая на постановку и разрешение важнейших исторических проблем, на все, можно сказать, историческое воззрение русского историка.
Некоторые черты северного быта, как его строит Ключевский, между тем явно принадлежат и югу: разбросанность населения, подвижный характер землепашества, промысловый характер народного хозяйства… Начальные условия жизни народной массы одни и те же. А общие географические условия? «Непроходимые леса и болота покрывали обширные пространства земли, и новым поселенцам предстоял тяжелый труд расчистки и разработки почвы для того, чтобы сделать ее удобною для устройства своих селений и для землепашества». Это не Ключевский говорит о севере, а Грот о расселении славян в Венгрии и Трансильвании[33]. Ту же картину дают историки для поляков, для наших древлян, дреговичей, кривичей, вятичей… В чем же дело? Быть может, в том, что днепровская Русь пережила ранее – на века! – ту стадию развития своего быта, которую северо-восточная переживает в XI–XII вв.? Но выводы из сравнения северо-востока с юго-западом и западом были бы иные, если бы историки сравнивали не XII–XIII вв. в одном случае с XI в. в другом, а брали бы свои данные синхронистически. В этом хронологический грех всей антитезы. Особенностями северо-востока считается то, что отличает его от юго-западной старины (князь-вотчинник, боярин – служилый землевладелец, преобладание сельской жизни над городской и т. п.). Но при таком сопоставлении даже не ставится вопрос, что перед нами: два типа или две стадии развития? Открытым остается вопрос: не представляет ли собой то состояние, в котором находим Северо-Восточную Русь XIII–XIV вв., сумму явлений, которые сменили прежний быт того же типа, какой мы видим ранее в Поднепровье, под влиянием новых условий не местного, а общего характера, понятно, с вариантами, обусловленными местными условиями народной жизни в отдельных землях.
Попробуем уяснить себе этот вопрос на почве северно-русской. К сожалению, об этом северо-востоке до XII в. мы знаем отчаянно мало. Но то, что знаем, требует тем большего внимания.
Встреча русских поселенцев с восточно-финскими племенами в верхнем Поволжье и в междуречье Ока – Волга – дело давнее, для нас – доисторическое. Начало колонизационного движения восточного славянства в Волжский бассейн старше первых исторических сведений о нем. И оно идет непрерывным потоком в первые – еще темные для историка – века русской исторической жизни. Первоначальная волна, по всей вероятности, шла с запада, по течению рек – от кривичей, а первые известия об организованном наступлении указывают на Новгород, как его исходный и опорный пункт. Ростов летописные сказания знают с первых страниц своих; он упомянут в пересказе договора Олега с греками в числе городов, где сидят князья, под «Олгом суще». При Владимире и Ярославе он один из опорных пунктов их политической системы, а из Новгорода князья в первой половине XI в. ходят с новгородцами на финские племена. Остановка юго-восточного направления славянской колонизации при занятии степи печенегами, потом половцами, затем отступление славян с юго-востока перед кочевниками должны были усилить значение северного колонизационного района. Шахматов предполагает движение вятичей к северу с середины XI в. и этим движением объясняет «ряд событий, поражающих как будто неожиданностью исследователя XII в. нашей истории». Приток населения в приокскую область выясняется в трудах лингвистов и археологов как явление старшее, чем момент «перелома», построяемый историками. В «Историко-археологических разысканиях» А. А. Спицын становится в ряды «решительных противников» теории заселения Ростовской области из Приднепровья и без труда устраняет аргументы, которыми историки пробовали ее обосновать[34]. Это, конечно, не случайность. В вопросах, для которых нет прямых документальных или летописных данных, историку приходится оперировать материалом, требующим иных методов, [в] чем ему приходится из ученого исследователя подчас превращаться в дилетанта чужой специальности. Пример – теория Ключевского о происхождении великорусских диалектических особенностей под финским влиянием или самоквасовские археологические построения. С другой стороны, историки слишком естественно и часто поддаются соблазну считать начало известий об изучаемых исторических явлениях в своих источниках за момент возникновения самих явлений, а отсутствие известий – за отсутствие исторической жизни.
Не углубляясь в эти протоисторические вопросы ростово-суздальского прошлого, попробуем собрать данные о состоянии этой земли ко временам Юрия Долгорукого, к моменту возникновения особой политической жизни на северо-востоке. Отмечу прежде всего одно общее соображение для оправдания дальнейших исканий. Мыслим ли тот образ северно-русского князя, который завещан нам С. М. Соловьевым и так художественно разработан Ключевским? Этот князь – сам создает общество, землю, над которыми княжит; создает его на сыром корню, в краю более инородческом, чем русском, поднимает не только культурно-историческую, но и колонизационную новину! Не достаточно ли задуматься над этим образом, чтобы заподозрить, что само утверждение в данной местности прочной и преемственной княжеской власти должно бы служить для историка симптомом крупных успехов предыдущей колонизации и организации местного быта, что общество – не только в Киевской Руси, но везде и всюду старше своего князя.
Мне кажется, что даже скудные и отрывочные сведения о Ростовской земле до Юрия и при Юрии с достаточной силой и определенностью подтверждают такое сомнение.
Если бы Ключевский захотел применить свою теорию значения внешней торговли для развития в племенной жизни восточного славянства быстрого усложнения быта и социально-политического строя к Северо-Восточной Руси, – недостатка в данных терпеть бы не пришлось. Обилие монет и вещей, шедших с Востока, в VIII–XI вв., известия арабов о значительной русской торговле в Болгарах, в Хазарском царстве, на Каспии и за Каспием до Багдада, богатые находки западных монет X–XI вв., известия о сборе хазарами дани с вятичей «шлягами», т. е. западными шиллингами (столь странное для конкретного осмысления), раннее знакомство скандинавов с далеким северо-востоком Европы – все это дает представление о значительности волжского торгового пути – и более раннее и более конкретное, чем то, что имеем для пресловутого пути «из варяг в греки» по Днепру. Ранний интерес князей к далекому Ростову не говорит о чуждом зажиточности и доходов захолустье. Политические отношения этого Поволжья при сыновьях и внуках Ярослава не совсем ясны. По сказаниям киевской летописи, при Владимире Святославиче в Ростове сидел Борис, в Муроме – Глеб. Не вижу убедительных оснований для вполне отрицательного отношения к этой записи старого свода у А. А. Шахматова[35]. Держать крайние боевые пункты сыновьями – устойчивая черта политики старших киевских князей. При сыновьях Ярослава наряду с правобережными (по отношению к Днепру) владениями Изяслава и левобережными черниговского Святослава (Муром – Тмутаракань) видим Ростов, Суздаль, Поволжье в руках Всеволода вместе с южным Переяславлем. Это сочетание – географически искусственное – создает традицию всеволодовой вотчины, притязания северных князей на Переяславль, поддержанные политикой держанья «части» в Русской (Киевской) земле, чтобы не терять влияния на центр всей системы традиционных между-княжеских отношений. Традиция эта сильно осложнена киевскими отношениями и связями Мономаха. Но, поглощенный борьбой с половцами, главным делом его жизни, и южной политикой, он не упускает из виду Ростова. По временам он ездит туда для своего княжого дела, упорно с сыновьями защищает эту «волость отца своего» – Ростов и Суздаль – от захвата Олегом Святославичем черниговским (1094 г.). Мономаху принадлежит и построение города Владимира на Клязьме (1116 г.). По вокняжении своем в Киеве, а может быть, и раньше, Мономах послал в Суздальскую землю своего тысяцкого, варяга Георгия Симоновича, дав ему «на руки» сына Юрия. Этот момент усиленной организации княжого владения и властвования на северо-востоке был уже мной отмечен. Юрий 40 лет непрерывно владеет севером. При нем уже яснее выступают особенности положения этой земли и ее внутреннего строя, получившие в дальнейшем большое, определительное значение.
В этой области, когда мы ее лучше знаем, выступают два крупных городских центра – Ростов и Суздаль. Процесс, сходный с тем, когда Владимир стал возвышаться за счет старших городов, по-видимому, раз уже произошел в Ростовской земле, хотя и не вполне. Мы не знаем времени возникновения Суздаля, но политически он моложе Ростова, а между тем со времен Юрия он стоит рядом с Ростовом, и земля чаще зовется Суздальской, чем Ростовской. Стольный «отень» город Андрея Юрьевича – Ростов (Лаврентьевская летопись, 1157 г.), но, как отметил Сергеевич, живет Юрий «чаще в Суздале, чем в Ростове», с юга уходит в «свой Суздаль», а в Киеве окружен не ростовцами, а суздальцами, и им раздает дома и села Изяславовой дружины. Однако Суздаль, о «возникающем преобладании» которого говорит Сергеевич, не оттеснил Ростова на второй план, не вполне одолел его. Любопытна терминология летописей, говорящих о северных событиях, когда им приходится указывать политический центр Северо-Восточной Руси в эту эпоху: владимирский летописец в знаменитом рассуждении о взаимном отношении старших городов и пригородов говорит: «а зде город старый Ростов и Суздаль…», вызывая замечание В. И. Сергеевича: «Выходит, что Ростов и Суздаль составляют как бы один старший город»[36]. Или: «Ростовци и Суждальци посадиша Андрея в Ростове на отни столе и Суждали». Но Сергеевич, кажется мне, не использовал всего, что дают привлекшие его внимание тексты для пояснения этой своеобразной двуглавости Ростово-Суздальской волости. И это потому, что над ним тяготела предпосылка: значение города есть значение вечевой общины, «результат энергии его жителей». Впрочем, сам же он дал и ключ к пониманию дела: «В старом Ростове было немало сильных людей, бояр, которые, естественно, стремились заправлять всеми делами волости; от них-то, надо думать, ушел Юрий в Суздаль; но, по всей вероятности, бояре успели развестись и в Суздале, и вот сын Юрия, Андрей, уходит во Владимир, к “мезинним” людям, “владимирцам”». Итак, из-за отношений времен Юрия, как и позднее, выступает значение сильного боярства. Это не гипотеза – на то есть прямые указания летописных рассказов, повествующих о дальнейших судьбах политики Юрия и Андрея.
Вопрос о выделении Ростово-Суздальской земли в особую вотчину был поставлен Юрием по соглашению с «ростовцами и суздальцами». В 1149 г., заняв Киев, Юрий посадил в Суздале Василька, позднее предназначал его Михалку и Всеволоду, оставив их на севере под опекой их матери и тысяцкого Георгия варяга. Это – группа сыновей Юрия от второй жены, гречанки. На них целовали Юрию крест «ростовци и суждальци». А старших сыновей – от половчанки, дочери хана Аепы – Ростислава, Андрея, Глеба, Бориса (Мстислава Экземплярский относит ко второй семье[37]) Юрий предназначил для юга и сажал в Переяславле, Турове, Пересопнице, Вышгороде, Каневе.
Известно, как Андрей разрушил отцовские планы, уйдя из Вышгорода на север, «в свою волость Володимерю». Некоторые летописные тексты намекают на связь Андрея с какой-то боярской партией: его «подъяша Кучковичи», те самые, с которыми ему потом пришлось так кроваво столкнуться. И по смерти Юрия «Ростовци и Суждальци… вси – пояша Андрея… и посадиша и на отни столе Ростове и Суждали». 20 лет владел Андрей Суздальщиной, но этого он достиг только разгромом противников: на третий год по смерти отца он «братью свою погна Мьстислава и Василка и два Ростиславича, сыновца своя» и «мужи отца своего переднии» вместе с епископом Леоном. На юге братья завязывают новые связи; Михалко приступил к смоленским Ростиславичам и «лишися Аньдреи брата своего»[38].

