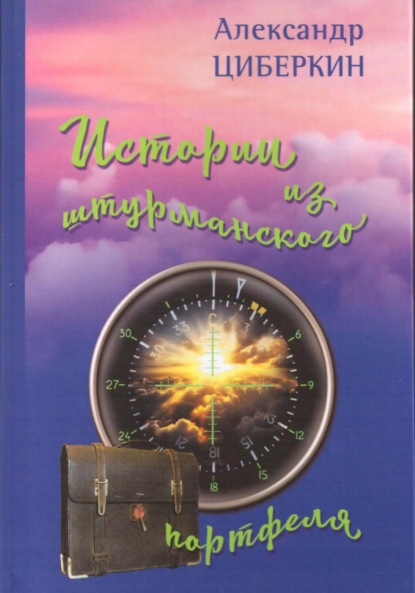
Полная версия:
Истории из штурманского портфеля
Только во время третьего вылета за линию фронта Марусу и Раппопорту удалось заметить огни костров в Демянском лесу. Неподалеку от этих костров на поляне они выполнили благополучную посадку. Выяснилось, что десант был разбит, и его остатки укрылись в лесу, а командир десанта подполковник Тарасов тяжело ранен. Первым рейсом Марус и Раппопорт вывезли Тарасова к своим, а за последующие десять дней выполнили 22 посадки в немецком тылу, вывезя сорок раненых. Также они доставляли десантникам боеприпасы и продовольствие. В свой завершающий рейс боевой экипаж привез десантникам письменный приказ о выходе к своим. В итоге из 2700 человек из-за линии фронта вернулось всего 342 десантника. За это спецзадание спустя два месяца Игорь Марус и Борис Раппопорт были награждены орденами Красного Знамени. Это была первая боевая награда Бориса Элевича Раппопорта.
Вот с таким замечательным человеком подарила мне встречу судьба!
О ПОЛЬЗЕ ВЕЧЕРНИХ ПРОГУЛОК
В начале октября 1974 года мы, молодые двадцатилетние парни, отдохнув в отпуске, прибыли в город Кустанай. Здесь нам предстояла учеба на четвертом, завершающем курсе и полеты на фронтовых бомбардировщиках Ил-28. А потом, уже в Челябинске – государственные экзамены, лейтенантские погоны и интересная летная работа в боевых частях ВВС.
Кустанай в то время, хотя и был областным центром Казахской ССР с населением сто тысяч человек, по сути, оставался провинциальным городом. Его историческая часть, застроенная симпатичными зданиями начала века, перемежалась невыразительными кирпичными коробками 50-х и 60-х годов, а новые микрорайоны были царством панельных пятиэтажек. Магазины города, однако, приятно удивляли богатым ассортиментом продовольственных и промышленных товаров. В Челябинске, да и вообще в РСФСР, снабжение было значительно хуже. Но такова тогда была внутренняя политика руководства страны – «умасливание» союзных республик за счет России.
Прошла неделя нашего пребывания в Кустанае, жизнь на новом месте вошла в привычную колею – учеба и служба. В воскресенье мы с Володей, моим другом, собрались в увольнение. Хорошая погода, что стояла всю неделю, куда-то подевалась: резко похолодало, солнце спряталось за плотным слоем облаков, задул пронизывающий степной ветер, который иногда швырял в лицо иглы мелкого моросящего дождя. Воскресенье выпало на тринадцатое октября, а еще на это число пришелся День работников сельского хозяйства.
Добравшись до центра города на автобусе, мы около часа бесцельно бродили по улицам. Пойти особо было некуда, в кино не хотелось, а единственный ресторан располагался в гостинице «Целинная». Иные «очаги культуры» отсутствовали. Было холодно, сильный ветер продувал наши шинели насквозь, так что быстро пришло понимание того, что делать здесь нечего. Решили возвращаться домой, то есть обратно к себе в казарму. Рядом с автобусной остановкой был гастроном, занимавший первый этаж пятиэтажки. В винном отделе купили бутылку вина «Солнцедар» емкостью ноль семь литра и плавленый сырок «Дружба». Спрятались от ветра и любопытных глаз за угол магазина, где громоздились у служебного входа пустые деревянные ящики. Вино пили по очереди прямо из горлышка, заедая его сырком. Было противно, и до конца эту бутылку мы так и не осилили, но «Дружбу» съели всю. Нас спас подъехавший автобус. В казарму вернулись задолго до ужина.
Когда же после ужина вышли из столовой, то увидели, что погода налаживается. Ветер начал стихать, а в разрывах облаков показались звезды. И мы с Володей решили прогуляться по городку: а вдруг, нам повезет, и мы познакомимся с хорошими девчонками! Для прогулок в военном городке были всего две улицы – Зеленая и Спортивная. Зеленая тянулась от нашей казармы к Спортивной и пересекала ее под прямым углом. Дойдя до Спортивной, мы повернули налево. Навстречу шли две девушки. Вот бы познакомиться с ними! Но как? На помощь пришла черная кошка, вернее не пришла, а пробежала между нами и девушками.
– Дальше вам идти нельзя! – засмеялись девушки.
– А мы тогда пойдем вместе с вами! – И дальше пошли уже вчетвером.
Сразу же завязался оживленный разговор. Возбужденные встречей, да еще и вспомнив какой сегодня праздник, мы начали «валять дурака». Я представился трактористом Гришкой, взяв имя отца, а Володя поддержал меня, назвавшись механизатором широкого профиля Мишкой.
Девчата рассмеялись, им понравилось наше дурачество, и они продолжили в том же ключе:
– Ну, а мы тогда – доярки!
– А вообще-то вас зовут не так, – уже серьезнее продолжили они.
– Раз так, то угадайте наши имена, – предложил я.
Мы шли в ряд, занимая почти всю ширину улицы. Я был крайним на правом фланге, а левофланговой шла симпатичная девушка, лицо которой мне было трудно разглядеть при скудном уличном освещении. В центре находились Володя и остролицая брюнетка. Симпатичная девушка все время выглядывала из-за своей подруги, пытаясь меня разглядеть. Она вдруг сказала:
– Ты – Сашенька!
Брюнетка, окинув моего друга взглядом сверху донизу, уверенно произнесла:
– А ты Володя!
Что и говорить, мы были поражены их проницательностью. Девушки представились. Та, что назвала меня Сашенькой, оказалась Аночкой, а ее подруга Таней. Так мы и познакомились, после чего наше общение стало легким и непринужденным.
Это знакомство быстро переросло в дружбу, мы начали часто встречаться, гуляя вечерами по городку или посещая танцы в гарнизонном клубе. Обе девушки были из офицерских семей, жили в городке и учились в местном пединституте на преподавателей английского языка. Нам всегда было интересно общаться и находилось, о чем поговорить.
Зимой, когда властвовали морозы, мы устраивали шутливое фигурное катание на льду, который намерзал вокруг уличной водонапорной колонки, что находилась на пересечении Зеленой и Спортивной улиц. Иногда, когда степной ветер был особенно безжалостен, мы прятались от него с торцевой стороны дома, в котором жили наши подружки.
Чем дольше мы гуляли, тем больше мне нравилась Аночка. Я надеялся, что и у Володи все сложится с Таней, но оказалось, что его сердце уже давно занято одноклассницей, на которой он и женился сразу после окончания училища.
Мои отношения с Аночкой развивались по нарастающей, не прошло и года, как я сказал ей: «Я тебя люблю!». Это случилось, когда на мне уже были лейтенантские погоны. Аночка тогда так и не ответила ничего конкретного, она призналась в своих чувствах только в письме, которое я получил уже в части, где начинал свою офицерскую службу.
Любимая стала моей женой тринадцатого февраля 1976 года – опять счастливое число тринадцать! Так случайная встреча на улице стала определяющей в нашей судьбе. Мы вместе сорок восемь лет, и еще долгие годы у нас впереди. А две взрослых дочки и внуки – следствие той самой встречи.
Было же когда-то благословленное время, когда не существовало виртуального пространства, и для того, чтобы узнать, что-то новое и интересное, мы брали в руки книгу, а не щурились в монитор своего компьютера. Когда люди, встречаясь, смотрели друг другу в глаза, а не пялились в экраны смартфонов, когда не было всяких гаджетов и прочих цифровых игрушек, уводящих человека из реального мира в капканы разнообразных сетей.
Молодые люди! Не сидите дома, выбирайтесь из цепких лап цифрового мира и выходите почаще на улицу. Встречайтесь с друзьями, гуляйте, наконец, просто оглянитесь вокруг: может быть, ваша судьба где-то рядом? Живите полноценной жизнью и дышите полной грудью, а главное – чаще читайте хорошие книги.
И будьте счастливы!
НОЧНОЙ ПОЛЕТ НА БОМБОМЕТАНИЕ
Курсантские полеты – как давно это было! На Ил-28 мы начинали летать с инструктором. Штурманская кабина этого бомбардировщика была большая, места хватало для двоих. Инструктор сидел сразу за моей спиной в катапультном кресле, а я на специальном круглом стульчике возле прицела. Вернее – на ранце своего парашюта, который находился на этом стульчике.
К маю 1975 года мы уже довольно уверенно летали и бомбили, как днем, так и ночью. Пора было выпускать нас в самостоятельный полет. Конечно же, он мог состояться только днем. Я знал, что в следующую летную смену меня выпустят самостоятельно, и с нетерпением ожидал этого момента. Но накануне командир роты поставил меня в наряд дежурным. На мои возражения он авторитетно заявил, что завтра полетов не будет. Пришлось заступить в наряд.
Когда же утром следующего дня я пришел в столовую, то сразу понял: полеты будут. В день полетов курсантов кормили по «реактивной летной норме», это было видно сразу по наличию на наших столах двух вареных яиц для каждого, шоколада и сока или фруктов.
После завтрака к нам в казарму заскочил командир эскадрильи майор Павличко:
– Будешь летать, если тебя заменят?
Мне не хотелось вот так сумбурно и бегом мчаться на полеты, и я ответил командиру, что не отдыхал, а нес службу и всю ночь не спал. Павличко тяжело вздохнул и, ничего мне не сказав, вышел из казармы.
Следующая летная смена состоялась через несколько дней и была полностью ночной. Опять не удастся слетать самостоятельно! Для меня был запланирован один полет с инструктором, штурманом звена капитаном Бряндиным.
На стоянке у самолета, уже перед самым вылетом, Бряндин вдруг спросил меня:
– Сам сейчас полетишь?
– Полечу! – не колеблясь ответил я.
Техник закрыл за мной крышку люка, и я впервые оказался в кабине один. Поудобнее устроился на стульчике. Кресло катапульты штурманы Ил-28 использовали только по прямому предназначению – для катапультирования, а основным рабочим местом в полете был тот самый стульчик. Развернув полетную карту с маршрутом, я разместил ее на чашке кресла, а навигационный расчетчик НРК-2 положил рядом с собой на пол кабины.
В кабине было темно, и лишь рассеянный свет от фонарей на стоянке очерчивал контур оптического прицела передо мной. По СПУ командир экипажа капитан Анисимов спросил меня:
– Готов?
– Готов! – бодро ответил я.
Запустили двигатели, и заработала бортовая электросеть самолета. Я включил освещение приборной доски и отрегулировал светильники на рабочем месте так, чтобы они не отражались на остеклении фонаря и не мешали вести визуальную ориентировку. Подсвеченные «уфошками», таинственно озарились зеленым шкалы и стрелки приборов, делая знакомый мирок штурманской кабины особенно уютным.
Летчик выпустил рулежные фары, и их свет выхватил из темноты бетон стоянки. Вырулили и покатились по магистральной рулежной дорожке на исполнительный старт. На полосе командир запросил разрешение на взлет и вывел двигатели на взлетный режим. Поехали!
Самолет, словно нехотя, тронулся с места и начал разгоняться – белые боковые огни все быстрее и быстрее проносились слева и справа от меня, а потом вдруг начали медленно уплывать под самолет. Мы в воздухе! Хлопнули створки шасси, погасли фары. Перед следованием по маршруту набираем высоту по схеме аэродрома. От руководителя полетов получили команду на занятие четного эшелона – значит, нам лететь на полигон Тобол, это юго-западнее Кустаная. На нечетных эшелонах борты следовали северо-восточнее, на Татьяновку.
Волнение, связанное с взлетом, прошло, и дальше я действовал по хорошо отработанной технологии: вел визуальную и радиолокационную ориентировку, по измеренным углу сноса и путевой скорости определял параметры ветра. Погода была простая – безоблачное небо и звезды над головой. Луна еще не показалась из-за горизонта, и земля скрывалась в бархатной темноте, но огни знакомых ориентиров вселяли уверенность в точном выдерживании маршрута. Кустанай остался сзади по правому борту: его скопление огней еще можно было увидеть, прильнув к боковому остеклению фонаря штурманской кабины. Мы летели по маршруту на эшелоне 4200 метров с крейсерской скоростью 500 километров в час.
Отдельная забота штурмана в полете на бомбометание с ПСБН-М – это его калибровка. Прибор слепого бомбометания и навигации был одним из первых отечественных радиолокаторов с минимальным уровнем автоматизации. В полете его надо было специально готовить к применению: калибровать масштабы отображения, регулировать уровень шумов отраженных сигналов и выделять на их фоне отметки от цели. От всего этого зависела точность бомбометания. Для калибровок по левому борту кабины находился специальный блок БО – блок отметчика, размером с хороший ящик. В него была встроена небольшая электронно-лучевая трубка, по которой и выполнялись все калибровки. Делали мы это, регулируя соответствующие шлицы на блоке специальной отверткой.
Боевой путь на полигоне Тобол выполнялся с магнитным курсом 270 градусов. С удаления 60–70 километров нужно было «высветить» на экране радиолокатора отметки цели и маркеров. Вместе они выглядели как треугольник, где целью была его вершина, обращенная навстречу самолету. В режиме бомбометания на экране отбивались курсовая метка и метка дальности, которые образовывали электронное перекрестие. То, что на экране отображалось как яркостные отметки, в действительности было тремя группами деревянных столбов, на вершинах которых крепились уголковые отражатели.
На высоте 4200 метров мне удалось обнаружить отметку цели и маркеров с удаления 50 километров.
– Цель, маркеры вижу! Выполняю прицеливание!
Капитан Анисимов доложил руководителю полетов на полигоне, что мы работаем по 20-й цели. Двадцатой целью назывались уголковые отражатели, а второй – вспаханный на земле крест в круге, для бомбометания с оптическим прицелом.
На первом этапе прицеливания выполнялась боковая наводка. Если отметка от цели «сползала» строго по курсовой черте, то боковая наводка считалась выполненной. При сходе цели с курсовой метки влево или вправо я останавливал это перемещение вращением рукоятки «Снос» на ОПБ-6СР, после чего подворачивал самолет рукояткой «Разворот» на оптическом прицеле так, чтобы курсовая метка снова легла на отметку цели. Обе эти рукоятки находились на одной оси, причем «Разворот» была внешней, а «Снос» – внутренней. Управление самолетом производилось через автопилот АП-5, сопряженный с оптическим прицелом ОПБ-6СР.
Перед выходом на боевой путь я рассчитывал угол сброса по высоте полета и уточненной путевой скорости и устанавливал его на оптическом прицеле рукояткой «Угол сброса». Метка дальности на экране ПСБН-М изначально соответствовала максимальному углу визирования прицела 78 градусов. В момент прихода отметки цели на метку дальности включал тумблер «МПС» (мотор путевой скорости) на ОПБ. С этого момента помимо боковой наводки начиналось прицеливание по дальности, то есть уточнялся угол сброса. Текущий угол визирования начинал уменьшаться со скоростью, пропорциональной путевой скорости самолета, при этом метка дальности все время должна была совпадать с отметкой цели. Если отметка цели сползала с метки дальности вверх или вниз, то рукояткой «Угол сброса» я останавливал этот сход (при этом уточнялся и угол сброса), а рукояткой «Угол визирования» накладывал метку дальности на цель.
На боевом пути о всех своих действиях докладывал командиру, который контролировал мои действия по специальной палетке. Когда боковая наводка и прицеливание по дальности были успешно выполнены, мне оставалось только подтвердить это коротким докладом:
– Цель в перекрестии!
И он был спокоен, и я: все идет по плану, бомбы упадут туда, куда надо. В хорошую погоду для летчика дополнительным подтверждением правильности захода были огни железнодорожной станции Тобол – левее и чуть ближе, чем полигон. Нам рассказывали, что были случаи, когда при бомбометании с оптическим прицелом огни станции путали с огнями цели на земле.
Немного отвлекся, а момент сброса все ближе и ближе! Двадцать градусов до сброса! На щитке бомбовооружения включил «Главный», «Селекторы» и доложил командиру:
– Главный, селекторы! Цель в перекрестии!
Десять градусов! Открыл створки бомболюка, а на ЭСБР (электросбрасывателе) уточнил порядок сброса – по одной или залпом сразу две – и доложил:
– Бомболюк открыт! Сброс залпом!
Пять! Взвел рычаг «Автосброс» на ОПБ:
– Автосброс!
Ноль! Текущий угол визирования совпал с уточненным углом сброса.
– Сброс! – Бомбы парой вывалились из бомболюка.
Сразу же закрыл створки и припал к фонарю кабины, стараясь разглядеть, как падают бомбы.
– Сработал двумя по двадцатой! – доложил руководителю Анисимов.
При ночном бомбометании у практической бомбы П5075 из донного очка начинает гореть магниевая смесь, подожженная специальным взрывателем. По этому огненному хвосту можно проследить за падением бомбы.
После сброса бомб наступают две минуты напряженного ожидания результата бомбометания. Наконец руководитель полетов сообщает:
– Азимут такой-то, удаление такое-то, – все относительно цели. В этот раз обе бомбы упали на оценку «отлично».
– Молодец! – похвалил меня командир. – А теперь пора домой!
На стоянке наш борт встретил Бряндин. Он, хоть и был уверен во мне, но тоже волновался. То, что я полетел один и сразу ночью, без дополнительной контрольной проверки, было грубейшим нарушением летных законов. Поэтому в моей летной книжке все записано «правильно»: и контрольную проверку я якобы прошел, да и первый самостоятельный полет из ночного чудесным образом превратился в дневной. Все как надо!
Капитан Анисимов, похлопав меня по плечу, сказал Бряндину:
– Толковый штурман, уверенно летает!
Дальше до самого выпуска из училища я летал только самостоятельно.
Штурман звена капитан Бряндин был высоким, крепко сбитым и добродушным, уверенным в себе человеком. Он у меня ассоциировался с Волком из мультфильма «Ну, погоди!» Даже подшлемник у него был эксклюзивный, сшитый на заказ из цветастого ситчика.
Как-то раз во время полетов мы стояли рядом на стоянке и, задрав головы, наблюдали, как над нами, басовито гудя и оставляя за собой инверсионный след в голубом небе, величаво проплывал Ту-114, выполнявший рейс из Алма-Аты в Москву. Бряндин долго задумчиво смотрел ему в след, а потом повернулся ко мне:
– Вот на таком самолете будешь летать!
– Нет! – ответил я ему. – Хочу летать на Як-28, а еще лучше, на Су-24.
Мой инструктор в чем-то оказался прав: мне пришлось много летать на Ту-142, военном аналоге Ту-114, и на других тяжелых кораблях. Но и Як-28 с Су-24 также не обошли меня стороной.
ГОСПОЛЕТ
Венцом летной подготовки в военном авиационном училище был государственный экзаменационный полет. Его отлетывали в конце восьмого семестра, когда завершалось теоретическое обучение. После госполета впереди были только выпускные государственные экзамены или, как мы их называли – «госы».
У нас, кустанайцев – тех, кто учился и летал на четвертом курсе в Кустанае, все вышло иначе. В конце мая 1975 года нам сообщили, что летную программу мы должны закончить в июле и сразу же выполнить государственный экзаменационный полет. После чего нас отправят в Челябинск, доучиваться по программе восьмого семестра. Причина этих радикальных изменений в нашей курсантской жизни была в том, что кустанайский учебный авиационный полк расформировывался, а его самолеты передавались в Оренбургское летное училище. Сюда же перебазировался боевой бомбардировочный полк дальней авиации на самолетах Ту-16 из Калинина (ныне Тверь). Этот полк становился учебным авиационным полком нашего Челябинского штурманского училища. И уже в октябре он должен был принять новых курсантов четвертого курса и приступить к полетам с ними. Поэтому и возникла такая спешка с завершением нашей летной программы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



