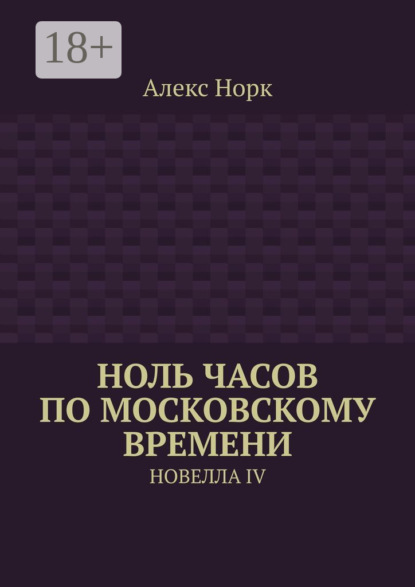
Полная версия:
Ноль часов по московскому времени. Новелла IV

Ноль часов по московскому времени
Новелла IV
Алекс Норк
© Алекс Норк, 2020
ISBN 978-5-4498-1351-0 (т. 4)
ISBN 978-5-4496-0587-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Продолжение серии по следственным материалам Дмитрия Шадрина.
Как и для предыдущих новелл: не рекомендуется читать любителям чисто детективных историй и людям с тонкой скрепно-духовной психикой.
Отец и брат уже дважды побывали в России, а я откладывал визит и отправился лишь совсем недавно.
Ненадолго.
И планировал ненадолго, потому что оба сородича укорачивали свое пребывание, возвращаясь, без неожиданных каких-то причин, раньше срока. И без внятных объяснений. Просто, вроде как, «чувство возникло – нечего там, особенно, делать». Про «особенно», впрочем, ясности добиться не удавалось, а тем более – в планах такого ничего и не значилось.
Надо вспомнить, «не тяга» на родину вообще характерна для разных поколений нашей эмиграции.
Советская власть, в смысле возвращения, иногда напрягалась, а особенно после Второй мировой войны: заманивали Бунина, Бердяева, гениального шахматиста Алехина, и вообще: «ждем всех-всех…»
Некоторые купились, но из крупных имен – никто.
Хотя колебались.
Бердяев прочитал лекцию в советском посольстве, что считалось знаком крайней лояльности, Бунину уже запустили в печать сборник избранных произведений, Алехину предлагали хороший гонорар (а он реально нуждался) за матч с Ботвинником, другим тоже что-то…
Нет, соскочили!
И тогда Родина сурово сдвинула брови.
Она у нас и при ответной любви может по кому угодно проехать, а тут такая бесчувственность.
Оттянулись на вернувшихся и тех, кто оказался на оккупированных территориях: знаменитого певца Петра Лещенко схватили в Румынии прямо после концерта – скоро расстреляли, и посадили за решетку его жену. Коллегу Бердяева философа и историка Л. П. Карсавина арестовали в Прибалтике, когда тому было уже под семьдесят, – умер через два с половиной года в лагерях. А большинство добровольно вернувшихся пересажали, и не все дожили в заключении до амнистии 53-го года.
Добрые люди уже говорят: «Это ж когда-а? Да еще Сталин!»
Стоп-стоп, могилу кровопийцы каждый год в декабре и марте заваливают цветами, причем в большинстве это делают граждане, бывшие при нем только подростками или еще не жившие; в очереди стоят, и цветы несут за собственные деньги. А в конкурсе «Имя страны» Сталин оказался на втором месте, хотя по слухам – его сдвинули вниз для Александра Невского.
Удивительно (даже если убрать/?/ уничтожение миллионов): маленький, рыжий, с щербатым противным нерусским лицом, с сильным акцентом и отсутствием каких-либо ораторских качеств – он стал предметом трепетного поклонения именно, и прежде всего, русских людей. В отличие от Гитлера, сумевшего быстро наращивать благосостояние простых немцев, Сталин ничего не делал в этом направлении. Напротив, коллективизация разорила деревню, и все тридцатые годы она пребывала в такой бедности, что многие говорили: «стало полегче, когда немцы пришли».
Кошмарный поток похоронок во время Войны.
А после – несколько лет беспощадной эксплуатации аграрного населения, около 2 миллионов смертей от голода; это там, где продовольствие и производилось – крестьяне получали пищевой мизер на трудодни.
А вот такой документальный штрих к портрету той страшной эпохи.
Старший на полпоколения коллега отца рос простым сельским парнем.
С Войны в их колхоз не вернулся никто.
Это в кино у нас любят показывать как мужчины возвращаются после победы, женщины, рыдая от счастья, встречают, а какая-то ищет глазами среди новых прибывших любимого своего и… опять не находит.
Всё было прямо наоборот: множество уже уставших ждать глаз, и редкие вернувшиеся счастливчики. «Повезло одной на три села вокруг», – из стихов Роберта Рождественского про мать, к которой вернулись оба сына. Нереальная почти ситуация.
И вот этот пятнадцатилетний парень вместе с матерью запрягались для вспашки – принудительно, разумеется, – выполняя роль лошадей, которые тоже были использованы на фронте. Сзади шел и давил на плуг старичок. И на других таких же сельчанах пахали, то есть женщинах и подростках; а норму надлежало выполнять и по глубине, и по площади вспашки.
Через два года мать померла именно от того, что в народе называется «надорвала сердце» (точнее образа и не сыщешь), а парень заработал выпирающие венами ноги. Высокий, сильный – хотел студентом заниматься волейболом, а ему: «ты аккуратнее себя веди, а то тромб оторвется – и улетишь». И жил уже дальше с больными ногами.
«Мы поднимали страну!», – заявляет очередная коммунистическая морда, прекрасно устроившаяся при новом режиме. Это, что, у него с молодости венозные ноги и умерла мать не дожив даже до сорока?
И еще громче: «Мы делали ракеты! Первыми вышли в космос!»
Вы вообще ни хрена не делали, а занимались так называемой «руководящей партийной работой».
Делали друзья моего отца, которые в молодости пошли в физические и технические науки, и среди моих одноклассников есть такие же люди с докторскими степенями, только они уже… да, делают то же самое, только в других точках земного шара. Не потому ли, что Россия опять переоделась, и неважно как называются новые морды?
Однако откуда они? С Марса, из специальных питомников?
Мы уже писали в третьей новелле – откуда. А сейчас нужно только немного добавить.
История… память…
Что между ними общего?
Это просто одно и то же.
У народа нет памяти в психофизиологическом (человеческом) смысле. Его память – история.
Здесь стопроцентная аналогия, если не сказать тождество: человек знает о себе памятью, народ – историей.
И ни у кого в мире не возникает вопрос – нужно ли, и зачем, знать свою историю?
Только на российском телевидении такое могут много раз обсуждать.
Если вы не собираетесь ничего менять, необязательна и история; как туповатому человеку рефлексия – «ну, живу и живу». Но при желании изменений к лучшему, надо знать что именно изменять, то есть знать историческую наличность, потому что она и есть точка координат, из которой возможно движение. И понятно какое – вперед.
Но что такое «вперед» для человека, как не исправление своих недостатков? Об этом говорил и Христос; и почти все заповеди говорят, чего не делать.
Конечно, в конкретных социальных областях «вперед» означает развитие чего-то хорошего уже существующего.
Однако в идейном плане это всегда движение от минусов к плюсам.
Но как? Возможно ли оно не через точку ноль?
А данная точка – ни что иное как норма.
Не надо орать про великое без исторического состояния нормы.
Мы вообще эту станцию проезжали?
Или я просто заспался, когда вы там покупали пиво и сигареты…
В Европе телевизор показывает, в том числе, всё российское.
Но оно «по ту сторону экрана».
А приехав в Россию я оказался «по эту», и очень скоро понял про досрочные возвращения отца и брата.
Вернее, почувствовал.
Нет, никто не лез ко мне с разговорами в духе известных политических шоу, ничего такого конкретного, а только общее… про ауру еще в таких случаях говорят.
Чем она ощущается строгая наука ответить не может, а я, по-простому, попробую.
Мы видим спектр цветов – от красного до фиолетового, однако не весь, существуют еще инфракрасный и ультрафиолетовый.
Их мы не видим.
Но они есть.
Причем известно, что элементарно в нас проникают.
Я за недолгий московский срок несколько раз слышал как, в ответ на детские просьбы, матери отвечали: «у нас денег нет», «у нас мало денег»… А вот в позднее советское время такого не слышал – мороженное или пирожок были мелочью для родительского кармана.
Тут сравнение, сразу оговорюсь, не в пользу прошлого, а в минус сегодняшнему.
Каково ребенку жить в ощущении, что мелкая радость ему недоступна, в какие частоты инфра оно попадает?
А вот, разожратый мужик взял бутылку водки.
Сейчас вмажет у телевизора и порадуется как «мы» снова кому-то впендюрили, хоть бы и на словах – всё равно душу греет… душу?
И лекарства, которые не что покупать…
Обида-безрадостность-злоба сливаются в невидимую инфра.
А лучше, чтобы она была видимой, потому что невидимый убийца многократно опасней.
Можно еще взглянуть «медицински»: лечить эффективно болезнь врачи способны лишь точно ее установив. А как лечить хворого, но психически мало нормального, который на всех углах кричит: «я самый сильный и самый-самый, я великий и всех победю!»? Причем, это не подросток, а крупный детина, да еще норовящий в любой момент схватиться за кол.
И вот ощущение коллективного этого «самого-самого» у меня возникло и, по мере пребыванья в Отечестве, усиливалось.
Охлосные чуваки очень любят вообще во всём отводить от себя стрелки, но особенно любят хоть чем-то себя уважать. Поэтому, отгоняя справедливые, даже для последнего их дурака, сомнения, принимают и аплодируют давно изношенной поговорке: «Мы русские – духовные! За это нас ненавидят».
Ненавидят? За это?
Каким образом тем «бездуховным» на Западе наша духовность (если такая есть) мешает ходить в магазины, не отказывать себе в кафе-ресторанах, отдыхе на пляжах теплых морей… а самые нас ненавидящие посещают картинные галереи, многочисленные концерты серьезной музыки, где, чаще чем на родине, выступают лучшие российские исполнители… наука тоже валит вовсю к бездуховным – каким образом, возникает для стороннего наблюдателя законный вопрос, – каким образом всё это вместе укладывается в охлосной голове?
Попробуем что-то в ответ сказать.
В удивительном по смыслу и художественной силе романе Чингиза Айтматова «И дольше века длился день» (позже переназвали «Бураный полустанок») в страшном финале описан манкурт.
Два слова – как из людей его делали.
Связанному пленному перетягивали мокрой материей верхнюю часть головы, и высыхая она давила голову до обморочного состояния. Охочие к подобным экспериментам азиаты довели эту технологию до совершенства, и после некоторого количества процедур выживший пленник не только полностью терял память, но и обретал безразличное ко всему послушание: «подай-принеси», «сторожи», «чужого убей». Он и убил свою мать, которая, скитаясь, его искала.
Современные информационные технологии позволяют то же самое делать без мокрых бинтов и физической боли. А конкретный прием лучше всего иллюстрируется словами доктора Геббельса; нет, не про чудовищную ложь, в которую люди охотнее всего верят, – здесь доктор увлекся и допустил перегиб (про «во что охотнее верят» мы скажем дальше). Есть другое, и абсолютно инструментальное, высказывание: «Скажите людям тысячу раз, что Земля не круглая, а квадратная… нет, они не начнут думать, что она квадратная, но перестанут считать, что она круглая». Нетрудно переформулировать без метафор: скажите про нечто скверное, что оно очень хорошее; а про хорошее наговорите гадостей; сделайте так тысячу раз и… скверное будет считаться хорошим – ну, с отдельными недостатками, а хорошее – да, таким раньше казалось, но какое-то оно… нет, не надо.
Еще момент: средний человек (справедливо не слишком в себе уверенный) очень боится оказаться вне общей массы.
Особенно, если это «чревато».
Поэтому его манкуртизация происходит в трех направлениях:
убрать память-историю, где содержится много негатива, в том числе побуждающего к опасным с современной жизнью сравнениям;
вложить в пустоту кичливую самодостаточность, величие и окруженность врагами – методом доктора Геббельса;
тем же методом убеждать, что все граждане одинаково: думают, верят, готовы как один спасать себя от кругом-врагов; а вторым голосом неласково при этом звучит: «ты что, не как все?»
В чисто же прикладном плане манкурту приказывают то самое: «подай-принеси», «работай», «терпи – денег нет» и «убей в Гваделупе – тебе покажут кого».
Наивные заявляют: но это же не заменит нормального питания, жилья, медицины.
На некоторое время заменит.
Ненадолго?
Да.
Но на долго, при ловкости рук, и не требуется.
* * *
Конечно, в первый же день по прилету я встретился с Лешей.
Однако не после большой разлуки.
Он пару раз в год наведывается в Европу – иногда к нам на Сардинию, но чаще мы где-то пересекаемся.
Леша давно уже «снял шинель» и работает у Аркадия, а точнее – руководит одной его «дочкой».
Встретились мы вечером, в одном симпатичном заведении, куда, по словам Алексея, «не пускают с улицы всякую дрянь».
И действительно, в полузаполненном зале было очень благопристойно.
Ощущалась некая общность, и мой друг два раза с кем-то здоровался.
– Слушай, тут прямо перед твоим приездом событие одно…
Леша приостановился подыскивая слова, а я, вспомнив вдруг брата, напрягся: «там настороженность ко всему нужна».
– Что-то не слава богу?
– Нет… теперь оно нам только в архив – похоже, висяк раскрылся, который у нас в девяносто третьем был. Помнишь?
Я сразу вспомнил:
– Ты про отравление? На Садовом кольце, на Житной?
– Ага.
* * *
93-й.
Год замечательный в постсоветской истории.
Потому что замечательно гнусный.
И нельзя хотя бы коротко о нем не сказать, тем более – о нем говорят очень мало, потому что именно оттуда стартовали многие персонажи сегодняшней политической сцены, в том числе – некоторые современные оппозиционеры, которые оказались тогда в шоколаде, а потом пошло «мимо денег» – обидели их не пустив в новый режим; и конечно, тогда же родились различных размеров финансовые мешки.
И еще одно, впрочем, самое главное: жуткий разгул преступности – самой разной, и в самых крайних своих выражениях.
Если мошенничество, то в максимальных размерах, полном бесстыдстве и при такой же полной безнаказанности; а бандитизм быстро складывался в организованные преступные группы со своими снайперами, подрывниками, адвокатами и прикрытием низовых милицейских органов, а иногда и не очень низовых.
На всё это «русское чудо» потребовался лишь один 92-ой год, так что к 93-му, когда развернулась приватизация более или менее крупной собственности, Родина вполне приготовилась; ну и к отъему собственности уже состоявшейся.
«А что же, – спросят молодые еще тогда плохо чего понимавшие, – что же власть? Новая, демократически выбранная, как бы – народная… куда власть смотрела?»
Туда же и смотрела: где деньги и как их взять.
И не «кто-то кое-где», а девяносто с лишним процентов – про остаток можно спорить, но он просто смешной; хотя тем из него немногим было совсем не до смеха: белые вороны в стае не живут – их быстро заклевывают, и тут сравнение отнюдь не в фигуральном смысле.
«Что же, мы все нечестные?» – обидится уличный патриот. (Бюджетный патриот не обидится – он про себя всё знает).
Успокоим немного уличного, прежде чем снова обидеть.
Как раз в конце 92-го года в газете «Аргументы и факты» появилась заметка одного работника московской прокуратуры, где он сказал примерно следующее: «Да, коррупция расцветает и затронула некоторых моих товарищей. Честных, представьте себе. Ранее не только не замеченных, но и не помышлявших о взятках. Однако то что сейчас иногда предлагают, не подходит под привычное понятие взятки. Это суммы, которые ломают психику!»
Я дальше от себя в виде детских картинок «раскрась сам».
Прокурор, пусть – советник 3-го или 2-го ранга (то есть майор, подполковник), живет в двухкомнатной квартире с женой и двумя подрастающими детьми; он даже еще на улучшение не очередник. Родители пожилые во Владимире, возможно и в деревянном доме. Хорошо еще – никто не болеет, но никуда не денешься от такой перспективы. Жена – учительница в школе, а зарплаты тогда в прокуратуре были немногим больше среднего по стране. И гайдаровщина двинула цены вверх так, что многих товаров просто не купишь.
А прокуратура всегда в курсе дела, и происходящее – дикое во всех смыслах обогащение – у сотрудников на виду.
Вот, например, приватизация «в одни руки» стадиона Лужники – целиком, стотысячного, со всеми внутренними помещениями… это как? да хоть просто салон-парикмахерская в центре города – с чего вдруг какой-то бабе? и прочее-прочее, так что, едва успеваешь вздрагивать.
А это, говорит пропаганда ельцинского режима – гайдары-чубайсы (которых полтора года назад нельзя было рассмотреть даже в лупу), это чтобы исключить возврат к коммунизму.
«Спасибо, – думает прокурор, – за такой невозврат. Только получается, я в очереди за бутылкой пива с такими же дураками стою, когда в открытую весь винный магазин выносят».
И вдруг предлагают ему…
Да! и детям на квартиры хватит, и родителей лечить, и еще много останется.
Леша прочитал вслух ту статью в «Аргументах», за нашим служебным чаепитием, и после небольшого молчания Михалыч без особой иронии произнес: «Что-то никто нам ничего не предлагает».
Строго говоря, психологическая такая ситуация не про нашего отечественного прокурора, а вообще про прокурора.
Люди – они везде люди…
Да?
Или нет?
А вот вы сейчас удивитесь, потому что ответить нам поможет известный сатирик Михаил Задорнов.
Все знают его любимую тему: американцы – тупые, а мы самые-самые – во всем.
Вот в одной из таких тематических разработок он выбрал «умственное» наше превосходство.
И рассказал.
В Америке автоматы для прохода в метро настроены на металл, а не на размер монеты. Этот факт быстро привлек к себе русскую иммигрантскую мысль.
А дальше: легким движением руки (с зубилом) монета превращается… превращается монета… в три или четыре проезда на американском метро.
Затем, под счастливый смех зала, сатирик отмечал, что тупые американцы до такого решения не доперли: «За сорок лет не доперли! Ну, ту-пы-е! А мы, русские, сразу разобрались!»
А теперь позвольте пофантазировать.
На концерте в Германии некий немецкий сатирик рассказывает такую же точно историю, но только – про немцев в Америке…
Не стану описывать реакцию зала, но рецензии в газетах следующего дня появились бы, уверен, с такими названиями: «Негодяй, позорящий нацию», «Лживый шут», ну, и что-нибудь такое еще.
Да, и обязательно фотография – чтобы узнавали на улицах.
Впрочем, ведь искони говорят на Руси: «что немцам смерть, русским здорово».
Вот это самое здоровье нации, которое для других смерть, и стало вовсю себя демонстрировать. В том числе, заказными убийствами и угрозами таких действий с целью, разумеется, вымогательства.
На эту именно тему мы и открыли то следственное производство весной 93-го, и теперь перейдем к нему, оставив пока общие, так сказать, того времени безобразия.
«Новые русские» – их тогда называли.
А теперь льстиво величают «элитой».
Эта, выросшая в советской коммунальной тесноте шелупонь, первым делом стала закупать квартиры, размерами, много превышающими реальную жилую потребность, – совершенно как сильно оголодавший человек начинает, дорвавшись, лопать сверх всякой меры, и может даже – до заворота кишок. Осуждать, понятно, несчастного за такое нельзя, и мы тоже квартирных обжор осуждать не будем, тем более – у них у всех есть «другое за что».
Главными объектами Москвы, явились, конечно же, сталинские дома.
У них тоже есть свой ранжир, верхнюю строчку в котором занимают те строения внутри и вдоль Садового кольца, которые создавались не по типовым, а, в основном, по специальным проектам. И еще дома на нескольких главных проспектах.
В первой половине 90-х загородное дворцово-коттеджное строительство только осваивали, и привычка жить там еще не сложилась. Ну и пустоватая инфраструктура была – это сейчас там рестораны, концерт-холлы, бутики, педикюры и парикмахерские для собак… Не утонченная была еще эта публика, и даже, не будет ошибкой сказать – простоватая.
Вот сразу популярный тогда анекдот.
Встречаются два новых русских: «Я тут квартирку на полторы сотни метров купил. У тебя нет для ремонта хорошей бригады евреев?» – «Русские есть. Зачем тебе евреи?» – «Так я ж евроремонт делать хочу».
И это даже не совсем анекдот.
Сигнал мы получили в конце рабочего дня, и не от местного отделения, а из Администрации Президента – еще не до конца тогда оформившейся организации (вполне встанет на ноги после осеннего расстрела Белого дома), но уже очень наглой.
Пострадал родственник кого-то из тамошних главных, точнее, не он сам… впрочем, теперь надо обо всём подробно.
…
Звонок был нешуточный, поэтому группу возглавил Михалыч; и как «по особым случаям», нацепил на майорский мундир наградные колодки.
Вместе с экспертами двинули на двух машинах.
Конец апреля.
Как оживает уже легко одетая в это время Москва, вдруг хорошеют и улыбаются лица, сколько, оказывается, у нас привлекательных женщин, стройных фигур, плохо заметных под теплой одеждой, истосковавшихся себя показать… Москва уже не спешит домой… много гуляющих…
вот сейчас на Васильевском спуске…
…
а теперь на Ордынке…
Теплый, забытый почти за зиму ветерок через приоткрытые окна автомобиля словно приглашает нас в новую жизнь… и все мы, москвичи, одинаково ожидаем хорошего в эти прекрасные, ставшие длинными дни…
Нет, не все.
Сейчас выскочим через Добрынинскую на Садовую, и впереди у нас труп.
Предварительно знаем только – жена бизнесмена, у которого родственник из президентских людей.
Мы, конечно, в курсе про спайку новой власти и капитала, но сейчас не про то.
Встречают сразу у подъезда.
Молодой человек, по виду – охранник.
Свернутый пополам листок протягивает:
– Заключение врача скорой помощи, они только уехали.
– Тело не трогали? – беспокоится кто-то из наших.
– Нет, только сердце послушали, посмотрели зрачки.
…
Выйдя из лифта, оказываемся не на обычной площадке, а в приятно отделанном деревом холле, два вазончика с чем-то растущим-зеленым, столик, два кресла.
Из одного быстро встает другой охранник и вытягивается перед Михалычем:
– Прошу, товарищ майор.
Сбоку большая внутрь открытая дверь.
– Что, весь этаж ваш?
– Три квартиры в одну, товарищ майор.
Квартиры в таких домах не маленькие, у меня по соседству в Лаврушинском двое одноклассников в подобном живут – квартир-однушек там вообще нет.
Лифт ушел за второй нашей группой, а Михалыч показывает идти не дожидаясь.
Что-то вроде большой прихожей… встретивший охранник показывает куда дальше…
Ох, и творили «новые русские», создавая себе, с жиру бесясь, хоромы – даже куски несущих стен убирали; и такие «реконструкции» им столичные контрольные органы утверждали в течение суток; по действующим, конечно «черным», тарифам, а для посреднических услуг образовалась целая сеть частных фирм: юридически – уголовщина от старта до финиша.
То есть Коммунистическая идея терпела от «свободного рынка» разгромные поражения по всем направлениям, потому что… а какая в казарме вообще могла быть идея?
…
Входим в большую комнату… правильнее – небольшой зал… кроме дневного света – еще верхний… глаз схватывает без деталей дорогую светлых тонов обстановку… длинный красиво сервированный, и с цветами стол… в полукресле женщина с откинувшейся в сторону от нас головой… молодая, кажется… а дальше, справа в углу, несколько человек… женщина, трое мужчин, все смотрят на нас… какое-то на небольшом столике там питье…
Мужчина средних лет отделяется, делает пару шагов в нашу сторону… хрипловато с усилием выговаривает:
– Моя жена.
Михалыч произносит соболезнование, начинает нас представлять, а я слышу голоса прибывших.
Но не нужно, чтобы они сейчас все вваливались:
– Леш…
– Понял, сейчас скажу.
Стол, замечаю, из непростого какого-то темного дерева, на гнутых ногах – антиквариат… или новодел под него. А тело женщины немного сдвинуто вниз – словно вскинулось резко сначала и сразу осело…
Из многих по курсу криминалистики фото явилось внутреннее ощущение – быстрая смерть от удушья… секундная какая-то…
Лешка вернулся, поворачиваю к нему голову и шепчу:
– Цианид.
– Помажем? Я на остальное.
– Графин?
– Лады.
Графин пива – стандартная у нас единица.
А вообще, конечно, цинизм.
Но в ментовке без него невозможно – он как защитный скафандр. Ну, не совсем защитный, однако внутрь гораздо меньше, все-таки, проникает.
Михалыч, отдать надо должное, тактические решения принимать умеет.
Предлагает отличный сейчас выход из многолюдной ситуации: «В квартире, наверное, есть еще просторная комната?» – «Вот, соседняя» – «Тогда, не возражаете, оставим эту экспертам?»



