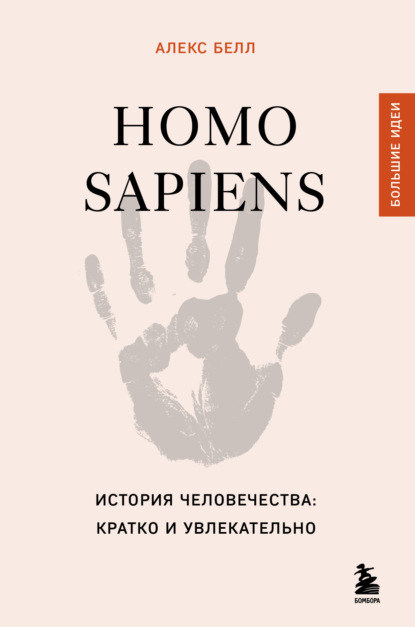
Полная версия:
Homo sapiens. История человечества: кратко и увлекательно
Насколько высок был интеллект неандертальцев? Это тоже предмет дискуссий. В любом случае, он был намного выше эректуса, но ниже современных ему сапиенсов. Они (возможно, впервые в истории) демонстрировали зачатки того, что с натяжкой можно назвать человеческой культурой. Неандертальцы собирали коллекции необычных раковин; выцарапывали на костях животных силуэты других животных. Первыми стали круглый год носить одежду (правда, обходились без обуви); красили рыжей охрой разные предметы и свои тела (для красоты или как боевую раскраску – неизвестно). Использовали плетеные веревочки, на которых подвешивали предметы в пещерах; украшали одежду большими перьями птиц. Появилась простейшая медицина: они умело вправляли вывихи и давали срастаться костям; пытались лечить и другие недуги, разжевывая лекарственные растения. Летом неандертальцы разнообразили мясной рацион злаками и рыбой (вероятно, даже научились плести простейшие сети).
Было ли у неандертальцев что-то вроде культа, религии? Вопрос не праздный, так как это означало бы наличие у них образного мышления. Об этом ведутся споры. У входа нескольких неандертальских пещер обнаружены аккуратно сложенные кучи черепов пещерных медведей. Одни ученые считают, что это были простейшие культовые «обереги пещеры от злых сил», нечто из области фантазии и суеверий. Другие цинично полагают, что такие головы использовались просто как питательные консервы (мозг внутри черепа в морозную зиму может храниться месяцами).
С точки зрения цивилизации, в быту неандертальцы были людьми грубыми и неопрятными. Мусор выбрасывали прямо в пещерах; несмотря на то, что хорошо владели огнем, зачем-то часто ели сырое мясо. Своих покойников толком не хоронили, а лишь присыпали тонким слоем земли.
Неандертальцы были хорошими семьянинами: жили и кочевали небольшим кланом (генетические анализы показывают, что обитатели одной пещеры обычно были близкими родственниками), трогательно заботились о пожилых родителях. Но в отношении соседних кланов они, напротив, были жестокими, непримиримыми врагами. Был широко распространен каннибализм. В неандертальских пещерах находят кости неандертальцев, съеденных своими соплеменниками. Плотность расселения их по Европе была невысокой, охотничьих угодий (до появления сапиенсов) хватало всем. Но в голодные времена, очевидно, члены одного семейного клана брали копья, дубины и направлялись на поиски соседей: затем победители утоляли голод побежденными.
Умели ли неандертальцы ясно, членораздельно говорить? Это интересный вопрос, по которому у ученых снова нет согласия. С одной стороны, они сами и их мозг были достаточно развиты для этого. Строение гортани – хуже приспособлено для речи, чем у нас, но все же физически говорить они могли. Вероятнее всего, это была почти речь (так же, как и их культура была «почти культурой»). Небольшое количество простейших коротких слов, произносимых грубо, резко или хрипло; темы их общения, вероятно, тоже были очень узкими и сугубо практическими. Правда, есть антропологи, уверенные, что неандертальское общение вообще нельзя назвать человеческой речью, даже самой простой: скорее оно напоминало полубессмысленное мычание современных умственно отсталых людей. Точную истину в этом важном вопросе установить сегодня трудно.
Сколько неандертальцев на пике их культуры населяло Европу, мы тоже точно не знаем. По одним оценкам, их было совсем мало: 10–12 тысяч (население маленького городка); по другим – 40–50 тысяч. В любом случае, их популяция была небольшой. В период с 70 до 50 тысяч лет назад (пик эры оледенения) Южную Европу населяли только они; им же принадлежат наиболее развитые орудия охоты и предметы быта из всех известных нам в мире культур того времени.
А затем неандертальцы, неожиданно быстро по меркам истории, полностью вымерли. Уже к периоду 47 тысяч лет назад стоянки неандертальцев встречаются намного реже. 40 тысяч лет назад – исчезают полностью. Некоторые считают, что последние редкие неандертальцы еще бродили по Европе 32–35 тысяч лет до н. э. Так или иначе, самое позднее 30 тысяч лет назад последний, самый близкий к нам генетически и культурно другой вид людей навсегда исчез с лица Земли.
Причина этого до сих пор точно не установлена (всего ученые выдвинули около ста версий!).
Самое простое и, казалось бы, очевидное объяснение, лежащее на поверхности: 50 тысяч лет назад юг Европы начали активно заселять пришедшие сюда из Африки более многочисленные и развитые сапиенсы, уничтожившие в итоге конкурентов. Проблема этой версии в том, что пока не найдено ни одного серьезного вещественного доказательства того, что эти две мощные ветви человечества вообще встречались. Не говоря уже о том, чтобы воевать и убивать друг друга. В недолгие по историческим меркам несколько тысяч лет, что они жили в Европе вместе, ареал обитания этих видов был строго разграничен: более теплолюбивые сапиенсы селились на юге современной Испании; неандертальцы – на севере Франции и юге Германии. Наверняка были случайные контакты. Еще более вероятно то, что отношение чужаков друг к другу было крайне настороженным или враждебным. Но массовых войн, «кровавого геноцида неандертальцев сапиенсами», по следам в археологии мы (пока?) не наблюдаем.
Возможный ключ к разгадке лежит в изучении останков поздних неандертальцев. Кажется, что они просто генетически вырождались: состояние костей даже молодых особей было бедственным. Возможно, верна теория о слишком близкородственном скрещивании, постоянно ухудшавшем генофонд этих почти-людей. Нельзя исключать эпидемии, невольно принесенные сапиенсами из южных широт; резкое снижение популяции носорогов и медведей, бывших основой их рациона. Скорее всего, имела место комбинация указанных причин, ставшая для них в итоге фатальной.
Разумеется, если когда-нибудь, с развитием археологии, мы наткнемся на страшное поле битвы, на котором вперемешку будет лежать сотни искалеченных скелетов сапиенсов и неандертальцев, сошедшихся в последнем бою, то мировая наука, возможно, вернется к версии «геноцида».
Осталось ли что-то на Земле от неудачливых неандертальцев сегодня? Как ни странно – да. Долгое время исследования генома современных людей показывали, что он на 4–5 % состоит из генов неандертальцев. Наука объясняла это тем, что небольшой процент неандертальцев все-таки ассимилировался: случаи скрещивания их и сапиенсов были (хоть и нечасто). Однако более точные методы в последние годы снизили оценку доли генов неандертальцев у нас примерно до 2 %. А такая доля генов могла достаться и нам, и им еще полмиллиона лет назад от нашего общего древнего предка – эректуса. В таком случае, скрещиваний видов не было, и неандертальцы канули в историю не только безвозвратно, но и почти бесследно. Снова версии антропологов расходятся…
Для нас же – самое время внимательнее посмотреть на тех, кто унаследовал Землю. На наших прямых предков вида Homo sapiens.
К сожалению, на главный вопрос: как произошло, что из древних туповатых, хотя и стройных, спортивных эректусов вдруг возник сверхинтеллектуальный род современных людей, наука ясного, убедительного объяснения не дает. Точнее, дает, но со стороны это объяснение кажется чрезмерно общим и упрощенным.
Мы не знаем до конца, почему возник Homo sapiens с его особыми способностями. Но мы хотя бы довольно достоверно знаем, где и когда это произошло.
В Африке, 200–250 тысяч лет до н. э.
Находок первых, африканских сапиенсов до обидного мало. За всю историю археологии мест их обитания и захоронений в приличном состоянии в разных регионах Африки, относящихся к интересующему нас широкому отрезку времени от 250 до 50 тысяч лет до н. э., обнаружено всего пять или шесть (еще несколько мест обитания сапиенсов той поры вроде бы найдены в Азии, но каждая из таких находок вызывает у ученых скепсис).
Что же мы имеем в Африке? Самые интересные раскопки находятся в Марокко. Здесь, в небольшой пещере посреди пустыни, найдены четыре слоя захоронений людей, датируемых от 150 до 200 тысяч лет до н. э. Анатомически – это уже вполне сапиенсы, то есть мы с вами. В могилах также обнаружены искусно выполненные резные каменные наконечники копий, показывающие, что по сравнению с эректусами эти люди были несколько более развиты. В более поздних раскопках в Африке (120 тысяч до н. э.) впервые находят костяные орудия; примитивные бусы, резьбу на раковинах: еще некоторый прогресс налицо. Но все же пока это еще далеко не «взрыв».
О том, как жили, чем дышали, как охотились и развивались все существовавшие в мире особи Homo sapiens в огромный отрезок с 250 до 50 тысяч лет назад до н. э (а именно тогда и зародился наш интеллект, а с ним и культура, ценности, интересы) данные археологии крайне скудны.
К счастью, ценную помощь в исследовании той эпохи в последнее время оказывает генетика. На основе анализов генома нескольких миллионов современных людей с помощью сложнейших методов из области биологии и математики удается проследить цепочки генов наших предков.
И вот что стало известно. Корни всех современных людей тянутся географически к прародителям, жившим в саваннах Восточной Африки около 200 тысяч лет назад. Научно доказано, что у человечества были свои «Адам и Ева» (почти как в Библии). Однако эти Адам и Ева хоть и жили в одном регионе, но совершенно точно не были лично знакомы: их разделяют многие тысячи лет.
Дело в том, что мы можем отследить женскую линию наследственности в женщинах (по X-хромосоме), и мужскую – в мужчинах (по Y-хромосоме). Установлено, что в генетическом коде всех ныне живущих женщин есть гены неизвестной нам одной женщины, жившей в Восточной Африке около 200 тысяч лет назад. Схожим образом, в геноме всех мужчин мира есть гены одного мужчины, жившего примерно там же, но намного позднее: примерно 120 тысяч лет назад.
Как получилось так, что наши Адам и Ева сильно разошлись во времени, объясняется сложными математическими расчетами, в которые мы вникать не будем: для краткости просто поверим им.
Те же генетические исследования выявили и другой важный, интересный факт: около 70 тысяч лет назад вся мировая (в то время африканская) популяция Homo sapiens прошла через так называемое бутылочное горлышко. Она катастрофически сократилась: в какой-то момент – до двух тысяч человек (их можно было бы уместить в одном крупном многоквартирном доме). Другими словами – наш с вами вид был на волоске от вымирания. Наверняка это было связано с последствиями того самого страшного извержения вулкана Тоба, после которого Европа по климату стала Арктикой, а Африка – скажем, Скандинавией. Очевидно, к такому повороту событий привыкшие к тропической природе и жаркому климату древние сапиенсы были не готовы. Что именно происходило тогда и каким образом они все-таки уцепились за жизнь, мы не знаем. Не исключено, что именно тогда, в момент величайшей опасности, и произошел тот загадочный, удивительный «взрыв интеллекта» sapiens. Разумеется, это лишь ни на чем не основанная догадка.
Чудом пережив страшный кризис, по мере медленного потепления, популяция людей в Африке стала снова бурно расти. 50 тысяч лет назад население сапиенсов в Африке уже превысило «докризисный» уровень (несколько сот тысяч человек). В Африке им стало тесно, и они ринулись в потеплевшую (хотя все еще заметно более холодную, чем сейчас) Южную Европу.
С этого момента мы знаем об истории Homo sapiens достаточно много. В отличие от Африки, места обитания кроманьонцев в Европе обнаруживаются регулярно. Причем это не просто могилы, а иногда и крупные стоянки, целые «музеи культуры и быта палеолита» с сотнями ценных артефактов.
Что это были за люди?
Попробуем снова представить себе реакцию современного ребенка: на этот раз при виде живого неандертальца и кроманьонца.
Облик неандертальца, при всей его генетической близости к нам, ребенка не на шутку испугал бы. Психологам известен любопытный феномен «фильмов ужасов». Сильнее всего нас психологически отталкивает и пугает даже не образ некоего сказочного чудища, а похожая, но неудачная пародия на человека. Это, кстати, проблема современных корпораций по производству роботов – например, для ухода за пожилыми людьми. Чем больше такой робот внешне похож на человека, тем сильнее он пугает и отталкивает своим видом окружающих. Именно поэтому роботы по уходу за домом в недалеком будущем станут, скорее всего, похожи не на нас, а, скажем, на пылесос.
Живой неандерталец, вероятно, вызывал бы у нас эффект «пугающей пародии» на человека. Вроде бы тоже человек, но уж больно некрасив, возможно, даже уродлив внешне. Невысокий, неестественно широкий в кости, с огромными кистями – почти лапами; короткими кривыми и очень мускулистыми ногами. Лицо неандертальца – крупное, широкое, с выступающим вперед покатым лбом; огромным ярко-красным (судя по структуре его сосудов) носом; тяжелыми надбровными дугами, мощными челюстями. Трудно сказать, какие звуки или слова он издавал: но они точно не звучали бы приятно для нашего слуха. Встретив такого типа вечером в узком переулке, не только ребенок, но и взрослый мужчина, скорее всего, испугался бы и даже, возможно, бросился от него бежать.
Смог бы неандерталец ассимилироваться в нашем, современном мире (если бы очутился в нем еще ребенком)? До некоторой степени – да. Ни умственное развитие, ни анатомия не мешала бы ему выполнять какую-то простую механическую физическую работу, не требующую мелкой моторики пальцев и развитой речи. Он мог бы штамповать детали на заводе или носить тяжести на спине – в целом, осознавая, что он делает и с какой целью. И все же ему было бы непросто найти себе достойное место в мире современных сапиенсов: без семьи себе подобных он чувствовал бы себя во многом неполноценным существом, социальным изгоем.
А что насчет его современника – кроманьонца? В отношении него у ученых нет сомнений: попав в наше общество в младенческом возрасте, такой человек без особых проблем влился бы в него. Нельзя сказать, что внешне он совсем не отличался от нас. Но эти различия незначительны. У него были чуть более широкие кости, чем у среднего современного человека; мощные надбровья. Волосяной покров его тела оставался чуть более густым. Он был темнокожим: мутация генов человека, из-за которой осветлилась кожа и цвет глаз предков современных европейцев, произошла намного позже: примерно от 20 до 10 тысяч лет назад. Черты его лица не были ни африканскими, ни европейскими: скорее они отдаленно напоминали бы австралийского аборигена или папуаса. Вряд ли, конечно, такой человек стал бы профессором в области квантовой физики. Но в толпе современных людей разных национальностей (например, в международном аэропорту), одетый по современной моде, он особенно не выделялся бы ни внешностью, ни поведением.
И он уже неплохо говорил: возможно, именно четкая связная речь служит главным водоразделом между древними людьми и относительно современными. Речевой и слуховой аппарат сапиенсов того времени уже почти ничем не отличался от нашего.
Еще раз: вдумаемся и акцентируем этот момент: 250 тысяч лет назад по Африке ходили последние эректусы, не владевшие осмысленной речью и не имевшие образного мышления. По интеллекту скорее обезьяны, чем люди. 70 тысяч лет назад их потомки (к тому моменту, судя по всему, лишь немного окультурившиеся) едва не вымерли, оставшись в ничтожном количестве двух тысяч особей. А всего через 20 тысяч лет на юг Европы пришло существо, которое спокойно влилось бы в толпу современных людей и даже (при должном усердии) могло успешно окончить университет.
К чему это ближе: к медленной постепенной эволюции или внезапному по меркам земной истории событию, почти чуду? Биологи уверены в первом; скептики предлагают свои версии…
Период между появлением на Земле древнейших людей до первых культур земледелия (10 тысяч лет назад) называется палеолитом. Он делится на этапы: последний этап – поздний палеолит – начинается 35 тысяч лет назад.
Это время выбрано не случайно. Сапиенсы после исчезновения своих последних оппонентов – неандертальцев – начинают расселяться по планете с невиданной ранее скоростью. Как обычно, мы не всегда точно знаем, по каким маршрутам двигались люди по новым регионам и континентам и как менялась по тысячелетиям численность их популяции. Есть лишь дискуссии с разной глубиной аргументации и приблизительные оценки.
Снова нам на выручку приходит современная генетика. В большей степени на основании анализа геномов современных людей, чем археологических находок, к настоящему времени созданы карты расселения Homo sapiens по планете с датами (как правило, в широком диапазоне нескольких тысяч лет, но иногда и более точные).
Глядя на эти карты, невольно вспоминается известный прием античного (древнегреческого) театра, который назывался Deus ex machina («Бог из машины»). На протяжении долгой драматической пьесы ее герои испытывают всевозможные горести и удары судьбы, в итоге их положение становится отчаянным, безнадежным. Но в последние минуты спектакля на сцену, к восторгу зрителей, спускается прекрасная, сияющая золотом колесница с могущественными богами. Они спасают героев пьесы, щедро награждают их, карают злодеев – под гром аплодисментов довольных хеппи-эндом античных зрителей.
Три миллиона лет скромные, немногочисленные кланы древних людей с трудом борются за выживание, и в какой-то момент чудом не вымирают. Но затем гремит выстрел из стартового пистолета, и они, безудержно размножаясь, наперегонки бегут заселять весь мир.
Примерно так все происходило во времена позднего палеолита.
Найденные нами стоянки людей того времени представляют собой настоящий расцвет «пещерной» культуры. Совершенствуются орудия труда и охоты: появляются острые дротики, копьеметалки, гарпуны, рыболовные крючки. К концу позднего палеолита (10–15 тысяч лет назад) в арсенал человека входят простейший лук и стрелы. Для пошива одежды используются нити и костяные иголки с ушком. Бусы и другие украшения становятся непременным атрибутом одежды: самые впечатляющие состоят из сотен тщательно обработанных округлых кусочков бивней мамонтов.
Происходит первый в истории взлет искусства: стены пещер сапиенсы покрывают яркими, образными рисунками животных, сценами охоты. Иногда простыми, по-детски схематичными, но в некоторых случаях (как в испанской пещере Альтамира и французской Ласко) наскальные рисунки выполнены уже на действительно высоком художественном уровне.
Благодаря многочисленным наскальным рисункам мы неплохо знаем, как была устроена охота кроманьонцев. В отличие от намного более сильных, но не столь быстрых и ловких неандертальцев, добывавших самую крупную дичь в опасном ближнем бою, сапиенсы охотились на быстроногих копытных: стада бизонов, диких лошадей. Хитрыми уловками они загоняли их в узкие ущелья или тупики, затем забрасывали издали копьями, дротиками, камнями. Мамонты и носороги, в то время еще встречавшиеся в Европе, изображаются в настенных сценах охоты редко. Пещерные медведи скорее представлены как смертельная угроза, подстерегающая охотников, а не добыча.
Отдельным видом искусства кроманьонцев были фигурки из костей, изображающие людей. Ранее такие артефакты не встречались. Это или статуэтки «Венер» – полных женщин с чрезвычайно широкими бедрами и большой отвислой грудью (возможно, именно такой «плодовитый» тип женщины был идеалом красоты пещерного мужчины; хотя есть и другие версии), или символические гибриды мужчины и сильного животного, например «человек-лев». Любопытно, что техника резьбы по кости и внешний вид «Венер» почти идентичны в разных, очень удаленных местах обитания сапиенсов, например на юге Европы и в центре Азии.
Около 30 тысяч лет назад появляются первые признаки приручения собак для охоты – еще одного важного достижения сапиенсов, хотя в широкую практику это вошло 10–15 тысяч лет назад.
Важным элементом культуры сапиенсов были сложные ритуальные погребения умерших. Судя по всему, в общинах не было такой уж серьезной иерархии. Самые богатые могилы (с украшениями, бусами, орудиями, цветами) принадлежат не вождям племени, а умершим детям и подросткам. Это весьма трогательно и раскрывает психологию людей того времени в положительном свете. Возможно, члены племени старались «восстановить справедливость»: тех, кому почти не довелось пожить на этом свете, готовили к долгой и насыщенной жизни в «долине духов и предков».
О религиозных представлениях сапиенсов той поры мы ничего не знаем, кроме того факта, что они уже, безусловно, были. На их стоянках находят отдельные от всех одиночные захоронения людей в необычной одежде с ритуальными предметами, которых можно уверенно назвать первыми шаманами. Как правило, такие люди имели врожденные физические недостатки (не могли участвовать в охоте); есть признаки того, что они уже тогда вводили себя в экстаз для «общения с духами», употребляя особые растения или отвары. Мы не знаем те предания и мифы, которые сапиенсы рассказывали вечером у костра, но предполагаем, что они были похожи на сказания о духах предков и представления о мире нынешних африканских бушменов и аборигенов Австралии.
Эта была эпоха безудержной экспансии людей по всей Земле.
В период с 50 по 20 тысяч лет до н. э. численность сапиенсов только в Европе выросла с нескольких сот тысяч до двух миллионов человек. Еще примерно столько же людей пустились в бесконечную великую Одиссею по планете. В Америку человек проник (скорее всего, пешком через замерзший зимой Берингов полив, с Чукотки на Аляску, но могли быть и другие маршруты) 15 тысяч лет назад. Заселял ее небыстро, постепенно. К сожалению, пришествие людей в Новый Свет стал апокалипсисом для обитавших там в огромном количестве крупных животных. Фауна Африки, соседствовавшая с Homo миллионы лет, приспособилась к выживанию бок о бок с нами. Но для большинства крупных животных Америки внезапное появление хитрой, ловкой, отлично вооруженной бесшерстной обезьяны стало полным сюрпризом: уже через 10 тысяч лет, ко времени 5 тысяч лет до н. э., практически все ее виды трагически навсегда исчезли с лица Земли.
Фантастические черные объекты, прибывшие на Землю из космоса и «вдохнувшие разум» в обезьян, чтобы превратить их в людей, – это не более чем красивая фантазия великого писателя.
Изучая наш мир, мы должны опираться на факты. На сегодня у нас (пока?) нет ни одного вещественного, осязаемого доказательства в пользу гипотезы о вмешательстве в эволюцию разума Homo неких внешних (тем более – инопланетных) сил.
В то же время очевидно, что тайна важнейшего события всей истории нашей планеты – феномена появления на ней сильного универсального разума – это вопрос настолько серьезный, глобальный, что он выходит далеко за рамки просто антропологии. Находится на стыке разных современных научных дисциплин и должен широко и всесторонне изучаться с таких позиций.
В процессе дальнейшего изучения истории феноменального «взрыва интеллекта» Homo, произошедшего в кратчайший временной период, науке определенно предстоит сделать еще немало важных, интересных, волнующих открытий.
Глава 3
Почему нам пришлось заняться земледелием
Место: Ближняя Азия (современные Ирак, Турция, Израиль, Сирия)
Время: 7–10 тысяч лет до н. э.
Переход от охоты и собирательства к земледелию и животноводству был важнейшим культурным событием, сдвигом жизненной парадигмы Homo sapiens за всю нашу историю.
На первый взгляд, этот переход понятен и не таит в себе особых секретов.
Человечество разрасталось, орудия труда улучшались, знаний об окружающем мире и природе стало больше. Идея держать животных в загоне, вместо того чтобы бегать за ними по полям и лесам, рискуя здоровьем; сеять зерно и собирать обильный урожай вместо поисков ягод, кореньев и редких диких колосков пришла сама собой. Кажется, ничего иного и быть не могло.
Вероятно, это так, и в глобальном смысле альтернативы земледелию у человечества не было. Но был ли переход к земледелию вынужденным или добровольным? Когда, где и как точно люди стали жить оседло, целыми большими деревнями? Сгорбившись, начали возделывать поля вместо того, чтобы вести приятный и естественный для их предков образ жизни свободного охотника, кочующего с небольшим кланом родственников по живописным просторам планеты? Что возникло раньше: земледелие или животноводство, и почему? Первые в истории каменные храмы и ритуалы со жрецами, появившиеся в ту же эпоху, стали следствием оседлости или, наоборот, первые религии привязали человека к определенному месту? Каким способом древние земледельцы возделывали поля? Как из малоурожайной дикой пшеницы им, ничего не знавшим об эффективных методах селекции семян, удалось вывести ее культурные виды (которые мы используем с некоторыми улучшениями до сих пор)?
На все эти, казалось бы, простые вопросы у нас нет точных ответов. Есть лишь гипотезы – логичные и частично опирающиеся на археологические факты. Но в научных работах о древней истории момент перехода людей к земледелию – одна из самых «горячих» дискуссионных тем: порой высказываются противоположные версии тех событий. Новые крупные находки времен эпохи неолита (10–5 тысяч лет до н. э.) – раскопки поселений в Ближней Азии того времени – часто не проясняют, а еще более усложняют картину перехода людей к земледелию. Многое из того, что еще лет тридцать назад ученым-историкам казалось банальной прописной истиной, теперь ставится под сомнение или как минимум требует серьезных уточнений.



