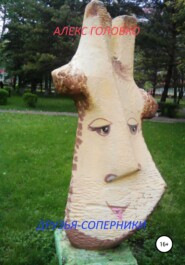скачать книгу бесплатно
Но надежда умирает последней… И с этой надеждой я пошел на встречу.
В назначенное время побывал на его концерте. Это выглядело вполне профессионально, он читал свои стихи, рассказывал об истории города, о Кавказе и поэтах, побывавших и воспевших местные красоты. Все было хорошо, но показалось, что в его общении с детьми чего-то не доставало. Позже я понял: не хватало огонька в общении и должного контакта с детьми. Они хлопали, но довольно холодно, скорее, вежливо.
Роман – педагог, преподает русский и литературу в этом санатории детям, приехавшим поправить здоровье без отрыва от учебы.
Я поймал себя на мысли, что не вправе судить с кондачка о новом знакомом, возможно, мне это лишь показалось…
После концерта мы нашли уютное местечко на первом этаже санатория, пообщались, я рассказал немного о себе. Роман тоже легко открылся мне как человек и как поэт.
Он оказался вполне приятным в общении, предварив разговор, что о нем ходят не всегда лестные слухи, но это потому, что он не последний человек в городе. Привык не обращать на сплетни внимания. Занимаясь любимым делом, рад помочь другим, но почему-то его боятся, хотя он – педагог и филолог, человек самой мирной профессии.
Неожиданно признался мне, что у него на руках больная мать, а близких друзей, так сложилось, практически не имеет.
И что самое главное, Роман не разрушил мои надежды, наоборот, предложил помощь в науке стихосложения.
Я почувствовал к нему расположение и рассказал немного о себе, о семье и о том главном, ради чего я готов на все: хотел бы поучиться у Романа тому, чем так мастерски владеет он.
Роман сказал, что это путь долгий и трудный, освоить технику стихосложения – не главное. Есть литература на этот счет, были бы способности, еще лучше – талант…
Но если буду слушать его, как наставника, то он попробует из меня сделать поэта…
Тут же показал характерные ошибки в моих стихах. Они оказались настолько очевидны, и у меня заново открывались глаза на свои стихи.
Не знаю, как насчет таланта, но желания мне было не занимать. На том и порешили, договорившись о следующей встрече, почувствовав расположение друг к другу.
На волнах воспоминаний
Рос я впечатлительным пацаном, был любопытен, жаден до впечатлений и приключений.
Трудное детство, смерть мамы в десятилетнем возрасте, детский дом. Со сверстниками в раннем детстве и в детдоме познавал этот мир порой с риском для жизни. Куда только не заносила меня фантазия и жажда неуемной деятельности. Это все запечатлелось в моей душе и потом выплеснулось в неумелые стихи уже в ранние годы.
В тринадцать лет, под воздействием приключенческой литературы сочинил первый стишок про индейцев:
Льёт сильный дождь,
в земле промоины.
Шагает вождь,
а следом – воины.
Украшен перьями
индейский вождь –
в себе уверенный,
хоть краснокож.
В шестнадцать лет из детдома меня забрал в свою семью старший брат, я стал зарабатывать физическим трудом, трудясь на заводе токарем.
Сложности жизни требовали самостоятельности в принятии решений, и мне пришлось рано повзрослеть.
В вечерней школе, куда я пошел учиться, встретил Лену. Девушка оказалась серьезной особой, очень эффектно отвечала у доски. Великовозрастные ученики «вечерки» с восхищением слушали ее, любуясь милым личиком. Поразило оно и меня…
Дорога к нашим домам оказалась попутной. И вот поздним вечером мы оказываемся рядом и идем по аллее. Теплая осень, дорожка усыпана желтыми листьями. Я о чем-то говорю, говорю, почти сознательно растягивая время. Лена, видно, тоже не спешила возвращаться на съемную квартиру.
В темной аллее я не вижу лица Лены и не знаю, как она реагирует на мои слова. Но темнота придала мне смелости… Я будто почувствовал, что эта тихая деревенская девушка не оттолкнет, не посмеется надо мной.
Может, мне это только казалось, но вскоре я фантастически осмелел в речах. И в первый же вечер признался, что у меня никого не было до нее, и что она мне «ужасно» нравится.
Все это прозвучало довольно скоро, наивно, но она не оттолкнула меня, хотя еще не сказала мне «да». Мы оба были юны и доверчивы и чувствовали друг к другу взаимное притяжение…
Первое чувство, первые романтические встречи. Потом, в другие вечера, идя со школы, мы также не спешили по домам: я – под крышу брата и его семьи, она на квартиру к бабульке, у которой остановилась на постой.
Юности все по плечу! Лена уже поступила в фармучилище после восьмого класса. Ей хотелось быстрее овладеть интересной профессией, о которой раньше и не мечтала. Поступив, стала легко усваивать сложные науки, бензольные формулы, латинские названия, свойства лекарств и многое другое. Она жила теперь самостоятельно. А дома было не просто – престарелые родители с трудом тянули крестьянское хозяйство. На плечах матери Анастасии Михайловны находилась ее младшая сестренка, а в комнате уже несколько лет лежал парализованный отец, инвалид войны.
Когда отец Лены был еще в силе, он со сноровкой управлялся по дому и с хозяйством, держал лошадь, хотя в хрущевскую пору такое категорически не приветствовалось властями. И отобрать просто так уже не могли – не то время. Он платил большие налоги, а пенсию получал маленькую, стоически сопротивляясь внешнему давлению. Он был единственным в селе, у кого была своя лошадь.
Лена с малых лет познала крестьянский труд, помогала матери по дому, поливала большой огород, где выращивались помидоры, огурцы, картошка. Держали домашнюю птицу, коз, из их пуха мать вязала отличные оренбургские платки и «паутинки». Конечно держали кормилицу-корову.
Во время учебы в городе Лена жила на квартире, по выходным навещала дом, затариваясь продуктами – домашним хлебом, сметаной, яйцами, овощами…
И вот теперь она приехала в наш поселок от училища на практику. Чтобы не скучать вечерами, решила пойти в девятый класс, хотя его она уже закончила годом раньше. Объяснила мне этот поступок тем, что решила еще раз закрепить полученные знания. Не зря говорят: повторение – мать учения. После училища она мечтала поступить в фарминститут.
Месяц мы встречались, подолгу засиживались в сквере на лавочке. Или уходили вглубь, где подолгу стояли у раскидистого вяза, целовались, заглядывали в будущее, совершенно не представляя, какое оно и будет ли для нас двоих…
Но вот наступил день, и она уехала в свое училище. Я стал к ней наезжать по выходным. Мотался в город почти за сотню километров на крышах поездов. Или ехал таким же манером в противоположную сторону – до поселка, откуда она родом, когда она на выходные уезжала домой ха продуктами.
Помню, как в первый раз искал ее, и как меня направили совсем в другую сторону. Я все же нашел девушку с такой же фамилией, но не ее, а родственницу по имени Людмила. Та, поняв ситуацию, направила меня по нужному адресу.
Из-за ссоры с братом, вернее, с его женой по причине моего «неверного» выбора девушки, с которой начал встречаться, пришлось уйти «на вольные хлеба», стать самостоятельным во всем. Я не был готов еще к такому повороту событий, но, может, это и к лучшему, что раньше случилось, заставив задуматься, как жить дальше.
Сноха переживала еще и по поводу, что я трачу «лишние» деньги на поездки. Но это был такой мизер, ведь всю получку я отдавал ей, а к подружке ездил «зайцем» на «дачном» поезде, называемом у нас «Барыгой», потому что он останавливался на больших и малых станциях, собирая трудовой народ, крестьян для поездки в город и обратно.
Во время поездки приходилось держать «ушки на макушке». Нельзя было пропустить появление контролера, проверяющего билеты. Обычно я устраивался в центре вагона, потому что не знал – с какой стороны нагрянет проверка. Как только замечал личность в железнодорожной форме, моментально ретировался из вагона. Я шмыгал в тамбур, открывал наружные двери и перелезал на сцепку между вагонами и дальше – на крышу. Ехал с ветерком, летом это было даже приятно, потом осторожно возвращался в вагон.
Собрав нехитрые пожитки, от брата я сначала перебрался к отцу с мачехой.
Мачеха запросила с меня сумму за проживание в три раза меньшую. Я обрадовался: теперь можно было не только ездить к Лене, но и тратить немного на себя, покупать рубашки, туфли, откладывать деньжата на «черный» день.
Купил, наконец, электробритву, походный чемоданчик, куда сложил свой нехитрый скарб.
И вот это счастливое время – мы встречаемся почти каждые выходные то в ее поселке где-нибудь у речки, недалеко от дома, то вечером на сельских танцах, то в городе, посещая культурные места.
Однажды ребята с ее улицы решили проучить меня – чужака и, по дороге к дому, когда я провожал ее после танцев, один парень, подбежав сзади, ударил меня кулаком по голове.
Я устоял, повернулся, хотел ответить, тот отскочил, подбежали его дружки…
Кончилось бы все это для меня плачевно. На счастье, всю эту сценку из-за забора дома видел взрослый мужчина – родственник Лены.
Родственников у нее было пол улицы, почти все с той же фамилией. Он кинулся нам на помощь, крикнув: «А ну прекратите!»
Моих обидчиков как ветром сдуло.
С той далекой поры вспомнились также ночи на вокзалах, где я коротал время в ожидании проходящего поезда на перроне, где-нибудь на лавочке, поскольку зал ожидания вокзала обычно был переполнен. Колхозницы с тюками, корзинами, авоськами с вечера приходили в маленький зал ожидания вокзала, занимали лавки и спали до прибытия поезда.
Когда наступали прохладные дни, я обретался в душном зале среди тюков и чемоданов, прислонившись к стене.
Помню, как однажды, заняв место у кассы, чтобы при открытии успеть купить билет на проходящий поезд и заснул. Во сне, потеряв равновесие, стал падать. Каким-то шестым чувством уловил момент падения, судорожно схватился за спинку сидения, но по инерции завалился на уснувшую женщину. Та спросонья закричала истошно, но, поняв в чем дело (я и сам испугался), успокоилась, а потом предложила присесть рядом. Я вышел встряхнуться ото сна на улицу.
В городе днем мы с Леной ходили в кино или в цирк (куда можно было достать дешевые билетики по ее студенческой книжке). Удавалось даже доставать контрамарки в музкомедию и театр, приобщаясь к прекрасному, и с удовольствием впитывали новые впечатления. Город для нас, выросших в деревенской обстановке, был миром чудесных открытий и соблазнов, многое удалось повидать впервые.
Видели выступление Карандаша в цирке, и в театре бывали на спектаклях.
В Оренбурге купались в реке Урал, бродили по городским скверам. На стипендию Лены покупали пирожки и мороженое, лимонад из автомата за копейку (не всегда мы были в состоянии пить газировку с сиропом даже за три копейки).
В студенческой столовке можно было перекусить за двенадцать копеек, взяв «первое», какой-нибудь гарнир и стакан чая. Бесплатный хлеб лежал на столах в тарелках.
Окончив училище, Лена получила направление на работу в далекий сибирский город.
Я на тот момент жил в родном поселке у одинокой женщины, сдававшей мне комнату в своем доме за такую же сумму, что и мачеха.
Поначалу жить у нее мне понравилось – ни перед кем не надо отчитываться, сам себе хозяин, но потом и ей завладела алчность и «из любопытства» залезла в мой чемоданчик, позарившись на заначку и даже на электробритву…
Ушел на другую квартиру.
Пролетело лето, Лене пора было ехать по месту отработки. Я отправился за ней, как декабрист…
Ветры перемен
На новом месте в сибирском городке Лену приняли в аптеку фармацевтом, я пошел работать в шахту доставщиком-такелажником.
Устроились на съемной квартире, но попали к сектантам. Каждую субботу в соседней комнате собирались верующие баптисты. Хозяева включали большой ламповый радиоприемник, настроенный на радиостанцию «Голос Америки», слушали проповеди и громко молились. Мы с Леной через стену слышали «вражьи голоса», чувствуя себя словно не в своей тарелке.
Хозяева попытались было «завербовать» нас. Дед с окладистой бородой, елейным голосом звал послушать проповедь, расписывал прелести милости божией, но мы были, как тогда говорили, – «стойкими советскими патриотами и комсомольцами». Я, не колеблясь, дал отпор всяким увещеваниям, и больше они не пытались привлечь нас в свое сообщество.
Вообще-то хозяева были добрыми людьми, мы им благодарны, что приютили нас на первое время.
Вскоре на работе узнали о тех, у кого мы живем. Меня вызвали в шахтком комсомола и «поставили вопрос ребром» – не поддались ли мы влиянию сектантов?
Я честно рассказал, что попытка была. Сказал, что не уверен, что она не повторится.
Мне предложили сменить квартиру. Я возразил, что пытался найти, но безуспешно. Двоих молодых, еще подозрительно не расписанных, нас не хотели брать. Казалось, выхода нет…
Выход предложил секретарь комсомола, пообещав поговорить с руководством шахты о выделении нам комнаты хотя бы в бараке без удобств.
Меня не смущало тогда это «без удобств», но зато впервые в жизни «свое» жилье. Лена тоже обрадовалась.
И действительно, вскоре мне дали комнату в дощатом бараке. Ни отопления, ни воды, ни канализации.
Населяли барак в основном «низы» общества, как у Виктора Гюго в книге «Отверженные». Или как в романе Алексея Горького «На дне»: вроде Сатиных, только хуже – бывшие уголовники, спивающиеся мужики и женщины…
Получается, что в итоге мы должны быть благодарны бывшим хозяевам-баптистам, если бы не это обстоятельство, то мы так бы и жили на квартире, ожидая своей очереди. А очереди в шахтах, на заводах тогда тянулись годами, а то и десятилетиями. А уж в маленьких конторах, аптеках, как у моей Лены – и подавно. Она даже в очереди не стояла.
Наш барак был сколочен на скорую руку с тех времен, когда пустили шахту, это где-то после войны с фашистами. Дощатый, двухэтажный насыпной чем-то внутри, оштукатуренный клоповник. В комнатах – подобие русской печки без полатей, только для отопления и приготовления пищи. Электричество позволяло приготовить еду в летнее время. Вот и все удобства. Рукомойник в прихожей, ведра с водой, которые мы набирали из колонки для нескольких домов, находящейся метрах в ста от нашего дома. Зимой и летом вода из колонки бежала слабой струйкой, вокруг – несколько бараков с такими же «удобствами», что и наш. Приходилось вставать в очередь, чтобы наполнить ведра, фляжки. Летом, бывало, воду отключали и давали только ночью, что создавало дополнительные неудобства. У многих были маленькие дети, да и вообще – стирка, уборка, готовка, приходилось экономить, беречь воду, которую еще надо было набрать, вскипятить, а это можно сделать во время топки печи или на электроплитке. Зимой, когда днем мы уходили на работу, да и ночью к утру вода в ведрах покрывалась ледовой корочкой. Приходилось рано вставать, разжигать снова печь, а это – дрова, уголь, которые находились в стайке (сарае), протопить печь, чтобы к вечеру придти в более-менее теплую квартиру.
Недалеко от колонки с водой – общественный туалет а-ля «очко» для мужчин и с другой стороны для женщин.
Веселая у нас была житуха, но молодым все было нипочем. Дрова и уголь «выписывали» в шахте нашего района «Березовая роща», проще говоря, покупали по сниженным ценам.
Красивое название у этого района, мы «клюнули» на него, когда Лену «распределяли», как специалиста в этот шахтерский город. Однако что-то не припомню я теперь ни одной березы в том месте. Может, их вырубили, когда строили шахту и район, а название осталось…
Город с первого взгляда вызывал уныние своей неустроенностью, растянутый на десятки километров, связываемый трамваями и плохими дорогами. Там и тут – шахтные обвалы (глубокие ямы, овраги, залитые водой), терриконы (рукотворные горы породы, горящей и дымящейся день и ночь, словно вулканы).
Только центр был обустроен. Гордость у местных вызывал местный театр с колоннами, широкой бетонированной площадью, кинотеатром и театром музкомедии. Все достопримечательности сконцентрированы в одном месте, а дальше – предприятия, шахты, заводы, терриконы и пустыри.
«Весело» было еще и благодаря контингенту этих хаотично расположенных трущоб.
Не хочется через года омрачать воспоминания, ибо у меня нет объективной картины прошлого, да и в памяти остается в основном хорошее. Тем не менее, несколько примеров для наглядности приведу.
Основной, так сказать, контингент были добропорядочные граждане, дебоширили в наших домах лишь отдельные личности. Они устраивали пьяные разборки, драки в своих клетушках, которые часто выплескивались наружу и затрагивали соседей и других жильцов этого района. Наверняка таких районов и таких городков у нас в Сибири да и по всей матушке-России было предостаточно.
Мне теперь, спустя десятилетия, находясь в более комфортных условиях и местах проживания, жаль этих людей и себя, что, может, по неопытности, может, глупости выбрали такое место. Да и какая наша вина в том, что выбора фактически не было. Восемь лет мы обитали в этом анклаве. Поехали бы по направлению хоть на Дальний восток, хоть на Север – и там было, может, еще хуже…
Теперь это воспринимается как недоразумение, или как некое приключение, не более. Что дано судьбой, то все идет в жизненную копилку. Мы не одни несли эти тяготы, а скопом, как сказал герой одного фильма, а «скопом даже помирать не страшно».
Мы с Леной держались особняком от буйных соседей, хотя они все равно доставали нас шумом и громом разбитой мебели, вовлекали невольно в свои разборки.
Так довольно регулярно, примерно, раз или два в месяц после получки или аванса, соседи под нами устраивали себе веселый воскресный уикенд в квартире: музыка на всю катушку, песни, смех…
После обеда обычно все затихало на часок-другой, затем раздавались отдельные выкрики, в основном, женские. И вдруг: трам-тарарам! – Открываются створки окон и из утробы квартиры с воплем вытряхивалась нагая женщина, жена соседа. Плач, стенания, соседка бегает в чем мать родила у окна, которое с треском захлопывалось за ней сразу же, как только она вылетала оттуда. Просьбы, мольбы впустить ее обратно – сосед непреклонен. Тогда она обегала дом, естественно, в «платье» Евы, заскакивала в подъезд, и начинала колотиться в двери. Выглядывали робко соседи, сочувствовали. В квартиру нагую соседку никто приглашать не спешил…
На нашей лестничной клетке было четыре квартиры – четыре разных по возрасту и положению семьи, с одной из них мы дружили. Супруги в возрасте, с «голубиной» фамилией Гугля жили справа от нас. Пожилые, добрые люди, мы просто общались с ними, помогали по мелочам, они не досаждали никому, и это уже было хорошо.
Еще одно беспокойное семейство было на нашей площадке. Муж с женой и двое взрослых сыновей, один из которых (а, может, и оба, уж не помню) побывали в известных местах, которые называют «отдаленными», хотя и этот сибирский городок трудно назвать «приближенным» к к центру нашей родины.
В этой семье часто после долгих загулов, возникали драки между братьями, и в первую очередь перепадало родителям. Во время разборок все кричали, родители усмиряли сынов, особенно неугомонного младшего, поскольку он был с амбициями несостоявшегося боксера, просили чтобы поумерил свой пыл. Он же с утра «приняв на грудь», что-то все доказывал, срывая обиды на своих близких.
Шум и гам зарождался сначала в недрах квартиры, но вскоре вся эта камарилья вываливала на лестничную площадку, продолжая разборки.
Однажды и я попал под раздачу. Выглянув как-то, что за шум, сделал замечание боксеру за то, что тот матерился и стучал ногами в свою дверь. Видно, надоел и его выставили за дверь, чтоб проветрился.
Боксер, услышав мои претензии, обрадовался и переключился на меня, предложив выйти на улицу.
Делать нечего, я вышел, мы завернули за угол дома.
Пьяный сосед, встал в стойку боксера, и продолжая извергать ругательства, попытался ударить меня в лицо. Во время замаха я слегка отклонился в сторону, и он рухнул по ходу движения наземь. Я повернулся и пошел домой.