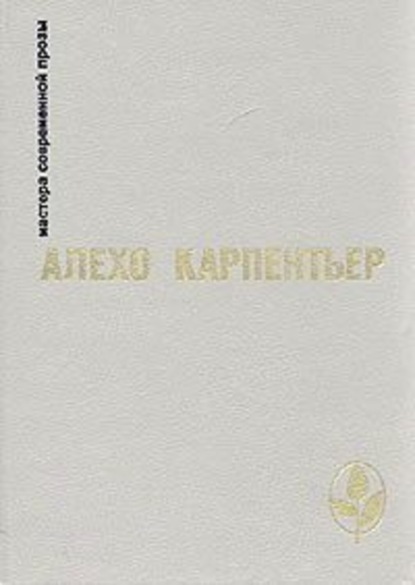 Полная версия
Полная версияВек просвещения
– Чудесная жизнь, – говорила София. – Но, увы, за этими деревьями таится нечто, с чем невозможно мириться.
И она указывала рукой на вереницу высоких кипарисов, которые, точно темно-зеленые обелиски, поднимались над окружающей растительностью, скрывавшей совсем иной мир, мир дощатых бараков, где ютились негры-рабы; время от времени оттуда доносился грохот барабанов, напоминая дробный стук приближающегося града.
– Я им сочувствую не меньше, чем ты, – отвечал Эстебан. – Но только мы не в силах изменить ход вещей. Ведь это уже пытались сделать другие, наделенные полнотой власти, но даже их попытка потерпела неудачу…
Под вечер 24 декабря, когда некоторые из гостей спешно заканчивали приготовления к рождеству, а другие то и дело забегали на кухню, чтобы посмотреть, хорошо ли подрумянились индейки, и вдохнуть аппетитный дымок, поднимавшийся над праздничными соусами, София и Эстебан отправились к массивным чугунным воротам поместья, чтобы встретить Карлоса и Хорхе, которые должны были вскоре приехать. Внезапный ливень заставил их укрыться в одной из итальянских беседок, пламеневшей полураскрытыми цветами молочая. От влажной земли шел терпкий аромат, осыпавшиеся на дорожки листья издавали нежный прощальный запах.
– Дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, – прошептал Эстебан, припомнив строки из Библии, прочитанные им еще в годы отрочества.
И тут на него нашло какое-то помрачение. Неожиданное открытие наполнило его ликованием, он почувствовал, что наконец-то обрел себя, что для него как бы пробил час искупления. «Теперь ты все понимаешь. Ныне ты знаешь, что зрело в твоей душе столько лет. Ты созерцаешь ее лицо и понимаешь единственное, что тебе надо было понять, – ты же вместо этого силился постичь истины, которые выше твоего разумения. Она – первая женщина, которую ты узнал, ее ты обнимал, как родную мать, – ведь матери ты никогда не видел. Она первая открыла тебе тайну чудесной женской ласки в те часы, когда бессонными ночами бодрствовала над твоим изголовьем, сочувствовала твоим страданиям и утишала их своею нежностью на заре. Она была тебе сестрой, она видела, как все больше мужает твое тело, – она наблюдала это, как могла бы наблюдать разве только несуществующая любовница, что росла бы вместе с тобой…» Эстебан припал головою к плечу Софии, которое, как ему чудилось, было его собственной плотью, и разразился столь безудержными рыданиями, что она на мгновение оцепенела, а потом привлекла его к себе, обняла и принялась целовать в лоб, в щеки. Но она тут же почувствовала, что его воспаленные, алчущие губы нетерпеливо ищут ее губ. Молодая женщина выпустила из рук лицо кузена, резко отстранилась и замерла, внимательно следя за всеми его движениями, как следят за малейшим движением врага. Эстебан не шевелился и только печально смотрел на нее, однако в глазах его пылал огонь страсти, и София, почувствовав, что на нее смотрят как на женщину, отпрянула. И тогда Эстебан заговорил: он говорил о том, что сам только сейчас понял, сам только сейчас открыл в себе. Голос его стал неузнаваемым, он произносил какие-то неожиданные, немыслимые слова, но они не только не трогали Софию, но казались плоскими, пустыми, банальными. Она не знала, как поступить, что сказать, ей было неприятно выслушивать этот сбивчивый монолог, полный возмущавших ее признаний: он жаловался на то, что любовные связи не приносят ему радости, что его мечты никогда не сбываются, намекал, что, исходив бесплодную, иссохшую землю, он в глубине души все еще ждет, не поможет ли ему что-либо вновь обрести былое.
– Довольно! – крикнула София, и лицо ее вспыхнуло от гнева.
Быть может, другая женщина слушала бы такие речи с интересом. Но все ее существо протестовало, и в словах кузена ей слышалась фальшь. Чем более пылкими становились речи Эстебана, тем более пылко повторяла она: «Довольно!» И все сильнее повышала голос, пока он не перешел в крик, заставивший его замолчать. Наступила гнетущая тишина. Сердца Софии и Эстебана бешено стучали, словно оба они совершили огромное усилие.
– Ты все испортил, все разрушил, – проговорила молодая женщина.
И теперь уже она разразилась рыданиями и выбежала под дождь… Траурным покровом опустилась ночь. Отныне все будет не так, как прежде. Бурное объяснение навсегда воздвигнет между ними стену недоверия; оставаясь наедине, они будут напряженно молчать, недобро смотреть друг на друга, и все это станет невыносимо для него. Эстебан подумал, что ему лучше уехать, расстаться с отчим домом, но он заранее знал, что для этого у него не хватит сил. Время было такое неспокойное, что, пускаясь в дорогу, человек должен был приготовиться к самому худшему, совсем как в средние века. Эстебан отлично знал, сколько опасностей таило в себе слово «приключение»… Дождь прекратился. В кустах замелькали огоньки – появились ряженые. Со всех сторон сбегались пастухи, мельники с выпачканными мукою лицами, негры, которые вовсе не были неграми, двенадцатилетние старушки, веселые бородачи, цари с картонными коронами на голове, и все они размахивали погремушками из тыкв, колокольчиками, били в бубны, звенели бубенчиками. Детские голоса пели хором:
Приходит старуха,Приносит подарки.Ей кажется – много.Нам кажется – мало.Зеленые лозы,Лимоны в цвету.Слава пречистойИ слава Христу!Сквозь заросли бугенвиллей виднелся ярко освещенный дом, сверкали канделябры, переливались огнями венецианские люстры. Теперь предстояло дожидаться полуночи в комнатах, где на столах стояли подносы с пуншем. Потом с высокой башни донесутся двенадцать ударов колокола, и каждый станет торопливо глотать двенадцать ритуальных виноградин, [138] а после начнется нескончаемый праздничный ужин, за ним последует десерт, и все будут щелкать щипцами, раскалывая лесные орехи и миндаль. Негритянский оркестр будет в эту ночь играть новые вальсы: ноты были получены только накануне, и музыканты с самого утра разучивали незнакомые мелодии. Эстебан не знал, что бы такое придумать, лишь бы не пойти на этот праздник, не знал, как избавиться от надоедливых детей, как отделаться от слуг, которые окликали его по имени, предлагая принять участие в общих играх или отведать вина, – стоявшие в освещенных дверях гости, должно быть, его уже отведали, потому что голоса их звучали все громче, а смех – все заразительнее. В эту минуту послышался дробный стук копыт. В конце аллеи показалась забрызганная грязью карета; на козлах сидел Ремихио. Но, кроме него, в карете никого не было. Поравнявшись с Эстебаном, Ремихио осадил лошадей и одним духом выпалил, что сеньор Хорхе сперва лишился чувств, а теперь лежит в постели: на город неожиданно обрушилась эпидемия, толкуют, будто зараза пошла от трупов, которые грудами валяются на полях сражений в Европе; сюда же эту ужасную заразу завезли недавно прибывшие русские корабли, они доставили диковинные товары, а тут их нагрузят тропическими плодами, которые так любят богатые господа из Санкт-Петербурга.
XXXVIII
В доме полновластно царила болезнь. Уже при входе начинало щипать в носу от запаха горчицы и льняного масла, доносившегося из кухни. По коридорам и лестницам взад и вперед сновали слуги, они приносили и уносили питье и горчичники, отвары и камфарное масло, ведрами таскали воду, настоянную на алтейном корне и луковицах ириса: ею обтирали больного, измученного такой жестокой и упорной лихорадкой, что временами он громко бредил. София и Эстебан проделали обратный путь почти без остановок и во время этого грустного путешествия почти не говорили друг с другом; Хорхе они застали в очень тяжелом состоянии. Болезнь его не была случайной. Эпидемия охватила чуть ли не половину города, и уже было отмечено немало смертельных случаев. Увидя жену, больной посмотрел на нее с отчаянием и сжал ее руки, словно надеялся обрести в них якорь спасения. Из боязни сквозняков двери его комнаты плотно прикрывали, и в ней стояла удушающая жара, пахло лекарствами, спиртом для обтирания и восковыми свечами, они горели все время, так как у Хорхе было тяжелое предчувствие – ему казалось, что если он заснет в темноте, то больше уже не проснется. София поправила на нем одеяло, положила на его пылающий лоб смоченную в уксусе салфетку, а когда муж задремал, направилась на склад, чтобы подробно расспросить Карлоса о лечении, предписанном врачами, которые, по правде говоря, и сами толком не знали, как бороться с неведомым недугом… Вот как обитатели дома вступили в новый век; он принес им бессонницу, ночные бдения, дни, полные тревоги, которая лишь изредка сменялась проблеском надежды, – в эти дни передняя, выложенная мозаикой, вновь наполнилась людьми в сутанах, они, казалось, приходили сюда по чьему-то тайному велению и настойчиво предлагали принести чудотворные реликвии и распятие. На втором этаже повсюду валялись рецепты, стояли пузырьки с лекарствами, лежали полуобгоревшие фитили, – их употребляли, когда больному ставили банки. Глубоко опечаленная, но внешне спокойная, София не отходила от изголовья мужа, хотя врачи все время повторяли, что болезнь у него очень заразная. Правда, молодая женщина натиралась ароматическими эссенциями и держала во рту немного гвоздики, но упрямо продолжала ухаживать за больным с таким вниманием и нежностью, что Эстебан невольно вспоминал годы отрочества и юности, когда сам он жестоко страдал от приступов астмы. Теперь ласковые заботы Софии – возможно, в них бессознательно проявлялось материнское чувство – были отданы другому человеку, и это наполняло Эстебана особенно глубокой печалью, так как именно теперь у него были веские причины с тоскою вспоминать о временах потерянного для него рая; он понимал, что навсегда утратил этот рай, а ведь в ту далекую пору, когда он мог бы оценить выпавшее на его долю счастье, он этого не сделал, ибо оно было повседневным, обычным и, как казалось юноше, принадлежало ему по праву. София почти все ночи проводила без сна, в кресле, точно самоотверженная сиделка, а если ей случалось задремать, то достаточно было больному вздохнуть, и она тотчас же просыпалась. Иногда она выходила из комнаты мужа в глубокой тревоге.
– Снова бредит, – говорила она и разражалась рыданиями.
Но затем мужество возвращалось к ней, – она видела, что, придя в сознание, больной с невероятной энергией боролся за жизнь: он бурно протестовал против уколов, заявляя, что ему и так уже продырявили все бока, и кричал, что смерть все равно его не одолеет. Когда ему на короткое время становилось лучше, он строил планы на будущее. Нет, нельзя больше растрачивать молодость, проводя ее на складе и в магазине. Человек рождается не для этого. Как только он, Хорхе, немного поправится, они с Софией уедут за границу. Довольно откладывать, пора уже начать путешествовать. Они посетят Испанию, посетят Италию; в мягком климате Сицилии он полностью восстановит свои силы. Они навсегда покинут этот губительный для здоровья остров, где люди постоянно страдают от эпидемий, вроде тех, что обрушивались на Европу в давние времена… Эстебан, знавший об этих планах, испытывал острую тоску при мысли, что они могут осуществиться и он больше не будет видеть Софию – единственного человека, который придавал хоть какой-то смысл его нынешнему существованию, лишенному идеалов, устремлений и желаний. Жизненный опыт привел его к горькому разочарованию, которое овладевало им особенно сильно теперь, когда он должен был по нескольку раз в день принимать посетителей, приходивших осведомиться о самочувствии больного. Никто из них не пробуждал в нем интереса. Все разговоры оставляли его равнодушным. Особенно докучали ему филантропы, эти старомодные люди, все еще посещавшие масонскую ложу, основанную его родственниками, – сам он бывать в ней отказался наотрез. Идеи, от которых, как ему казалось, он навсегда отошел, теперь вновь настигли его в Гаване, но их исповедовали в такой среде, где все лишало эти идеи смысла. Горькую участь рабов оплакивали те самые люди, которые еще вчера покупали негров для работы в своих поместьях. О продажности колониальных властей толковали те, кто благодаря этой самой продажности приумножал свои доходы и богатства. О преимуществах независимости острова рассуждали те, кто бурно радовался, получая дворянский титул, пожалованный королем. В кругах людей состоятельных все больше распространялось то же умонастроение, какое в свое время охватило многих аристократов Европы и в конечном счете привело их на эшафот. С опозданием на сорок лет в Гаване сейчас читали книги, проповедовавшие революцию, а революция между тем пошла по иным, непредвиденным путям и опровергла содержание этих книг… Прошли три недели, и появилась некоторая надежда на выздоровление больного. Не то чтобы ему стало лучше. Он по-прежнему был в тяжелом состоянии, но оно больше не ухудшалось, хотя почти все, кто заболел одновременно с Хорхе, не вынесли страданий и уже умерли. Врачи приобрели за время эпидемии известный опыт и теперь лечили своих пациентов теми же средствами, какие применяли, борясь с воспалением легких. Однажды под вечер в доме послышался громкий стук – кто-то нетерпеливо колотил дверным молотком у главного входа. София и Эстебан, свесившись через перила галереи, выходившей в патио, старались разглядеть шумного посетителя и с удивлением узнали в нем капитана Калеба Декстера, – он был в синем сюртуке и белых перчатках. Не зная, что в доме больной, моряк явился без предупреждения, как делал всегда, когда его корабль «Эрроу» бросал якорь в гаванском порту. Эстебан радостно обнял человека, чей приход оживил в его памяти приятные воспоминания. Узнав о случившемся, Декстер искренне огорчился и предложил принести снадобья для припарок, действие которых было уже испытано моряками. София пыталась отговорить его, – кожа Хорхе была до такой степени раздражена компрессами, горчичниками и растираниями, что он с трудом терпел малейшее прикосновение. Но капитан, веривший в чудодейственность своего лекарства, отправился на корабль и возвратился уже в сумерках с мазями и притираниями, издававшими едкий и острый запах. На стол поставили еще один прибор, внесли большую английскую супницу изящной формы, и впервые за последние недели обитатели дома уселись за трапезу несколько успокоенные. Хорхе задремал, за ним присматривала приглашенная Софией монахиня из обители святой Клары.
– Он поправится, – сказал Карлос. – У меня такое чувство, что опасность миновала.
– Дай-то бог! – сказала София, и эти непривычные для нее слова прозвучали как суеверное заклинание или молитва.
Эстебан невольно спросил себя, к какому же богу обращает она свою мольбу: к библейскому Иегове, к богу Вольтера или к Великому зодчему франкмасонов, – только что закончившийся век Просвещения причудливо перемешал всех богов. Ему опять пришлось приступить к рассказу о своих приключениях в Карибском море, но на сей раз он делал это не без удовольствия и охотно пускался в воспоминания, так как моряку были хорошо известны места, где побывал Эстебан.
– Война между Францией и Соединенными Штатами, без сомнения, скоро закончится, – сказал Калеб Декстер. – Мирные переговоры уже начались.
Что же касается Гваделупы, то там, по словам капитана, все время происходят беспорядки; они начались в ту пору, когда Виктор Юг отказался уступить власть Пеларди и Дефурно, так что в конце концов его силой увезли на корабле во Францию. На острове все время вспыхивают мятежи, а «белые начальники» прежних времен, точно возродившись из пепла, ведут открытую войну против «новых белых начальников», добиваясь восстановления былых привилегий. Вообще во французских колониях все больше возвращаются к порядкам, существовавшим при старом режиме, особенно с тех пор, как Виктор Юг принял на себя новые обязанности агента Директории в Кайенне.
– Вы этого не знали? – удивился моряк, заметив недоумение своих собеседников, которые считали, что Виктор Юг потерпел поражение, что карьера его окончена, а сам он брошен в тюрьму или, быть может, даже приговорен к смерти.
Теперь же они вдруг узнали, что, добившись полного торжества в Париже, он с триумфом возвратился в Америку: на голове у него снова красовалась треугольная шляпа, и он опять был облечен властью. Когда новость эта достигла Гвианы, рассказывал янки, ужас охватил ее обитателей. Люди высыпали на улицы, крича, что теперь только и начнутся настоящие бедствия. Ссыльные в Синнамари, Куру, Иракубо и Конамаме, не надеясь выдержать новые напасти, стенали и возносили мольбы всевышнему, прося избавить их от неминуемых страданий. Всех обуял такой страх, что можно было подумать, будто на землю явился антихрист. Пришлось даже вывесить в людных местах Кайенны афиши, в которых населению объявили, что времена переменились, ничего похожего на то, что происходило на Гваделупе, здесь не произойдет, и новый агент Директории, движимый великодушием и справедливостью, постарается сделать все возможное, дабы упрочить благоденствие колонии.
– Sic, [139] – пробормотал Эстебан, услыхав знакомые речи.
И уж вовсе трагикомичным показался следующий факт: желая засвидетельствовать свои добрые намерения, Виктор Юг прибыл в Кайенну с оркестром, который расположился на носу корабля – на том самом месте, где в свое время высилась гильотина, призванная предупредить и устрашить население Гваделупы. Тогда, шесть лет назад, в носовой части судна время от времени слышался зловещий свист падавшего сверху лезвия, которое испытывал Анс, а теперь тут звучали бодрые марши Госсека, модные парижские песенки и сельские контрдансы, исполнявшиеся на флейте и кларнете. Виктор Юг прибыл в Кайенну один, оставив жену во Франции, а возможно, он вовсе и не был женат: Калеб Декстер не мог сказать на этот счет ничего определенного, он сам знал о Юге только то, что ему сообщили в Парамарибо, где в последнее время всех очень тревожило близкое соседство грозного агента Директории. К общему изумлению, этот всесильный человек проявлял теперь неожиданное великодушие, сам посещал ссыльных, до некоторой степени облегчил их жалкое существование и обещал многим, что они вскоре возвратятся на родину.
– Волк рядится в овечью шкуру, – усмехнулся Эстебан.
– Он прожженный политик и ловко применяется к требованиям времени, – подхватил Карлос.
– Что ни говорите, а Виктор человек необыкновенный, – промолвила София.
Калеб Декстер пробыл недолго, он спешил на свой корабль, который снимался с якоря на рассвете: они еще обо всем подробно потолкуют через месяц, когда он вновь остановится в Гаване, по пути на юг. И уж тогда как следует отпразднуют выздоровление больного – осушат несколько бутылок доброго вина. Эстебан сам отвез капитана на пристань… Когда он вернулся домой, у входа его встретил Карлос.
– Поезжай скорее за доктором, – сказал он. – Хорхе задыхается. Боюсь, он не доживет до утра.
XXXIX
Больной все еще боролся. Кто бы мог подумать, что в этом хрупком, бледном человеке, отпрыске угасающего рода, таится столько жизненной энергии! Он с трудом дышал, его сжигала лихорадка, и все же у него доставало сил отчаянно кричать в бреду, что он не хочет умирать. Эстебану не раз приходилось видеть, как умирают индейцы и негры: в час кончины они держали себя совсем по-иному. Они покорно угасали, как тяжело раненное животное, с каждой минутой все больше отрешаясь от жизни, все сильнее жаждали, чтобы их оставили в покое, будто уже заранее смирились с неизбежным концом. Хорхе, напротив, метался, бурно протестовал, стонал и жаловался, не находя в себе мужества принять то, что стало уже очевидным для остальных. Казалось, цивилизация лишила человека стойкости перед лицом кончины, хотя на протяжении веков она выработала множество доводов, которые должны были помочь ему постичь сущность смерти и спокойно принять ее. И теперь, когда смерть неумолимо приближалась с каждым колебанием маятника, страдальцу надо было убедить себя, что она не конец, а всего лишь переход в иной мир, что после жизни на земле человека ждет иная жизнь и вступить в эту иную жизнь нужно с определенными гарантиями, полученными по эту сторону рубежа. Хорхе сам попросил, чтобы пригласили священника, и тот выслушал его последнюю исповедь, состоявшую из бессвязных фраз, которые с трудом можно было разобрать. Узнав, что врачи признали свое полное бессилие, Росаура уговорила Софию разрешить ей привести к больному старого знахаря-негра.
– Поступай как хочешь! – сказала молодая женщина. – Ведь и Оже не отвергал знахарей…
Колдун прежде всего «очистил» комнату, покропив вокруг благовонной жидкостью; потом он стал подбрасывать в воздух раковины, внимательно следя за тем, как они падают – отверстием вверх или вниз, а в заключение принес и положил возле постели больного охапку трав, купленных в лавке неподалеку от рынка у торговца лекарственными растениями. И всем пришлось признать, что старик сумел облегчить состояние больного; теперь Хорхе меньше задыхался, а сердце его, которое вот-вот готово было остановиться, забилось ровнее… Однако на большее рассчитывать не приходилось. Органы умирающего один за другим выходили из строя. Снадобья знахаря лишь ненадолго принесли облегчение. Привлеченные безошибочным инстинктом, похоронных дел мастера целый день бродили вокруг дома. И Эстебан нисколько не удивился, когда портной Карлоса принес траурное платье. София уже раньше заказала своей модистке траурные одежды, их было так много, что они занимали несколько плетеных корзин, беспорядочно стоявших в дальней комнате, где молодая женщина переодевалась с того дня, как заболел муж. Однако, быть может из тайного суеверия, она все еще не решалась открыть эти корзины. Эстебан понимал ее: ведь, заказывая черные одежды, люди как бы совершают некое заклинание, и вынуть их раньше времени – значило бы принять то, чего они не хотели принять. Каждому следовало притворяться, даже перед самим собою, будто он не верит, что черные покровы вновь появятся у них в доме. Но три дня спустя после рокового сердечного приступа, который не удалось приостановить, черные покровы в четыре часа пополудни вступили в жилище через парадный вход. Траур вошел сюда в черных одеяниях монахинь, в черных сутанах священников, в черных костюмах друзей, покупателей, франкмасонов, знакомых, служащих торговой фирмы; он вошел сюда в черных котелках и перчатках людей из похоронной конторы, доставивших черный катафалк и черные покрывала; он вошел сюда в черных одеждах чернокожих, негры поставляли в этот дом вот уже четыре поколения слуг; теперь, как забытые тени, негры пришли сюда из далеких кварталов и, столпившись под аркадами патио, хором оплакивали усопшего. В обществе, издавна разделенном сословными и расовыми перегородками, прощание с покойником было единственной церемонией, где их не принимали в расчет: вот почему случалось, что цирюльник, который однажды брил умершего, стоял у его гроба рядом с наместником колонии или главою медицинской корпорации, с графом де Посос-Дульсес или богатым землевладельцем, которому король недавно пожаловал титул маркиза.
Несколько удивленная присутствием сотен незнакомых людей – весь коммерческий мир Гаваны посетил в эту ночь дом с высокими колоннами, – София, осунувшаяся от бессонных ночей, погруженная в глубокую скорбь, которая обходится без показных жалоб и слез, исполняла непривычную для нее роль вдовы с таким достоинством и благородством, что Эстебан был изумлен. В комнате было душно: одуряюще пахло множество различных цветов, от них даже неприятно тянуло расплавленным воском, и ко всему этому примешивался чад бесчисленных свечей и еще не выветрившийся запах лекарств, особенно горчицы и камфары; от духоты молодую женщину, должно быть, мутило, ее нахмуренное лицо сильно побледнело, однако, несмотря на мешковатую траурную одежду и даже на известные недостатки внешности, София была по-своему хороша. У нее был, пожалуй, слишком упрямый лоб, слишком густые и сросшиеся брови, слишком неподвижный и медлительный взгляд, немного длинные руки, а ноги чересчур тонкие по сравнению с пышными бедрами. Но даже в этой тягостной обстановке она излучала неповторимое обаяние – обаяние женственности, законченной и совершенной, исходившей из самых недр ее существа, и Эстебан теперь особенно остро ощущал его, постигая скрытые возможности этой богатой натуры. Он вышел в патио, чтобы немного отдохнуть от монотонных голосов, бормотавших молитвы в гостиной, где лежал покойник. Потом направился к себе в комнату, и тут взгляд его упал на валявшиеся в углу марионетки: их причудливый вид, наряды, позы – все походило на гротеск в духе Калло [140]. Эстебан повалился в гамак, его преследовала навязчивая мысль о том, что завтра в доме станет одним человеком меньше. Планы будущего путешествия супругов, еще несколько дней назад так тревожившие его, уже никогда не осуществятся. Теперь наступит год унылого траура, с заупокойными мессами по усопшему и обязательными посещениями кладбища. Впереди у него будет целый год, чтобы убедить сестру и брата в необходимости переменить образ жизни. Пожалуй, нетрудно будет вернуться к былой мечте, которую они лелеяли еще на заре юности. Карлос, правда, слишком погряз в торговых делах, но все же месяца на два или на три и он, пожалуй, сможет уехать. А уж потом Эстебан устроит все так, чтобы остаться вдвоем с Софией где-нибудь в Европе, скажем, в Испании, стране, которой теперь меньше, чем прежде, угрожала война с французами, – совершив прыжок через Средиземное море, они ведь самым нелепым образом завязли в Египте. Все дело только в том, чтобы не торопиться, не поддаваться минутным порывам. Черпать полными пригоршнями в бездонной сокровищнице лицемерия. Лгать, когда это будет полезно. Добровольно играть роль Тартюфа…

