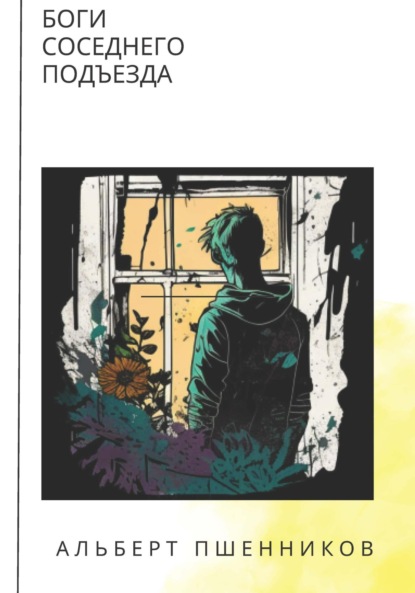 Полная версия
Полная версияБоги соседнего подъезда

Альберт Пшенников
Боги соседнего подъезда
Эпиграф: Да.
Пустое место.
Кольшиц ехал в метро. Свободных мест было много, поэтому он сел на скамью и стал смотреть на дверь. Напротив него сидел на своем месте Савушкин и что-то читал.
На Полежаевской рядом с Кольшицем грузно опустился Краснов, и тут же полез в карман за телефоном. Кольшиц скользнул по нему взглядом, и снова начал смотреть на дверь. Савушкин по-прежнему сидел и читал.
На Беговой поезд затормозил резче, чем обычно. Кольшиц навалился на Краснова, и не сразу вернулся обратно. Краснов подумал, что Кольшиц голубой, и посмотрел на него неприязненно. А Савушкин и ухом не повел.
Кольшиц не был голубым. Но истолковал взгляд Краснова по-своему. Он почему-то подумал про свою национальность. И посмотрел на Краснова, как на дверь. Савушкин поправил очки и продолжил чтение.
Краснов не был антисемитом, но жутко не любил голубых. Он подумал маленько, отвел глаза к двери и пробормотал себе под нос: развелось тут вас. Смотрел он при этом почему-то прямо на Савушкина.
Тем временем рядом с Савушкиным опустился пятиклассник Тимкин. Утром мама выдала Тимкину трусы и майку с парусами, и теперь паруса непрерывно перемещались по его голому телу и щекотали бока. Поэтому Тимкин вертелся и болтал ногами, и даже разок несильно пнул Савушкина. Тот помолчал и перелистнул страницу.
Кольшиц вдруг вспомнил, что у него черный пояс по дзюдо. Почти черный. Он откинулся назад и аккуратно ткнул Краснова локтем в мягкий, под курткой, бок. Савушкин и тут не шелохнулся.
Краснов посмотрел на Кольшица. Кольшиц посмотрел на Краснова. Время остановилось в черной дыре около Баррикадной. Оба забыли про семьи свои. В глазах у них была лютая ненависть.
Над Савушкиным навис Дорбидзе, и близоруко начал рассматривать схему метро. Его большая сумка свесилась вперед через плечо и повисла в прямо перед лицом Савушкина. Савушкин вставил голову в пространство между сумкой и поручнем, и скосил глаза в книжку.
Краснов и Кольшиц демонстративно отвернулись друг от друга, и начали смотреть на Савушкина. От их взглядов пиджак Савушкина почти что задымился. Савушкин расстегнул пуговицу на вороте, и заново перечитал предыдущий абзац.
Сомова села с другой стороны Савушкина и практически легла на него. Она ехала после ночной смены, и еще не успела позавтракать, поэтому тут же уснула. Читать стало невозможно. Савушкин прикрыл глаза и не двигался.
Он сидел на своем месте. Кольшица загородили – он шумно дышал, мысленно жуя Краснова вместе с его черным поясом. Краснов уже видел вагон в синем цвете. А Дорбидзе все возил и возил пальцем по схеме, шепча названия переходов, и его сумка стучалась о Савушкинов лоб. Пятиклассник Тимкин вертелся, надувая паруса. И Сомовой снилось, что она забыла что-то очень важное.
Когда доехали до Китай-Города, Савушкин осторожно выполз из-под Сомовой, и вышел.
Без него в вагоне стало как-то пусто.
Гаврилов
В первую же ночь у Гаврилова украли тапки.
«Купим новые, – сказала жена. – Пойдем к морю, и купим!» Но Гаврилов отказался. Из принципа.
Пока жена еще раз осматривала сумки, Гаврилов увидел выходящего с полотенцем под мышкой Гогенко.
– Доброго утречка, – прогудел Гогенко. – Вчера приехали? А мы тут уже неделю отдыхаем!
– Доброго, – ответил Гаврилов. И добавил сосредоточенно: Тапок тут моих… не видали?
Тапок Гогенко не видал. И оттого отношения между семьями сразу не сладились.
На пляже сначала все шло хорошо. Но потом камни дьявольски нагрелись. Гаврилов шел по ним, выворачивая пятки, и шипел от боли. Тапки, – думал он. – Где мои тапки?
Со следующего дня Гаврилову приходилось вставать ни свет, ни заря, чтобы занять место рядом с морской полосой. Но туалет, кабинка переодеваний… Мучения Гаврилова продолжались. Он смотрел на море, потом переводил взгляд на ноги счастливцев, которые шли по камням. Закрывал глаза и видел светящееся пятно в виде большого тапка.
Дети Гаврилова играли в съемном доме в увлекательную игру. Они разбили участок на квадраты, довели до седины дворового пса, но тапок так и не нашли.
Когда хозяйка Манукян приготовила восхитительное лобио, Гаврилов сказал семье: тут что-то не так. Бесплатно и так вкусно… А не она ли стащила тапки?
Это бы ничего, но из-за того, что Гаврилов старался меньше ходить по пляжу, он залезал в море редко, потом жадно и долго нырял, и в результате схватил насморк. Сидя в тени и глядя на купающуюся семью, он думал о тех, кто мог свершить с ним такую неимоверную подлость.
Гогенки к тому дню уехали. Вместо них поселилась семья Лист. Папа Лист, мама Лист, дети-листочки. Тапки украсть они не могли. Но семья попалась шумная, отдыхала с азартом, и Гаврилов смотрел на них кисло.
Выбрались на экскурсию. «Какие спокойные жители! Приятный город, не правда ли?», – спросила пенсионерка Реброва. Гаврилов помолчал, хлюпая носом, и кратко ответил: Ворье.
И только в офисе Гаврилова прорвало. «Проклятые тапки! – сказал он Непошитову. – Из-за них весь отпуск коту под хвост!»
Да, – ответил Непошитов. – Не повезло.
Люди
Когда Кравец зашел в маршрутку, в ней громко играл шансон. Кравец поморщился – он предпочел бы ехать в тишине. Работал он учителем начальных классов, и сейчас, после трудового дня, голова у него опухла от шума.
Но в маршрутке, кроме водителя, сидела еще студентка Самойлова и бугай Нилов, и Кравец не посмел проявлять недовольства. Ладно, – подумал он, – не дома. Потерплю.
Студентка Самойлова училась на третьем курсе консерватории. Шансон был для нее мучителен. Она вставила наушники, попыталась повторить домашнее задание, но тщетно. Тоскливо глядела в окно, пенсионно размышляя о деградации вкусов.
Бугай Нилов фанател от тяжелого металла. Он с радостью растоптал бы проигрыватель с примитивной музыкой и тошнотворными песнями, но считал, что хозяин здесь шофер. Скрипел зубами и считал, через сколько остановок ему выходить.
А шофер Баранкин… Он и рад был бы поставить любимую аудиокнижку. Но его коллеги всегда ставили у себя шансон, и только шансон. И все пассажиры, как считал Баранкин, не любят копаться в смыслах, и шансон в дороге – для них самое то.
Баранкин утром заводил свою маршрутку, привычно врубал шансон, и больше в течение дня уже не задумывался. Все они – и шофер, и пассажиры, – знали, что нужно думать о других и уметь жертвовать личным ради общего. В большинстве своем они были пре-крас-ней-ши-ми людьми!
Нилов вышел первым, спрыгнул на снег и посмотрел в непросыпанное небо. Вскоре сошла Самойлова и шустро побежала до общежития. Кравец ехал почти до конца, ехал, когда уже не осталось в маршрутке других пассажиров, пытался дремать, но не мог. Пытался думать – и тоже был в этом бессилен. Шансон лез в уши, и даже потом, когда Кравец выполз наружу, шансон еще долго скакал в его голове.
Баранкин на следующий день не вышел на работу. Вечером у него случился сердечный приступ, и спасти его не смогли. Поэтому через два дня на работу приняли Долина.
Долин пришел на смену в пол-шестого. Обошел вокруг маршрутки, постучал по колесам, принюхался. Потом молча залез в промерзшую за ночь кабину, врубил шансон и поехал во тьму за первыми пассажирами.
Он не любит родину.
Анжелика вернулась со свидания такая расстроенная, что Катя долго не решалась ее ни о чем спрашивать. Та односложно отвечала на вопросы, потом пили вместе безвкусный чай, смотрели телек. Там после унылого сериала шли победные новости. И вот, после новостей Анжелика, наконец, зарыдала.
– Ну что ты, что ты, – Катя гладила ее по голове, но слезы капали и капали в блюдце, пропитывая вчерашнее печенье. – Он некрасив?
– Красив, как бог! – сквозь ладони ответила Анжелика.
– Грубый, надменный или хам?
Анжелика замотала головой, от чего слезы попали даже в сахарницу.
– Глупый идиот? – ахнула Катя.
– Ни фига не идиот, – пробубнила подруга, – и отлично шутит. С ним весело!
– Мало зарабатывает?
– Нет!
– Женат? Есть дети?
– Да нееет!
Долго молчали. Катя смотрела в беззвучно работающий телевизор, курила и напряженно думала. Наконец, собравшись, сделала последнюю попытку. Хоть это было опасно.
– Ты ему… не понравилась?…
Анжела шмыгнула носом.
– Вроде, понравилась.
А потом добавила:
– Но больше с ним не пойду.
– Но почему?!
Услышав короткий ответ, Катя резко затушила окурок, причем сперва попала мимо пепельницы. Посмотрела невидящими глазами куда- то сквозь стену и подумала: Вот сволочь!
Спрашивать больше было не о чем.
Спасти Сидорова
1
– Сидорова нужно спасать, – сказал Котов Белобородову. – Каждый раз проходя это место, Сидоров прислоняется лбом и ладонями к стене, и стоит так секунд десять.
Белобородов ответил, не задумываясь:
– Свихнулся. Все они, инженеры, немного ку-ку.
– Чегой-то сразу свихнулся? Может, он молится так? Все же иногда молятся, – Аделина закатила глаза, а потом добавила: Он мне звонок починил.
Ручкина, Студентка Института Человека, сказала, что не свихнулся, а получил нервное расстройство. Был покусан мегаполисом. И помянула всуе Фрейда.
– Ничего вы не понимаете, – грубо встрял Тихонов. – Я Сидорова с детства знаю. Это он по собаке своей скорбит. Собака у него была, лет двадцать назад. И как раз в этом месте все время опорожнялась…
Но сын Белобородова точно знал, в чем дело. Просто Сидоров – инопланетянин. Гость параллельных миров. Там, за стеной, у него портал, и он получает инструкции. Или подзаряжается энергией через электроды во лбу.
– Все равно – спасать нужно, – опять сказал Котов.
А хирург Ульнис сказал, что это упражнения для осанки. И вспоминательное место, – добавила его маленькая дочь.
А мама Котова сказала сыну: знаешь, Дима, ты меня прости, но Света тебе не пара.
А Спаситель спросил Котова: ты моей пенсии хочешь?
2
Как бы то ни было, но Котов развел бурную деятельность, собрал деньги, и вместе с сыном Белобородова перекрасил этот участок подъезда в керосиновый цвет.
Понаблюдали. Сидоров утром спустился, подошел было к стене, но прислоняться к свежей краске не стал. Постоял в полуметре и пошел себе дальше.
Тогда Тихонов позвал Сидорова на пикник с ночевкой. И Ручкину заодно. Ожидалось, что Сидоров от деревьев будет подзаряжаться. Но Сидоров вел себя мирно: сыпал анекдотами и жарил шашлыки. Ручкина приехала довольная. Тихонов, напротив, мрачный.
Тогда Котов взял и написал мелом на стене крупными буквами:
СИДОРОВ! ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ?
Понаблюдали. Сидоров утром подошел к стене, прочитал надпись и пошел дальше. А через месяц продал квартиру и уехал. И Ручкину с собой забрал.
3
– Жалко, – сказала Аделина. – Кто теперь шпингалет прикрутит?
А хирург Ульнис обмерил стену и сразу защитил диссертацию.
А сын Белобородова написал школьное сочинение. Про Тихонова.
– Что же теперь делать? – в отчаянии спросил Котов.
– Глуп ты, Котов, – сказал Спаситель. – Я тебя накажу.
Титов
К Титову постучалась мама.
Он спокойно сидел дома и работал, но вдруг к нему постучалась мама. Мысли как-то сразу смешались.
С одной стороны, мама, конечно, человек современный. В кроссовках на дачу ходит. Смартфоном пользуется. Даже загранпаспорт у нее есть! Но впустить – вот так, сразу! –было как-то боязно. Да что там говорить, было Титову страшно.
А ну как увидит мама, какие тут у него люди зависают? И какие ведутся (боже ж ты мой!) разговоры. Это ведь надо сначала всех предупредить. Всё убрать! А как убрать, если тут годами всё каждый день валится? Не валится, – честно сказал себе Титов, – сам ищешь такое-всякое не очень, и откровенную ерунду, и все это у себя размещаешь. Места-то полно!.. Будь оно неладно, это место.
Но как не впустить? Это ж мама. М-мама!
Титов посмотрел на часы. Мама через час уходит на хор. Вернется только под вечер. Веселая. Или не совсем?.. Вот сейчас у нее дел особых нет, и мама просто ждет, когда Титов ее впустит. А Титов сидит, как мумия Египетская, пальцы растопырил, да так и застыл.
Нет, ну это с ума сойти – мама постучалась! Надо будет Светке сказать, не поверит. Кстати, о Светке. Вот предположим, зайдет мама к нему. Потом к Светке, а от Светки, чего доброго, и к Невозможной. Что мама подумает? Родной сын – и тут, почти рядом, всего через одну Светку – Невозможная. Нет, ну это же совершенно невозможно!
А может, до вечера отложить? Вечером, после работы, к ней заехать. Сказать: мама, вот ты с утра постучалась, я не смог тебя впустить. Ты же мама, а у меня там… ну и вообще. Давай все останется так, как есть. Давай лучше я к тебе чаще приезжать буду. Не обидится?
Мама редко обижается. Но всерьез. Вот, был случай, когда он Светку с восьмым марта поздравил, а маму на следующий день только. Ну, так получилось. Пришел с цветами. Цветы взяла, но долго обижалась. Смотришь – вроде, мама. И все-таки, будто немножко меньше мамы в ней. Ужасное ощущение. Потом, слава богу, все наладилось.
Тут дико затряслось что-то сбоку. Телефон с секунду подергался, потом во всю силу выдал турецкий марш. Самый Шеф звонит! Так впускать маму или нет? Шеф явно по вопросу Того Сайта, и разговор займет минут двадцать, если не больше. Чего доброго, и с продолжением в видео-конференции. За это время мама точно на хор уйдет.
Поэтому Титов медлил. Просто сидел, тупо смотрел в пространство за окном, и пытался поймать хоть одну четко сформированную мысль. Мыслей не было. Мама! Мама, ну зачем, зачем ты постучалась ко мне?..
Титов закрыл глаза и нажал мизинцем на клавиатуру. И вдруг почувствовал, что в груди его что-то оборвалось. Как будто ушло, потерялось что-то ценное и важное.
– Что с тобой? – шеф был в своем стиле и настроении. – Голос у тебя такой, как будто кто-то умер!
Титов уже подключил гарнитуру, положил на телефон на стол, чтобы освободить руки.
Нет, – медленно проговорил он. – Просто я только что добавил маму в друзья.
Вы Ж понимаете?
– Интересный рассказ, – сказал редактор. – Живой!.. Но взять его не могу.
– Почему? – спросил я, глядя на его блестящий от испарины голый череп.
– Ну… вы же понимаете.
От этой фразы я всегда впадал в недоумение. Это, как если бы некто на улице вдруг вручил тебе огурец со словами "Ну ты же проголодался!" Или продавец в магазине вдруг вызвал бы полицию, заявив: "Ну ты же точно замыслил обнести полку с чёрной икрой! Еще бы чуть-чуть, и всё! Сам же понимаешь!"
Поэтому я сказал:
– Нет, не понимаю. Вы же говорите – рассказ интересный.
– Но это не детская литература! Вы же понимаете.
– Ну так опубликуйте его во взрослом разделе! Формат журнала позволяет.
– Во взрослом не могу!
– Почему?
– Вы же понимаете.
Похоже, мы ходим кругами, – подумал я. Все было ясно. Я поднялся, чтобы попрощаться. Редактор протянул мне руку.
– Присылайте! – радостно сказал он. – Присылайте еще! Только пожалуйста… пишите НАСТОЯЩУЮ детскую литературу. Или взрослую, только… ну, вы понимаете.
И я ушел писать НАСТОЯЩУЮ детскую литературу.
Целый день бился над первым абзацем – ничего не выходило. Плюнул, закрыл ноутбук и пошел в кафе. Там уже сидел на своем месте Костик.
– Привет! – сказал Костик. – Ну и как?
Я скорчил кислую мину . Помолчали.
– Ладно, выкладывай, что ты им там отправлял.
Я подал ему сложенный листок. Костик развернул и пару минут читал, сосредоточенно шевеля пятерней в кучерявых волосах.
– Дохляк, – он протянул назад листок. – Это опубликуют лет через десять. Как минимум.
– Почему? – зловредно спросил я.
– Ты же понимаешь.
– Сегодня я слышал эту фразу уже раз десять, – угрюмо процедил я. И поведал ему о дневном разговоре.
– Ладно, – миролюбиво ответил Костик. – Тогда без "Е".
– Что "без Е"? – не понял я.
– Ну, у редактора ты слышал "Ты же понимаешь" как увещевание. Как спущенный флаг. Как капитуляцию. А у меня без "Е". Две большие разницы!
– Вы что, сегодня все решили меня с ума свести? Какие еще "Е"? – хотелось запустить в него кружкой, настроение и без его зауми было поганое.
– "Ж" без "е", – оживленно зашептал он. – Ты Ж понимаешь. То есть видишь, что все мы в этой Ж, и вот про нее и пишешь. Это комплимент, отец. Понимаешь?
Тут я кивнул. Понимаю.
Он продолжал развивать, что если рассказ романтический, то фразу «ты Ж понимаешь» можно наполнить совершенно иными, интимными, смыслами, но я слушал его вполуха.
Ж, – думал я. – Бедный, бедный мой редактор.
Мы.
Когда Димка с Петькой отняли у Данилки самосвал, Миша не знал, понравится ли это Косте. Все-таки, Костя часто играл с Данилкой в песочнице. И тогда Миша выбрал момент, когда Костя только во двор вышел, подбежал к нему, и не давая опомниться, заорал:
–Самосвал наш!!!
У того аж в голове зазвенело. Ему стало весело. И он тоже закричал Мише прямо в ухо:
–Самосвал наш!!!
Тот от смеха так и покатился. Подошли они потом вдвоем к Катьке, и с обеих сторон:
–Самосвал наш!!!
И Катька тоже смехом изошла. Хоть самосвал ей был, в общем, ни к чему. Стали они подходить ко всем ребятам во дворе и вопить:
–Самосвал наш!!!
И всем весело было. И что самосвал, наконец, наш, и что в голове звон приятный, и что Данилка ревмя ревет.
А потом Миша подошел к Эдику, который читать рано начал, и тоже что есть мочи заорал:
–Самосвал наш!!!
Но Эдик промолчал.
Тогда Миша набрал полные легкие воздуху и заорал так, что даже в соседнем дворе услыхали:
–Самосвал наш!!!
Тот поморщился от крика, покрутил головой и вдруг спросил его:
– А кто это – мы?
Озадачился Миша. Задумался. Подошел к Катьке и спросил:
–А кто это – мы?
Катька – к Косте. А тот – к Димке. А Димка – к Петьке:
–Кто это – мы?
А Петьке и спросить больше не у кого.
Задумался Петька. Лоб наморщил. Тишина во дворе настала. Даже Данилка реветь перестал, стоит, прислушивается.
И вдруг лицо Петьки просветлело:
–Мы, – сказал он негромко, – это те, чей самосвал!
Обрадовался Димка. К Косте побежал:
–Мы – это те, чей самосвал, – воскликнул он. – Самосвал наш!!!
Всхлипнул Данилка, домой поплелся.
А Костя уже – к Катьке. А Катька – к Мише.
–Мы! – кричат, – Самосвал наш!!!
Всем рассказали!
А Эдику и возразить на это было нечего. Через час придумал что-то, но поздно было – налепили уже на самосвал свои наклейки, да кукол своих в кузов насажали. Поздно! Поиграл Эдик в сторонке, потом тоже подошел. И попросил поиграть.
Так самосвал стал нашим.
Вообще.
– Зачем? – спросил Цветков у Поленова.
– А чего они? – ответил Поленов. – Сами же знали, что тут, так пусть теперь.
– А может, они не? – заступился Столяров.
– Какое там не, если да! – горячо возразил Поленов.
Водянов долго молчал. Потом сказал:
– Ну, значит, вот так.
Семечкин захотел разрядить обстановку.
– А знаете, – сообщил он. – Сегодня прямо ничего себе!
– Правда? – посмотрел вдаль Поленов.
– Вообще! – поддержал Семечкина Цветков.
И разошлись по своим делам.
«Уй!»
(разговор в трамвае)
– Слушай, очень рад, что тебя сегодня встретил! Знаешь, такая тоска в последнее время, поговорить не с кем. Интеллигенция вымирает…
– Сережа, когда-то давно, – еще в консерватории, – Родион Щедрин сказал нам, что и интеллигент, и обычный человек очень похожи. Оба плюют на пол! Только обычный человек плюнет, и пойдет себе дальше. А интеллигент плюнет – и растирает, растирает ногой, растирает…
– Хм… Музыканты!.. Мне, конечно, ближе литература. Я так и представляю: увидит обычный человек написанное на стере слово «ЛОРКА», подумает: ошибка, добавит мысленно спереди букву «Х» и заснет, удовлетворенный. А интеллигент увидит слово «ХЛОРКА», подумает – ну, хлорка, и что с того? А вот если убрать первую «Х»… И взгляд его тут же затуманится этакой поэтической дымкой…
(едут в молчании)
– Кстати – видишь, на тех гаражах? Кто-то как раз написал тест на интеллигентность.
– Что?… А, прости, Саша, – вспоминал великого Гарсиа… Вот это, знаменитое:
Август. Персик зарей подсвечен,
И сквозят леденцы стрекоз.
Входит солнце в янтарный вечер,
Словно косточка в абрикос…
– Так что там было за слово, Саша?
– Да ладно, проехали уже. Ничего оригинального…
– ?
– «УЙ!».
– Саша, ты – интеллигент!
Боги соседнего подъезда
1
Утром на окне в подъезде вновь появились цветы.
Мягков спустился на один пролет, устроился на облезлой батарее и закурил.
Мутило с похмелья.
Вспомнил Бекешина. Долго и беззвучно ругался. Сволочь Бекешин – на работу не взял! А ведь в этом же доме живет, в соседнем подъезде, в детстве во дворе вместе в хоккей гоняли.
Хотелось взять гвоздь и по-старинке, как лет тридцать назад, нацарапать по синей краске: «Бекешин – …!» Но возраст уже не тот. И писать-то особо негде, почти вся стена в надписях – подъезд уже сколько лет не крашенный.
И гвоздя под рукой нет…
Мягков хмуро посмотрел за окно. Вот и снег сошел. Апрель.
Скоро самые заказы пойдут! А Бекешин ему: «Извини, Саня, не могу я тебя взять. Выпить любишь. Да и бригада у меня – все до работы жадные, и к людям приветливые. А как ты людям окна ставить будешь, если у себя дверцу почтового ящика который уж год починить не можешь?»
Прикопался, гад, к ящику! Ну да, вот он, ящик – замок сломан, рекламщики выдрали. Опять сломают, что его чинить-то? Так даже удобнее.
Башка раскалывается, – подумал Мягков. – Сходить к Семеновне, занять стольник? Не, дохляк, – позавчера, в воскресенье, попросил – так вынесла, дура, кусок кулича. Черт с тобой, воистину воскресе, но без выпивки что за праздник? Закуску всухомятку съел, так потом икал до ночи.
Он бросил на пол изжеванный окурок. Тошнота отступала. И вместо нее живот заполняла дикая, бессмысленная злость. Попытался успокоиться, подышал часто и глубоко, вцепившись в батарейные ребра. Взгляд уперся в карминно-красные цветки, осторожно выглядывавшие из мягких, с прожилками, листьев. Будто замшевые, – подумав, вспомнил Мягков нужное слово. Наклонился ниже, к самым цветкам, и втянул носом воздух.
Тягучая, горькая струя вонзилась глубоко в голову. Нестерпимо заломило в глазах, виски крепко стиснуло ушедшей было болью.
Н-ненавижу герань! – вскипел Мягков и широким рывком скинул цветок на пол. – Бекешин – урод! И все вокруг такие же уроды!
Горшок упал навзничь и треснул. Высыпалась черная, с мокрым, земля.
Мягков дернул щекой, выругался и пошагал наверх, в восьмую.
2
Но утром на окне в подъезде вновь появились цветы
– Ой! Красота какая! – Зотова остановилась у окна. – Опять Семеновне неймется. И ладно бы ерунду какую поставила, а то гляди-ко – декабрист! Да еще сортовые, видать!
Сверху спустился какой-то тип. Незнакомый. Снимает у кого, что ль? Зотова сделала вид, что проверяет почту, и когда тип прошел, снова вернулась к цветку. Забормотала вполголоса:
– Красота какая-а! Не хуже, чем в соседнем. Ну дык там богатые все. Живут, как боги! И скамейки у них, и клумбы, и домофон. Из старых покрышек журавлей сделали, да в белый цвет выкрасили. Летом плывут по цветам журавли – красота!.. Конечно, им все можно, если денег девать некуда. А у нас здесь народ такой… Куда им цветы? Испоганют опять.
– Ты здесь как прынц на помойке, – сказала она цветку. Погладила грубой рукой тонкие цветочные лепестки. Цветов было множество, зеленые суставчатые пальцы выползали из белой банки из-под меда, использованной вместо горшка, и каждый палец заканчивался ярко-красным бутоном.
– От удивляюсь я на Семеновну, – тихо ворчала Зотова. – Дочь у нее студентка, уехамшись, на учебу едва хватает. У самой пенсия меньше моей. А тут – красота такая!
Солнечный закатный луч пробился сквозь облака. Осветил сквозь пыльное окно неровный квадрат справа. Зотова осторожно подняла банку, подставив цветок солнцу. Декабрист весело закивал пестрыми корзинками. На дне банки вспухла чуть ржавая капля и перекатилась к Зотовой на запястье. Змейкой ушла под плащ.
– Сломають тебя здесь! – твердо прошептала она. – Да и в банке энтой тебе не место.
И, воровато оглянувшись, быстро поставила цветок в широкую сумку.
Чуть хромая, шустро засеменила по лестнице.

