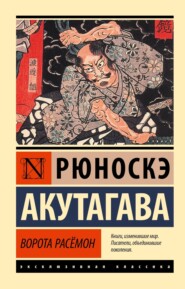
Полная версия:
Ворота Расёмон
Стоит заговорить о ширме с муками ада, и я вижу эти страшные образы, как наяву.
Хотя многие художники рисовали ад, картина Ёсихидэ с самого начала не похожа была ни на какую другую. На одной из створок ширмы, в углу, он поместил небольшое изображение Десяти судей[26] с прислужниками, остальное же пространство было заполнено адским огнём – казалось, в нём вот-вот сгорят даже Лес Ножей и Гора Мечей. Среди бушующего пламени мелькало там и сям жёлто-синее китайское облачение адских чиновников, мазки туши закручивались в воронки чёрного дыма, разлетались золотые искры.
Одного этого было бы достаточно, чтобы поразить зрителя, но и грешники, сжигаемые пламенем и претерпевающие всевозможные муки, были выписаны совсем иначе, чем на других изображениях ада. Дело в том, что Ёсихидэ нарисовал среди них людей самого разного положения, от высших до низших. Не было им числа: придворные в церемониальных одеяниях, кокетливые молодые дамы в многослойных платьях, буддийские монахи с чётками в руках, школяры в высоких сандалиях-гэта, юные девочки в детских платьях, гадатели-оммёдзи с жезлами в бумажных лентах. Все они, терзаемые демонами с бычьими и лошадиными головами, метались в огне и дыму, словно листья, гонимые ураганом. Вот женщина – очевидно, жрица-мико – со скрюченными, будто у паука, руками и ногами, а волосы у неё намотаны на рогатину. Вот мужчина – похоже, провинциальный чиновник – с копьём в груди, висит вверх ногами, как летучая мышь. Иных колотили железными палками, другие были придавлены тяжёлыми камнями, третьих клевали чудовищные птицы или кусал ядовитый змей… Карам, как и самим грешникам, не было числа.
И всё же одна сцена пугала особенно: почти задевая острые, будто клыки чудовищ, унизанные мертвецами верхушки деревьев в Лесу Ножей, с неба падает карета. Бамбуковые занавески отброшены адским ветром, а внутри женщина в роскошном придворном платье, чёрные волосы разметались в языках пламени, белая шея выгнута в мучительной агонии. Ничто не говорило о терзаниях в аду так красноречиво, как фигура этой женщины в объятой пламенем карете, – в ней одной будто сосредоточился весь ужас происходящего. Поистине, это была работа гения: стоило посмотреть на картину, и, казалось, можно было даже расслышать душераздирающие крики несчастной.
Из-за этого-то изображения и произошли те страшные события, о которых пойдёт речь дальше. Не случись их – даже сам великий Ёсихидэ не смог бы, пожалуй, так живо изобразить мучения в преисподней. Ширма эта стоила великих страданий – и самой человеческой жизни. А Ёсихидэ, лучший во всей нашей земле художник, оказался в аду, который изобразил.
Но я, торопясь поведать вам историю ширмы, забегаю вперёд. Расскажу лучше о том, что произошло после того, как наш господин повелел Ёсихидэ изобразить муки ада.
7Следующие пять или шесть месяцев Ёсихидэ не появлялся при дворе, ибо без устали трудился над ширмой. Даже свою дочь не хотел он видеть – не удивительно ли, до чего доходило его рвение? Ученик, про которого говорилось ранее, рассказывал, что Ёсихидэ работал, как одержимый, словно его зачаровала лиса-оборотень. Тогда ходили слухи, будто он достиг таких высот в живописи потому, что принёс обет богу удачи. В доказательство некоторые даже рассказывали, что видели призрачных лис, обступающих его со всех сторон, когда он рисует. Так что стоило ему взять в руки кисть, как он забывал обо всём, пока не допишет картину. День и ночь напролёт сидел художник, запершись, у себя, и почти не видел солнца. А уж когда Ёсихидэ расписывал ширму с муками ада, работа поглотила его целиком и полностью.
Что ни день, он, опустив занавеси, при свете фонаря смешивал для красок тайные составы, а учеников заставлял одеваться то в такую, то в этакую одежду, чтобы каждого из них тщательно зарисовать. Впрочем, подобные странности водились за ним и раньше, до того, как он взялся за работу над ширмой. Что уж тут говорить – когда Ёсихидэ писал картину с Пятью путями перерождения для храма Рюгайдзи, он, увидев на дороге мертвеца, не поспешил отвернуться, как сделал бы обычный человек, а опустившись перед полуразложившимся трупом на землю, зарисовал его в точности: и лицо, тронутое гниением, и руки – всё до мельчайшей прядки волос. Не каждый способен вообразить, какова была сила одержимости, захватившей Ёсихидэ. Здесь не хватит места описать все подробности, поведаю о главном.
Однажды, когда ученик – которого я то и дело поминаю – растирал краски, его внезапно окликнул учитель:
– Я собираюсь вздремнуть, однако в последнее время меня часто беспокоят дурные сны.
В этом ничего удивительного не было, и ученик, не отрываясь от своего занятия, лишь почтительно ответил:
– Ах, вот как…
Но что же вы думаете? Ёсихидэ, глядя на него просительно и словно бы смущаясь, промолвил:
– Посиди у моего изголовья, пока я сплю.
Ученику показалось странным, что художник так встревожен дурными снами, тем не менее просьба учителя труда не составляла, и он ответил:
– Как вам угодно.
– Тогда пойдём со мной. И если ещё кто из учеников явится, ко мне в комнату никого не впускай, – сказал Ёсихидэ, по-прежнему будто колеблясь. Он отвёл ученика в мастерскую, где работал, – днём и ночью там за закрытой дверью горели фонари, а вдоль стены стояла ширма, на створках которой были пока лишь углём набросаны эскизы. Придя туда, Ёсихидэ улёгся и, подложив под голову локоть, уснул крепко, как человек, вконец обессиленный.
Не прошло и получаса, как сидевший у изголовья ученик услышал странные, пугающие звуки.
8Сперва голос был невнятным, но постепенно удалось разобрать отдельные слова – казалось, тонущий человек говорит из-под воды:
– Зачем… зачем ты меня зовёшь? Куда… куда идти?.. В ад. В огненный ад… Кто это? Кто это говорит? Кто ты?.. А ты как думаешь – кто?
Ученик, забыв о краске, которую растирал, уставился на учителя: изборождённое морщинами лицо покрыла бледность, на лбу крупными каплями выступил пот, губы пересохли, почти беззубый рот хватал воздух. Во рту что-то быстро-быстро двигалось… Да это же язык! Его будто за ниточки дёргали. Обрывочные слова вылетали одно за другим:
– Я всё думал, кто это… А это ты. Мне так и подумалось: наверное, ты. Что, встречаешь? Тогда идём. Идём в ад. В аду… В аду меня ждёт дочь.
Тут уж ученику стало совсем не по себе: почудилось, будто какая-то смутная тень скользит по ширме, спускаясь ниже и ниже. Он, конечно, не утерпел и принялся тормошить Ёсихидэ, пытаясь разбудить, да только тот проснулся совсем не сразу, а всё продолжал говорить с кем-то во сне. В конце концов ученик схватил стоявший рядом сосуд с водой, где мыли кисти, и выплеснул учителю в лицо.
– Я жду, садись в карету! Садись в карету, она привезёт тебя в ад! – проговорил Ёсихидэ, после чего слова перешли в сдавленный стон, и он, наконец распахнув глаза, поднялся рывком, словно в него вонзили иголку. Какое-то время он так и сидел, с открытым ртом и с выражением ужаса на лице глядя в пустоту, как будто ещё пребывал во власти странных видений, пока наконец не пришёл в себя и не бросил ученику:
– Довольно, теперь уходи!
Ученик, давно выучивший, что спорить с учителем себе дороже, поспешил удалиться. Стоило выйти наружу и увидеть солнечный свет, как ему показалось, что всё случившееся было дурным сном, и он вздохнул с облегчением.
Увы, худшее было впереди. Прошёл месяц, и Ёсихидэ призвал к себе в покои другого ученика. Когда тот вошёл, учитель, как всегда сидевший при тусклом свете масляного фонаря и грызший кисть, вдруг сказал:
– Не сочти за труд, разденься догола.
Ученик, привыкший слушаться, быстро разоблачился, и Ёсихидэ оглядел его со странным выражением.
– Мне нужно увидеть человека, закованного в цепи. Так что прости уж, придётся тебе потерпеть, – сказал художник спокойно, без тени сожаления в голосе.
Ученик был крепким парнем, какого легче было представить с мечом в руках, чем с кистью, но и он, конечно, вздрогнул. После, рассказывая о том случае, он неизменно повторял: «Я уж решил, что учитель повредился умом и того и гляди меня убьёт». Ёсихидэ же, похоже, вышел из терпения и, ни о чём более не спрашивая, чуть ли не прыгнул на спину ученику, вывернул ему руки и скрутил их тонкой стальной цепью, которую неизвестно откуда выхватил. Не ограничившись этим, он рванул за конец цепи, повалив несчастного на пол с такой силой, что стены затряслись.
9Следует сказать, что ученик оказался в положении перевёрнутого кувшина для сакэ: руки и ноги у него были безжалостно заломлены и стянуты, так что он не мог и пошевелить ничем, кроме головы. Телосложения парень был дородного, и теперь цепи врезались в тело, вызывая застой крови, так что и лицо, и туловище побагровели. Ёсихидэ, однако, это совсем не беспокоило: он лишь расхаживал вокруг, внимательно рассматривая несчастного, и в конце концов сделал несколько набросков, на первый взгляд совершенно одинаковых. Не стану утомлять вас рассказами о том, как страдал закованный ученик.
Неизвестно, сколько продлилась бы эта пытка. К счастью (или, лучше сказать, к несчастью), вскоре случилось вот что: из тёмного угла комнаты, где стоял глиняный горшок, извиваясь, показалась тёмная полоска, похожая на струйку нефти. Сперва она двигалась медленно, будто прилипая к полу, постепенно заскользила более плавно и быстро; когда она, поблёскивая, подползла к самому носу ученика, тот, не помня себя, охнул и закричал: «Змея! Змея!». Он рассказывал потом, что в тот момент кровь буквально застыла у него в жилах – и не мудрено: существо и впрямь уже почти прикоснулось кончиком холодного языка к его шее, обмотанной врезавшейся в кожу цепью. Тут уж перепугался даже такой упрямец, как Ёсихидэ. Отбросив кисть, он мгновенно нагнулся, схватил змею и поднял её за хвост – и, как она ни старалась, вывернуться и дотянуться до его руки ей не удалось.
– Из-за этакой твари у меня кисть не туда повело! – сердито пробормотал художник и, швырнув змею в горшок в углу, неохотно освободил ученика от цепей. Впрочем, ни одного доброго слова несчастный так и не услышал. Видно, Ёсихидэ и впрямь куда больше был раздосадован тем, что линия на картине получилась несовершенной, нежели тем, что змея едва не укусила ученика. Рассказывали, будто держал он её нарочно, чтобы рисовать с натуры.
Полагаю, услышав всё это, вы уже составили представление о пугающей, граничащей с помешательством одержимости Ёсихидэ. Добавлю лишь ещё одну историю: другой его ученик, которому в ту пору было лет тринадцать-четырнадцать, из-за ширмы с муками ада тоже натерпелся страха – и чуть не лишился жизни. Он от рождения отличался нежной, как у женщины, белой кожей. И вот как-то раз, среди ночи, Ёсихидэ вдруг повелел ему явиться, а явившись, он увидел, что учитель при свете фонаря кормит с руки сырым мясом какую-то невиданную птицу – величиной с кошку, та и видом напоминала её: по бокам головы, будто уши, торчали два пера, а огромные глаза были круглыми, янтарного цвета, наподобие кошачьих.
10Ёсихидэ не любил, когда суют нос в его дела; ученики знать не знали, что скрывается в мастерской – взять хоть ту же змею. Стоило ему приняться за очередную картину, и в комнате обнаруживались самые неожиданные вещи: то человеческий череп на столе, а то – серебряные чаши и лакированный, расписанный золотом поднос. Никто не знал, что становится с диковинками потом. Видно, оттого и ходили слухи, будто Ёсихидэ помогает само божество удачи.
Ученик, узрев на столе странную птицу, подумал про себя, что она понадобилась для ширмы с муками ада, и почтительно обратился к учителю:
– Что вам будет угодно?
Тот же, будто не слыша, облизнул алые губы и кивнул в сторону птицы:
– Каково? Совсем ручной, да?
– Что это за птица, сэнсэй? – спросил ученик. – Никогда такой не видел.
Ушастое, похожее на кошку существо тем временем таращилось на него самым пристальным и угрожающим образом.
– Не видел? Ничего-то вы, городские, не знаете, – бросил Ёсихидэ обычным насмешливым тоном. – Это же филин! Мне его на днях доставил охотник из Курамы. Такого обученного редко встретишь. – С этими словами он медленно поднёс руку к птице, которая как раз покончила с трапезой, и провёл рукой ей по спине – снизу вверх, «против шерсти». Тут-то всё и случилось. Издав короткий, резкий крик, филин вдруг взлетел со стола и, вытянув когтистые лапы, бросился прямо в лицо ученику – так что располосовал бы его непременно, если бы тот не поспешил прикрыться рукавом. Мальчик с воплем попытался стряхнуть птицу, но та рассвирепела и атаковала его снова и снова, щёлкая клювом. Несчастный, совсем забыв о присутствии учителя, заметался по тесной мастерской и не мог ни встать, ни сесть, чтобы не подвергнуться атаке. Страшную же птицу его попытки лишь раззадоривали, и она, то взлетая к потолку, то припадая к полу, бросалась на него с молниеносной быстротой, каждый раз метя прямо в глаза. Хлопанье чудовищных крыльев казалось особенно жутким, вызывая в памяти шум водопада, запах прелых листьев и «обезьяньего сакэ» – перебродивших фруктов в дуплах и под камнями. Бедному ученику от ужаса стало мерещиться, будто тусклый свет фонаря – это сиянье луны, а мастерская художника – расщелина в далёких горах, где обитают злые духи.
И всё же не только нападение филина так его напугало. Нет, едва ли не страшнее, чем крылатое чудовище, был вид Ёсихидэ, который, равнодушно глядя на царящий переполох, развернул бумагу и, облизывая кисть, принялся зарисовывать чудовищную сцену: зловещая птица терзает нежного, будто девица, отрока. Ученик после рассказывал, как волосы зашевелились у него на голове, когда он увидел учителя: ему почудилось, что тот и впрямь готов его погубить.
11Надо сказать, боялся он не напрасно: похоже, Ёсихидэ нарочно вызвал тем вечером ученика, чтобы напустить на него филина и заставить отбиваться. Потому, стоило юноше бросить взгляд на учителя и увидеть, что тот рисует, как он, не помня себя от страха, завопил и, закрывая голову руками, забился в угол комнаты. В этот момент Ёсихидэ, вскрикнув, поспешно вскочил, филин захлопал крыльями ещё сильнее, раздался грохот и звон, будто что-то разбилось. Ученик, едва не теряя рассудок, поднял голову и оглянулся – но в мастерской теперь было темно, хоть глаз выколи. Из мрака был слышен только сердитый голос Ёсихидэ, сзывавшего остальных учеников.
Наконец кто-то из них отозвался издалека и вскоре прибежал в мастерскую с огнём. При свете коптящего фонаря стало видно: светильник Ёсихидэ опрокинут, циновки-татами залиты маслом, филин кружится на одном месте, волоча крыло. Сам художник сидел, опираясь о стол, с потрясённым лицом и бормотал что-то невнятное. И не зря: вокруг филина, от крыла до шеи, туго обвилась чёрная змея! По всей видимости, ученик, забившись в угол, опрокинул горшок, змея выползла, филин же попытался её поймать, отчего и произошла вся суматоха. Оба ученика встретились глазами и какое-то время стояли неподвижно, созерцая поразительную картину; затем, молча поклонившись учителю, тихонько выскользнули из комнаты. Что сталось дальше со змеёй и филином, никому не ведомо.
Много было и других подобных случаев. Следовало, наверное, упомянуть ранее, что повеление расписать ширму Ёсихидэ получил в начале осени – и до самого конца зимы ученики принуждены были терпеть странные и пугающие выходки. Однако ближе к весне в работе как будто возникла заминка, отчего художник заметно помрачнел и разговаривать стал ещё грубее. Картина на ширме, уже близившаяся к завершению, так и оставалась недоделанной. Куда там! Ёсихидэ и уже нарисованное норовил стереть и переделать.
Чем именно он был так недоволен, никто не знал – да никто и не доискивался: подмастерья, наученные горьким опытом, чувствовали себя рядом с художником, будто в клетке с волком, и старались держаться от него подальше.
12Потому о происходивших в то время событиях рассказать нечего: разве упомянуть, что старый упрямец стал вдруг до странности слезлив и частенько плакал, оставшись в одиночестве. Однажды ученик, зачем-то пойдя в сад, заметил, что учитель стоит на веранде, глядя в февральское небо, и глаза его полны слёз. При виде такого юноша смутился и тихонько ушёл. Не странно ли, что гордец, который, и бровью не поведя, остановился на дороге, чтобы зарисовать труп для картины с Пятью путями перерождения, теперь рыдал, как ребёнок, – оттого лишь, что не выходила картина на ширме?
В то время как Ёсихидэ с такой одержимостью, утратив всякий здравый смысл, работал над изображением адских мук, его дочь постепенно становилась всё грустнее, и мы часто видели, что она едва сдерживает слёзы. Она всегда была девицей скромной, с бледным, грустным лицом, и, когда готова была заплакать, её ресницы будто тяжелели, а под глазами залегали глубокие тени, так что смотреть на неё было нестерпимо печально. Сперва мы думали, что девушка беспокоится об отце, или её гнетёт тайная любовь, потом поползли слухи, будто её домогается наш господин, а потом, как по приказу, слухи вдруг прекратились, и больше о ней никто не говорил.
Как раз в то время произошёл такой случай. Однажды вечером я шёл по пустынной галерее, когда передо мной вдруг появилась обезьянка по прозвищу Ёсихидэ и потянула меня за подол шаровар-хакама. Помнится, ночь была тёплая, и в бледном свете луны казалось, будто в воздухе вот-вот повеет ароматом цветущей сливы… но вместо цветов перед глазами у меня оказался зверёк, который скалился и морщил нос, при этом громко крича. Зрелище вызвало у меня отвращение, а пуще того – досаду от того, что обезьянка дёргала новые хакама. Я хотел было отпихнуть её ногой и пройти дальше, но вспомнил, как молодой господин рассердился на приближённого, посмевшего тронуть животное. К тому же и поведение обезьянки, как ни крути, было необычным. Подумав так, я решительно последовал за ней и прошёл несколько десятков шагов.
Там, за поворотом, открывался вид на бледную в ночном сумраке гладь дворцового пруда, над которым, изящно изогнувшись, протянула ветви сосна. Слух мой был немедленно оскорблён шумом из соседнего покоя: там кто-то спорил, приглушённо, но яростно. Кроме этого, не было слышно ни звука – разве что плеск рыбы в воде, над которой туман мешался с лунным светом. Услышав в этом безмолвии голоса, я враз остановился: неужели злоумышленники? Я решил застать их врасплох и осторожно, не дыша, подобрался к раздвижной перегородке.
13Обезьянка, видимо, была недовольна, что я не тороплюсь. В тревоге она несколько раз обежала меня кругом, затем, полузадушено заверещав, вдруг одним прыжком вскочила мне на плечо. Я безотчётно встряхнул головой, чтобы мне в шею не вонзились когти, и она, пытаясь удержаться, вцепилась в рукав; потеряв равновесие, я отступил назад и, едва не упав навзничь, врезался в раздвижную перегородку. Больше раздумывать было нельзя. Мгновенно распахнув дверь, я изготовился прыгнуть вглубь комнаты, куда не проникал лунный свет. Но тут что-то перекрыло мне обзор – точнее сказать, кто-то бросился мне навстречу, прочь из покоев. Это была женщина: едва не столкнувшись со мной, она выбежала наружу и упала на колени. Дрожа и хватая ртом воздух, она подняла на меня глаза с таким выражением, как будто видела перед собой нечто ужасное.
Не стоит и говорить, что я увидел дочь Ёсихидэ. Только в тот вечер она в своём волнении была совсем на себя непохожа: блестящие глаза широко распахнуты, щёки пылают, платье и хакама в беспорядке… Выглядела она куда притягательнее, чем со своим обычным полудетским выражением лица. Глазам не верилось: неужели это та самая тихоня и скромница? Прислонившись к двери, я смотрел на красавицу в лунном свете и, услышав торопливо удаляющиеся шаги, одним лишь взглядом спросил, кто это мог был.
Закусив губу, девушка с самым жалостным видом покачала головой.
Склонившись, я тихонько прошептал ей в самое ухо: «Кто?» Она вновь покачала головой, так ничего и не ответив, и лишь крепче сжала губы; слёзы стояли у неё в глазах и дрожали на длинных ресницах.
Я по натуре человек простой, недогадливый и понимаю только то, что уж совсем яснее ясного, а потому не знал в тот момент, что и сказать. Какое-то время я стоял, замерев и прислушиваясь к тому, как колотится сердце в груди у девушки. Мне отчего-то казалось, что неловко расспрашивать её далее.
Не знаю, сколько прошло времени. В конце концов я задвинул открытую дверь и, как мог мягко, сказал девушке, которая как будто немного успокоилась: «Иди к себе». Меня самого мучили смутная тревога, словно я увидел нечто, не предназначенное для моих глаз, и неловкость – бог знает, перед кем. Не успел я, однако, пройти и десяти шагов, как кто-то осторожно потянул меня сзади за край хакама, и я, удивлённый, обернулся. Кого же, вы думаете, я там увидел?
Обезьянка по кличке Ёсихидэ, сложив руки, будто человек, почтительно кланялась мне, а на шее у неё звенел золотой бубенчик.
14С того вечера прошло полмесяца или вроде того. Однажды Ёсихидэ, явившись во дворец, попросил, чтобы ему позволили предстать перед нашим господином. Будучи человеком невысокого звания, он, вероятно, осмеливался делать такое, потому что с давних пор пользовался у сиятельного Хорикавы особенным расположением. Вот и в тот день наш господин, который далеко не каждого удостаивал подобной милости, с готовностью дал соизволение и приказал немедленно провести художника к себе. Тот, как всегда, одетый в красно-коричневую накидку-карагину и потрёпанную шапку-эбоси, выглядел ещё угрюмее обычного. Почтительно поклонившись, Ёсихидэ хриплым голосом произнёс:
– Вы изволили заказать мне ширму с изображением ада. Я работал над ней, не покладая рук, день и ночь, и мои усилия принесли плоды: картина почти закончена.
– Прекрасные новости. Я доволен, – сказал господин, хотя в его голосе отчего-то не было ни живости, ни убеждённости.
– Увы, новости совсем не прекрасны, – возразил Ёсихидэ, с раздосадованным видом глядя в пол. – Большую часть я нарисовал, но есть одна вещь, которую я изобразить никак не могу.
– Не можешь изобразить?
– Не могу. Я никогда не рисую того, чего не видел своими глазами. А если нарисую, ни за что не останусь доволен. Разве это не то же самое, что «не могу изобразить»?
Наш господин, услышав такие слова, улыбнулся насмешливо:
– Как же тогда ты рисуешь муки ада – ведь ты никогда его не видел?
– Ваша правда. Только в прошлом году был большой пожар, и я наблюдал совсем близко огонь, похожий на адский. Потому-то я и смог нарисовать бога Фудо-Мёо в языках пламени – наверное, вы изволите знать эту картину.
– А что же насчёт грешников в аду? Или демонов – их ты вряд ли видел? – будто и не слушая, продолжал спрашивать господин.
– Я видел людей, скованных железными цепями. Есть у меня и подробные зарисовки того, как человека терзает чудовищная птица. Так что нельзя утверждать, что я совсем не созерцал мучений грешников. Что же до демонов… – Тут на губах у Ёсихидэ появилась жутковатая усмешка. – Что до демонов, их я множество раз видел собственными глазами во сне. Есть среди них и с бычьими головами, и с лошадиными, есть с тремя лицами и шестью руками, они безмолвно хлопают в ладоши, беззвучно разевают рты и приходят терзать меня почти каждую ночь… Нет, не про них я думал, когда говорил, что не могу изобразить того, чего не видел.
Даже господин наш, похоже, был поражён, услышав такое. Некоторое время он сурово смотрел Ёсихидэ в лицо.
– Чего же ты не можешь изобразить, потому что не видел? – спросил он в конце концов, нахмурив брови.
15– Посреди ширмы я хочу нарисовать богатый экипаж, плетёный из пальмовых листьев, который падает с неба, – сказал Ёсихидэ и, впервые подняв глаза, пристально посмотрел на господина. Мне приходилось слышать, что художник наш делается будто безумный, когда говорит о картинах. – А в экипаже – красавица знатного рода, рассыпавшиеся волосы объяты огнём, она корчится в агонии. Задыхается в дыму, лицо искажено, она поднимает взгляд вверх, к потолку кареты. Рукой цепляется за бамбуковую занавеску, пытаясь защититься от града огненных искр. Вокруг падающей кареты, щёлкая клювами в ожидании, кружит десяток-другой хищных птиц… Вот эту-то сцену я никак и не могу изобразить.
– И что же из того? – подбодрил наш господин Ёсихидэ с каким-то странным воодушевлением.
Алые губы художника задрожали, словно его лихорадило.
– Я не могу этого изобразить, – повторил он, как во сне, и вдруг с горячностью вскричал: – Я бы хотел, чтобы вы повелели поставить передо мной карету и поджечь её. А в ней, если возможно…
Господин наш помрачнел, а потом вдруг громко расхохотался – и, задыхаясь от смеха, проговорил:
– О, я сделаю, как ты хочешь. Возможно, невозможно – о том не беспокойся.
При этих словах меня пронизало предчувствие чего-то ужасного. И правда – в тот момент казалось, что безумие Ёсихидэ заразило и господина: в углах рта у него показалась белая пена, а по нахмуренному лбу словно молнии пробегали. Едва договорив, он вновь разразился громовым смехом.



