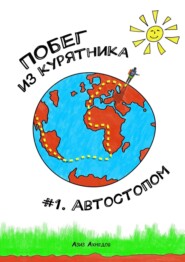
Полная версия:
Побег из Курятника: #1. Автостопом. Реальные истории из путешествий автостопом по России
При осмотре тягача выяснилось, что оторвался один из амортизаторов. Он начал задевать за колесо и протирать его. Из-за этого колесо могло взорваться, так что требовался срочный ремонт. Наступала ночь, мы стояли на обочине в каком-то лесу, погода переходила в легкий морозец. Как ремонтировать эту глыбу железа мы с Лешей понимали смутно, но у Никиты имелся некий план, так что мы начали одеваться, чтобы идти на улицу и помогать ему.
И вот тут Леша обнаружил, что одеть-то ему нечего. А все потому, что он, оказывается, забыл свою толстовку в том самом придорожном кафе, где мы обедали. И бог бы с ней, с тряпкой. Леша закаленный и, по-моему, может и без одежды на снегу спать. Но в этой толстовке у него лежали паспорт и телефон. И все это осталось там, в 30 километрах позади нас.
Иной человек мог бы упасть на колени и зарыдать. Другой хотя бы расстроился, для приличия. Но нас, как обычно, накрыла волна хохота.
– Леша? Как? Ну, к-а-а-а-к?! – давились мы сквозь слезы.
Вам не кажется, что имеется прямая взаимосвязь между потерей паспорта и поломкой тягача? Только представьте, если бы машина не сломалась, мы бы просто ехали дальше почти всю ночь. И пропажа паспорта обнаружилась бы, самое раннее, только утром, через несколько сотен километров. Такое ощущение, что какая-то неведомая сила намеренно сломала амортизатор, чтобы задержать нас. Может, я излишне суеверен, конечно, но мне нравится эта версия.
План действий родился быстро. Через Интернет Леша нашел телефон той кафешки. Позвонил туда и убедился, что толстовку нашли и сохранили. Оставалось только как-то к ней добраться.
Конечно, единственным нормальным вариантом было застопить попутку, что Леша и отправился делать. Я не пошел с ним, так как Никите нужно было помочь с колесами. Да и одному голосовать гораздо проще.
В общем, Леша ушел в темноту, туда, где стоял знак «Осторожно! Дикие животные!». И хоть из всех диких животных на знаке нарисовали всего лишь безобидного оленя, но мы-то с вами знаем, что там, где олени – там и волки. Дальнобойщики постоянно сбивают их на этой трассе, очень уж глухие места. Впрочем, это я специально сейчас нагнетаю жути, чтобы интереснее было читать.
Итак, Леша исчез в ночной пустоте, а мы с Никитой начали колдовать над амортизатором. По-хорошему, нужно было снимать колесо, чтобы к нему подобраться. Но домкрат можно ставить на твердую поверхность, а мы стояли на обочине, в каком-то сугробе, и делать это было опасно.
Ситуация осложнялась еще и тем, что у нас не было никаких инструментов, кроме пары ключей, монтировки и русского мата, который, по-моему, помогал больше всего. В общем, лично мне казалось, что ничего у нас все-таки не выйдет, мы зря промучаемся и в итоге проведем ночь здесь, между двумя стенами леса, разделенными дорогой. Без еды и воды – ничем этим мы не запаслись.
Но Никита оказался мастером от бога. Может быть, поэтому он не возил с собой инструменты. Каким-то хитроумным способом он все же смог подлезть к сломанной детали и открутить ее. Хотя для этого ему и пришлось студить почки на мерзлой земле.
В общем, часа за полтора мы полностью сняли амортизатор и решили ехать без него: это хоть и не так удобно и безопасно, но лучше, чем стоять на месте и замерзать.
Тут же подоспел и наш мегаавтостопщик. Ему повезло, всего на трех попутках он доехал до кафешки и вернулся обратно. Паспорт был в его руках, поэтому мы отправились дальше, не опасаясь, что невидимая рука судьбы вновь сломает что-нибудь в машине.
И по началу все шло хорошо. Леша уснул на тахте, а мы с Никитой сидели на креслах и травили байки. Фары пробивали ночной туман, машин на трассе не было, в колонках играла «Бутырка» «Какая осень в лагерях». В общем, уютная дальнобойная атмосфера.
Я печатал что-то, опустив глаза к ноутбуку, как вдруг услышал крик Никиты:
– Воу, воу, с***!!!
Видимо, на дороге появилась какая-то опасность. Хотя по интонации крика чувствовалось, что это была не просто опасность, а самый настоящий полярный зверек на букву «П».
Сначала мне было страшно поднимать глаза. Я боялся увидеть впереди встречную фуру, несущуюся прямо на нас по гололеду. Это замешательство длилось, может, сотую долю секунды. Но за это время кроме фуры я успел подумать еще и про поваленное дерево, и про лося на дороге, и даже про челябинский метеорит – может, они и под Пермь тоже залетают?
В конце концов инстинкт и любопытство все же заставили меня посмотреть вперед. Теперь представьте: кромешная темнота, фары освещают лишь короткую полоску на 30—40 метров вперед. Мы летим на груженной 40-тонной неповоротливой махине по узкой и скользкой трассе. И тут посреди дороги, всего в 20 метрах, прямо на нас из темноты выныривает силуэт женщины.
Казалось, она стояла прямо перед нашим капотом, когда Никита вильнул рулем влево, на встречку. Он сделал это так резко, что все вещи, лежавшие на торпедо, полетели на пол. Все внутри кабины загремело и затрещало. Леша, который до того казался крепко спящим, подскочил в доли секунды и также уставился вперед.
Маневр был реально опасным, и каким-то чудом нам удалось пронестись в полуметре от женщины в направлении кювета, а потом другим резким движением вправо вернуться на прежний курс. Четырнадцатиметровая телега с 20-ю тоннами досок послушно вильнула вслед за тягачом. Повезло, что она не опрокинулась и не стащила нас в лес.
Все это время Никита жал на тормоз, но мы ведь не на спортивном кабриолете. Тормозной путь у нас составил, может быть, 150 метров. В шоковом состоянии мы остановились посреди дороги. Все так же играла «Бутырка», черный лес стоял вокруг как ни в чем не бывало. Я же представлял, что всего несколько секунд назад мы могли выкосить в этом лесу новую просеку, да еще и размазать человека по радиатору.
Кстати, о человеке. Чтобы никто не думал, что нам повстречался какой-то фантом, привидение или полтергейст, могу заверить, что это была самая обычная женщина. Просто очень бухая (пардон). Она стояла на дороге в легкой расстегнутой куртке, голосовала и заметно покачивалась. Лицо ее было спокойно и невозмутимо, взгляд направлен куда-то мимо нас. Вдаль. Знаете, как обычно пьяные люди пялятся в одну точку – вот так смотрела и она.
Ох уж эти суровые уральские женщины. Стоять на пути несущегося грузовика и даже не смотреть на него – вот у кого нервы сделаны на челябинском трубопрокатном.
Это было уже второе происшествие за день и, кажется, нам его хватило. Тем более что вновь загорелась красная лампочка топливного бака. Никита начал искать место для ночной парковки, но это оказалось сложной задачей. Дорога больше походила на просеку: ни обочин, ни «пятаков», на которых можно было бы остановиться. Никаких сел, деревень, указателей. Даже сотовой связи не было – первый раз я видел такую глушь, хоть и родом из Сибири.
Несмотря на всеобщие надежды, солярка все-таки закончилась. Машина вновь заглохла и бесшумно покатилась вперед. На этот раз в салоне звучал бодрый голос Трофима: «Тор-р-р-моза не откажут на спуске! На подъем не заглохнет мотор!..»
– Да заткнись ты! – Никита щелкнул по кнопке «Выкл», сопроводив свой жест очередным увесистым комментарием в адрес щедрого шефа.
– Что будем делать? – спросил я, понимая, что мы остались на пустынной трассе глубокой ночью без еды и воды, без солярки и сотовой связи. Хоть выходи и голосуй, как та женщина, ей-богу.
– Ну, попробуем еще сильнее морду опустить…
Это он про морду тягача, конечно же. Мы и до этого ехали с креном, а сейчас наклонили ее вперед так сильно, что я начал чувствовать себя в кабине аэробуса, заходящего на посадку.
Поворот замка зажигания… Натужные звуки… Завелась! В нашем распоряжении оказалось еще несколько литров солярки, что для двигателя с расходом 35 литров на сотню не так уж и много. Не теряя времени, мы поехали дальше в поисках цивилизации. Но ее почему-то нигде не было. Ни домика, ни фонарика, ни палочки на индикаторе сигнала сотовой связи. Только деревья и ночь. Так длилось километров 10, хотя нам казалось, что все 500.
Но только не думайте, что настроение наше было испорчено. Наоборот, чем больше трудностей попадалось, тем веселее становилась атмосфера в кабине. Мы смеялись сами над собой и ждали, что же судьба подкинет нам еще. Но судьба, видимо, устала измываться и вместо трудностей подкинула нам горящие вдалеке огни. Это была база дальнобойщиков с магазином, кафе, освещенной стоянкой и даже гостиницей.
Место это напоминало улей: так много на нем припарковалось фур. Правда, там не нашлось заправки, но мы не стали рисковать и остановились.
Глубокой ночью сквозь сон я услышал, как Никита в очередной раз буркнул что-то неприличное в адрес шефа. Это была реакция на SMS от банка – нам сбросили деньги на солярку.
***
Шесть будильников один за одним пытались разбудить нас, но спать в тягаче так уютно, что высовывать даже нос из-под одеяла казалось настоящей мукой. К тому же под одеялами мы по-детски прятались от решения своей главной проблемы: где взять солярку, чтобы доехать до Москвы?
Из налички у нас на троих оставалось всего 400 рублей. Конечно, мы могли купить на них литров 7 топлива у других дальнобойщиков, но что бы это изменило? Нам нужна была АЗС, чтобы залить хотя бы 200—300 литров и ехать спокойно.
Впрочем, ничего не получается только у тех, кто прячется под одеялом и бездействует. Едва мы встали на ноги и вышли из кабины, как Леша увидел вдалеке фанерную табличку с надписью, сделанной от руки: «Дизель – 28 рублей».
Подошли ближе – точно. Прямо на земле стояла пятитонная цистерна, из которой торчал заправочный пистолет со счетчиком, рядом будка. В будке сидел толстый бородатый мужик и продавал эту левую солярку за те самые 28 рублей (средняя цена на трассе 33—35 рублей). Но что самое забавное, эта самопальная заправка в кустах еще и пластиковые карты принимала.
Все сходилось. Мы купили по безналу 200 литров сомнительного топлива, а чтобы тягачу не было обидно, поели в придорожном кафе сомнительных пирожков.
Дальше все пошло гораздо прозаичнее, чем накануне. Ничего не ломалось, никто не выбегал на дорогу, солярка не кончалась, хоть ее расход и увеличился в полтора раза – до 57 литров на сотню.
Мы ехали в сторону Кирова и главное, что запоминалось по дороге – ее отсутствие. Нигде, никогда, даже во сне, я не видел такой отвратительной дороги, как в Кировской области. Плохая, ужасная, невыносимо гадкая – ни один эпитет не описывает всех прелестей того, что мы видели.

Дороги Кировской области
Просто 150 километров лунного грунта, и это крупная междугородняя трасса. Машину не просто трясло – ее кидало из стороны в сторону. Особенно страшно было смотреть в зеркало заднего вида: нашу телегу раскачивало влево-вправо так, что казалось, еще секунда и она завалится на бок, размазав под собой пару легковушек.
Слава Богу, все обошлось, и мы все-таки доковыляли до поселка Белая Холуница. Сто пятьдесят километров за пять часов – это успех. И за этот успех нас ждала маленькая награда в местной столовой. Таких низких цен, как там, я больше не видел нигде.
Мы с Лешей наелись за 133 рубля на двоих. И пусть это был вегетарианский ужин, но в самой дешевой кафешке Новосибирска мы отдали бы за то же самое минимум 250 рублей.
Ужасные дороги тут же забылись, и я полюбил Кировскую область за одну лишь эту столовку. Мы подходили к раздаче три раза, брали добавку и набирали еды впрок. Это была какая-то пищевая эйфория. Еда казалась бесплатной, хотелось поиграть беляшами в снежки и накормить всех кировских собак жареной семгой.
Не помню, когда и как это закончилось, очнулся я лишь в тягаче, доедая очередную плюшку с маком. В принципе, на этом наши приключения того дня закончились. Мы доехали до Кирова, и общий пробег за весь день составил несчастные 360 километров.
Перед сном я написал в нашем блоге:
«…Это странный автостоп. Я бы даже назвал его не автостопом, а кочевкой. Да, мы просто кочуем на фуре, преодолев за четверо суток всего 1800 километров – это что? По 450 километров в день?
В начале путешествие имело конкретную цель – доехать до Крыма за четыре-пять дней. Сейчас же мы не чувствуем какой-то срочности. Нас не расстраивает, что прошла уже почти неделя, а мы не только не в Крыму, но еще даже не в Москве, в которую изначально даже не планировали заезжать.
Нас не посещают мысли бросить фуру и поймать легковушку, чтобы долететь до нужной точки, хотя это так просто и доступно. Мы относимся к Никитиной фуре не как к средству передвижения, а как к товарищу, который путешествует вместе с нами. Или даже как к родному дому. Да, по сути, это и есть наш дом: мы не просто едем, мы живем на этих трех квадратных метрах кабины. Это наша кухня, спальная, рабочий кабинет, столовая, игровая комната и гостиная в одном флаконе.
Да и Никита… Теперь это уже не просто человек, который нас подвозит. Это хороший друг, с которым мы преодолели многие трудности. Мы уже не везем груз из Екатеринбурга в Москву. Мы просто путешествуем втроем. Кочуем втроем.
И как же мы можем бросить все это? Это воспринимается нами как предательство. Конечно, рано или поздно нам придется все-таки расстаться с Никитой и его фурой, но данный участок пути мы хотели бы преодолеть вместе.
Все это странно и удивительно. Мы получаем очень необычный опыт, который трудно сравнить с чем-то из нашего прошлого. Фактически мы живем теперь другой жизнью – жизнью дальнобойщиков. Мы передвигаемся как дальнобойщики, спим как дальнобойщики, едим, ищем заправки и чиним поломки – все как дальнобойщики.
Я не знаю, что ждет нас в Крыму, но один лишь этот автостоп стоил того, чтобы надеть рюкзаки и покинуть спокойный Новосибирск…»

***
На следующий (шестой) день мы всерьез настроились «добить» оставшиеся 900 километров до Москвы, но хозяин фуры быстро остудил наш пыл. Для этого ему даже делать ничего не пришлось – он просто не перевел очередную сумму на солярку, поэтому полдня мы просидели в придорожном кафе «Капучино» под Йошкар-Олой. Болтали с официантками, ждали транша.
Нам требовалось 350 литров топлива, чтобы добраться до финиша, но наш дорогой шеф расщедрился только на 100 – этого хватило бы всего на 300 километров пути! Впрочем, мы даже их не проехали, привычно заглохнув на дороге где-то посреди Чувашии.
Кстати, на въезде в Чувашию нас впервые остановили гаишники. Долго искали к чему прикопаться и в итоге оштрафовали на 500 рублей за то, что на телеге не горели задние габариты (они в тот день перегорели). Было видно, что сотрудники просто хотели заработать. Но что можно заработать на тех, у кого нет денег даже на солярку? Пришлось составлять протокол.
«…Мы встали у обочины для ночевки и ожидания очередного перевода. Надеюсь, завтра деньги поступят, и мы наконец-то проедем эти 550 километров до Москвы. Там у нас будет привал на пару дней. Очень уж хочется помыться и выспаться на обычной кровати…»
Я написал это в блоге перед сном, а судьба уже ехидно потирала свои костлявые ручки. Она-то знала, что так просто в Москву мы не попадем. И на что я только рассчитывал? Вместо 550 километров за весь седьмой день мы проехали… только 120! Обычно я даже на велике больше проезжаю, но здесь были серьезные причины задержаться.
Все началось с маленькой грыжи на самом заднем колесе. Эту поломку мы отремонтировали «цивилизованно» – в шиномонтаже где-то в Нижегородской области.

Проехали малость, как вдруг – бабах! – взорвалось другое колесо, только уже под самим тягачом. Именно взорвалось, а не просто спустило. Представьте, если даже обычный воздушный шарик бахает так, что в ушах звенит, то с каким звуком взрывается 150-килограммовый баллон под давлением семь атмосфер (это в три раза больше, чем в колесе обычной машины)?
Короче говоря, этот пушечный выстрел мы хорошо расслышали. Встали на обочину, заменили взорванный баллон на запаску. Впрочем, я так непринужденно написал «заменили баллон», будто речь идет о замене колеса на велосипеде «Орленок». На самом же деле, я уже второй час пишу и стираю строчки, потому что не могу просто и понятно описать весь процесс, который нам пришлось совершить. Попытаюсь в очередной раз, но предупреждаю, будет написано сложно.
Вся эта процедура по замене колеса порядком напоминала игру в пятнашки. Изначально у Никиты имелась всего одна запаска. Но утром он ее уже поставил на место колеса с грыжей, так что теперь никаких запасок у нас не осталось.
Конечно, можно было попробовать использовать вместо запаски то самое колесо с грыжей, но сколько бы оно продержалось? Двадцать-тридцать километров? Других колес у нас не было. И что делать?
Никита предложил снять одно нормальное колесо с прицепа и поставить его вместо лопнувшего колеса на тягаче. А колесо с грыжей поставить на освободившееся место на прицепе. Смысл в том, что на прицепе можно было приподнять неисправное колесо от земли, чтобы оно не задевало асфальт.
Да, получилось запутано, но во все это можно не вникать. Главное понять, что вместо замены одного колеса, нам пришлось менять целых два. А каждая замена – это целая история.
Для каждой замены нужно было поднять фуру специальным домкратом (на 30 тонн). Затем открутить 10 мощных болтов на колесе. Потом снять этот 150-килограммовый «бублик», укатить его, прикатить новый, а потом (что самое главное) поднять его до высоты оси, чтобы закрутить все 10 болтов обратно.
Никита утверждал, что в обычных условиях он со всем этим справляется в одиночку (как?!). Сейчас же у него имелась бесплатная рабочая сила, так что мы с Лешей крутили, тащили и толкали как могли.
После того, как колеса на несчастной фуре были перетасованы, мы приподняли колесо с грыжей от земли и привязали его ремнями к раме. Фура стала похожа на инвалида, у которого одна нога подогнута и перемотана бинтом. В таком положении мы поехали дальше, но и это счастье длилось недолго.
– Да что это за […нецензурная конструкция…]?! – вышел из себя Никита, когда за нашей спиной послышался новый выстрел.
На этот раз бахнула подушка – это такая деталь в подвеске, накачанная воздухом (12 атмосфер). Взрыв этот прогремел еще громче, а поломка оказалась еще серьезнее, чем первые две.
Я не буду описывать, как долго и с каким трудом шел ремонт, как сильно пришлось поломать голову Никите, и как много новых слов он ввел в русский язык. Все это, поверьте, не поддается никакому описанию. Главное, что после многочасового ремонта мы вновь отправились в путь. Хотя хочется написать: «Вернулись на трассу ралли Париж – Дакар». Иначе ту мучительную дорогу не назовешь.
Мы ехали с переломанными колесами и подушками, без задних габаритных огней и амортизатора (как вы помните, он оторвался накануне). Вдобавок ко всему вечером сгорели лампочки в фарах, и перестал работать задний «поворотник». Фура не ехала, она доползала до финиша, разваливаясь на наших глазах.
Преодолев за весь день те самые 120 километров, мы остановились на ночевку под Нижним Новгородом. Заканчивались седьмые сутки путешествия, но до Москвы мы так и не добрались – нас разделяло 430 километров.
***
Танки по минным полям не ездят так осторожно, как ехали мы из Нижнего Новгорода в Москву на восьмой день путешествия. Еще бы! Зная повадки нашей фуры, подвоха можно было ожидать с любой стороны. Взорвется колесо? Тормоза откажут? Кабина включит режим катапультирования? Кто ее знает.
Позади остались Дзержинск, Гороховец, Владимир, Покров… Вот мы пересекли самое большое кольцо вокруг Москвы («Большую бетонку»). До МКАДа оставалось всего 50 километров. Мы уже видели башни Кремля и чувствовали запах арбатских кофеен, как вдруг – ба-а-ах! Очередной взрыв снял наш героический «экипаж машины боевой» с дистанции.
Это не выдержала еще одна подушка. Поломка оказалась настолько серьезной, что Никита собирался простоять на обочине весь день или даже больше. Все это переставало быть смешным. Наверное, даже Наполеон добирался до Москвы проще.
В общем, мы с Лешей решили вспомнить, что мы все-таки автостопщики, а не адъютанты дальнобойщика. Никита поддержал наше стремление:
– Давайте, валите уже в свою Москву, – по-дружески отправил он нас, как будто Москва и правда была «нашей», а не он нас сюда притащил.
Мы собрали разбросанные по всей кабине вещи. Туго упаковали их в рюкзаки. Еще раз проверили кабину… Еще раз проверили рюкзаки… Короче говоря, мы тянули время, потому что выходить на улицу не хотелось совершенно. Точнее, выходить было страшно. Так же, как три недели назад мне было страшно уезжать из родной деревни в большой город. Или как восемь дней назад было страшно впервые тянуть руку под Новосибирском.
Человек – это такое существо. Везде привыкает, обживается. Везде плетет это гнездо под названием «зона комфорта». И даже если эта зона заключена в крохотном пространстве тягача без удобной мебели, постели, сантехники и посуды – все равно эта зона будет именоваться «комфортной».
Ее трясет на кочках, в ней воняет соляркой, в ней тебе приходится спать сидя и дважды в день заниматься ремонтом на морозе, но выходить из этой зоны в неизвестность так же сложно, как переселяться из рублевского особняка на дачу в Сыктывкаре.
Зона комфорта – это как тот осадок на дне банки. Как бы ты не тряс банку, если оставить ее на время в покое – осадок непременно появится. Единственный способ избежать осадка – трясти банку без остановок.
В жизни точно так же. Где бы ты ни остановился, в каких бы ужасных условиях не притормозил – ты все равно рано или поздно привыкнешь, и потом тебе страшно будет что-то менять. Единственный способ избавиться от этого страха – менять все постоянно. Встряхивать свою жизнь без остановок.
Автостоп это наглядно демонстрирует. Сначала тебе страшно тянуть руку. Но после первой/второй/пятой/двадцатой машины страха становится все меньше и меньше. Ты как будто набираешь форму в спорте под названием «прыжки в неизвестность». Ты с легкостью меняешь ход событий, и отсутствие чего-то стабильного, привычного никак тебя не беспокоит.
Но так же, как и в спорте, стоит тебе остановиться (пожить в стабильности), как все возвращается на свои места. Ты покрываешься этим «жиром» зоны комфорта, который тянет тебя к земле, не дает прыгать и наслаждаться тончайшей прелестью неизвестности.
Мы прожили в той фуре слишком долго. Мы слишком сильно «ожирели», и теперь, стоя с рюкзаками у кабины тягача, эти 50 километров до Москвы казались таким же немыслимым расстоянием, как и 4000 километров до Крыма, на которые мы замахнулись несколько дней назад.
Прощание с Никитой было горячим. Сами понимаете, семь дней в одной кабине… Некоторые браки быстрее распадаются. Договорившись встретиться в том же составе в Крыму, мы потопали по заснеженной обочине подальше от фуры, чтобы нас стало видно другим водителям.
Метров через 100 мы оглянулись. Фура беспомощно распласталась на обочине. Именно «распласталась»: вид ее напоминал подбитую самоходку. Телега смотрела в одну сторону, кабина – в другую. Разве что дымка сверху не хватало для полной катастрофичности картинки.
Никита уже лежал на мерзлой земле под тягачом, и на улицу торчали лишь его ноги, обутые в стоптанные сапоги. В общем, в том месте, откуда мы только что ушли, ничего не изменилось. Там же, куда мы направлялись, все манило и пугало неизвестностью.

Часть 5. Ночь в притоне и другие происшествия
В тот день в Москве шел аномальный снег, все дороги замело. Как выяснилось позже, город замер в девятибалльных пробках. Мы же стояли на обочине в 50 километрах от МКАДа и стопили.
Было около +2°С. Проезжающие машины выбрасывали на нас фонтаны грязной воды, сверху падала мокрая каша. С таким внешним видом поймать машину нелегко. И действительно, автостоп под Москвой оказался самым ужасным за всю поездку. Тысячи автомобилей проносились мимо, их было в 10 раз больше, чем под Новосибирском или Омском. Но при этом за целый час нам удалось поймать всего один из них.
Это было какое-то среднее авто, из которого вышел такой же средний мужчина. Под словом «средний» я имею в виду «непримечательный». Знаете, как во всяких там мультиках про вред городов рисуют всех горожан одинаково похожими друг на друга? Типа как однообразные «винтики» в большом механизме. Вот тот мужчина и его машина вполне подходили на роль в таком мультике. Москва как будто подшутила над нами и подкинула нам самого «типичного» своего представителя.



