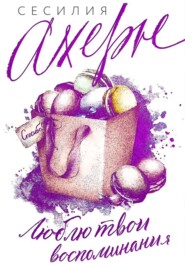
Полная версия:
Люблю твои воспоминания
– Ничего, если я поем винограду? – щебечет папа. Он похож на маленькую канарейку, качающуюся в клетке рядом со мной.
– Конечно, поешь. Папа, ты сейчас должен пойти домой и что-нибудь съесть. Ты должен беречь силы.
Он берет банан.
– В нем море энергии. А сколько калия! – восклицает он и с улыбкой очищает банан точными движения-ми. – Домой я побегу трусцой, вот увидишь.
– А как ты сюда добрался?
До меня вдруг доходит, что папа уже много лет не бывал в городе. Для него все стало слишком быстрым, здания неожиданно выросли там, где их никогда не было, машины на дорогах ездят не в те стороны, что раньше. С огромным сожалением и грустью он продал свой автомобиль: его ухудшающееся зрение стало грозить бедой на дороге ему и другим. Семьдесят пять лет, десять лет, как умерла его жена. Теперь жизнь катится по привычной колее, он прижился в небольшом пригородном районе, где знает всех соседей. По воскресеньям и средам – церковь, по понедельникам – клуб (кроме праздничных дней, когда посещение переносится на вторник), мясник – по четвергам, кроссворды, головоломки и телевизионные передачи – в течение дня, его сад – во все остальное время.
– Фрэн, что живет через дорогу, привезла меня. – Он опускает банан, продолжая улыбаться своей шутке про бег трусцой, и кладет в рот виноградину. – Чуть не угробила меня два или три раза. Или даже больше – во всяком случае, достаточно для того, чтобы я понял, что Бог существует, если когда-нибудь в этом сомневался. Я просил виноград без косточек, а этот с косточками. – Папа хмурится. Покрытые коричневыми пятнами руки кладут гроздь обратно на тумбочку. Он достает изо рта косточки и оглядывается в поисках корзины для мусора.
– Папа, ты и сейчас еще веришь в Бога? – Это звучит жестче, чем мне хотелось, но меня душит гнев, он почти невыносим.
– Верю, Джойс, – без обиды или возмущения отвечает он. Кладет косточки в носовой платок и засовывает его в карман. – Поступки Господа непостижимы, мы часто не можем ни объяснить их, ни понять, ни принять, ни мириться с ними. Я понимаю, что ты сейчас можешь сомневаться в Его существовании, – со всеми нами это случается временами. Когда умерла твоя мать, я… – Он умолкает и, как часто бывает, оставляет фразу незаконченной: дальше он не пойдет – ни в предательстве по отношению к своему Богу, ни в обсуждении смерти жены. – А ведь на этот раз Бог ответил на все мои молитвы. Прошлой ночью Он уж точно услышал мой призыв. Он сказал мне… – Тут в голосе отца начинает звучать усвоенный в детстве сильный акцент графства Каван, который он утратил, когда подростком переехал в Дублин. – «Не волнуйся, Генри, я хорошо тебя слышу. Все под контролем, так что не переживай. Я сделаю это для тебя, нет проблем». И Он спас тебя. Он оставил мою девочку в живых, и за это я буду Ему вечно благодарен, хотя нам и грустно оттого, что ушел другой.
Мне нечего на это ответить, однако я смягчаюсь.
Он со скрежетом подтягивает стул ближе к моей кровати.
– И я верю в жизнь после смерти. – Он говорит теперь немного тише. – Да, это так. Я верю в то, что рай существует, там, наверху в облаках, и что все, кто когда-то был тут, сейчас там. Включая грешников, потому что Бог всех прощает.
– Все там? – Я борюсь со слезами. Не даю им упасть. Знаю, если начну плакать, то не остановлюсь никогда. – А мой ребенок, папа? Он тоже там?
Папино лицо пересекают глубокие морщины страдания. Мы старались поменьше говорить о моей беременности – из суеверия, очевидно. Срок был небольшой, и мы все волновались, а папа больше всех. Всего несколько дней назад мы немного поссорились из-за того, что я попросила его поставить к себе в гараж нашу кровать для гостей. Понимаете, я начала готовить детскую… Боже мой, детская! Оттуда только что вынесли кровать для гостей и разный хлам. Кроватка уже куплена. Стены выкрашены в приятный желтый цвет – «мечта лютика», над кроваткой – погремушка-мобиль с крутящимися утятами.
Оставалось пять месяцев. Кое-кто, включая моего отца, может подумать, что готовить детскую при сроке четыре месяца преждевременно, но мы шесть лет ждали ребенка, этого ребенка. И для меня в этом ничего преждевременного не было.
– Дорогая, ты знаешь, я не могу утверждать…
– Я собиралась назвать его Шоном, если бы это был мальчик. – Господи, наконец я произношу это вслух! Я повторяла эти слова про себя весь день, без конца, и вот теперь они льются из меня вместо слез.
– Шон – хорошее имя.
– Грейс, если бы родилась девочка. В честь мамы. Она бы обрадовалась.
При этих словах папа стискивает зубы и смотрит в сторону. Все, кто не знают его, подумали бы, что он рассердился. Но это не так. Я знаю, что за его стиснутыми зубами собираются слова, как в огромном резервуаре, они хранятся там запертыми, пока в них нет абсолютной необходимости, хранятся в ожидании прилива такой страсти, когда стены рухнут и слова хлынут наружу.
– Но я почему-то думала, что это мальчик. Не знаю почему, просто как-то почувствовала. Могла ошибиться. Я собиралась назвать его Шоном, – повторяю я.
Папа кивает:
– Правильно. Это хорошее имя.
– Я говорила с ним, пела ему. Интересно, он слышал? – Мой голос звучит откуда-то издалека, будто я кричу из полого ствола дерева, в котором прячусь.
Неожиданно я представляю себе будущее, которое никогда не наступит. Будущее с маленьким воображаемым Шоном. Песенки каждый вечер перед сном, белоснежная кожа и брызги во время купания. Брыкающиеся ножки и поездки на велосипеде. Строительство песочных замков и горячие вспышки негодования, когда не пускают играть в футбол. Гнев из-за потерянной, – нет, хуже! – убитой жизни мощной волной затопляет мои мысли.
– Интересно, понимал ли он?
– Понимал что, дорогая?
– То, что его упустят. Думал ли он, что я прогоняю его? Надеюсь, он не винит меня. У него была только я и… – Я приказываю себе остановиться. Хватит пока мучений, иначе через несколько секунд я просто закричу от ужаса. Если я сейчас начну плакать, то не остановлюсь никогда.
– Где он теперь, папа? Как человек может умереть, если еще даже не родился?
– О дорогая! – Он берет мою руку и снова сжимает ее.
– Скажи мне.
Теперь он размышляет об этом. Долго молчит, гладит меня по волосам, негнущимися пальцами убирает пряди с лица и заправляет их за уши. Он не делал этого с тех пор, как я была маленькой девочкой.
– Я думаю, он в раю, милая. Даже не думаю, я просто знаю. Он там с твоей матерью, да, он там. Сидит у нее на коленях, пока она играет в рамми с Полин, обдирает ее как липку и заливисто смеется. Конечно, она там, наверху. – Он смотрит наверх и машет потолку указательным пальцем. – Позаботься за нас о маленьком Шоне, Грейси, слышишь меня? Она расскажет ему про тебя все, обязательно расскажет, о том, как ты была маленькой, о том дне, когда ты сделала свои первые шаги и когда у тебя появился первый зуб. Она расскажет ему о твоем первом школьном дне и о последнем, а также о каждом дне между ними, и он будет знать о тебе все, так что, когда ты пройдешь через ворота там, наверху, старой женщиной, гораздо старше, чем я сейчас, он оторвется от рамми и скажет: «Вот и она. Эта женщина. Моя мамочка». Он сразу узнает тебя.
Огромный ком в горле, который я никак не могу проглотить, мешает мне поблагодарить его, но, возможно, папа все видит в моих глазах, так как он понимающе кивает и быстро отворачивается к телевизору, а я смотрю в окно, в пустоту.
– Тут, при родильном доме, есть часовня, дорогая. Может быть, тебе стоит туда сходить, когда тебе станет лучше и ты будешь готова. Тебе даже не нужно ничего говорить. Он не против. Просто сядь там и подумай. Дело полезное – я и сам всегда так поступаю.
Я думаю о том, что часовня – это последнее место на земле, где я хотела бы оказаться.
– Там внутри очень красиво, – говорит папа, читая мои мысли. Он наблюдает за мной, и я, мне кажется, слышу, как он молится о том, чтобы я вскочила с кровати и схватила четки, которые он положил у моего изголовья.
– Знаешь, это здание в стиле рококо, – неожиданно сообщаю я и совершенно не понимаю, о чем говорю.
– Какое? – Папа хмурит брови, и глаза исчезают под ними, как две улитки, прячущиеся в свои раковины. – Этот роддом?
Я напряженно думаю: «О чем мы говорили?»
Теперь его очередь напряженно думать: «О Молтизерзе? Нет!»
Он ненадолго замолкает, а потом начинает отвечать так, как будто участвует в викторине и сейчас тур вопросов на скорость.
– О бананах? Нет. О рае? Нет. О часовне? Мы говорили о часовне. – Он сияет улыбкой на миллион долларов, радуясь тому, что смог вспомнить разговор, состоявшийся меньше минуты назад. – А потом ты сказала, что это здание для стариков. Но, честно говоря, мне так не кажется. – Он мне подмигивает.
– Да не для стариков! В стиле рококо, – поправляю я его, чувствуя себя учительницей. – Часовня знаменита изысканной лепниной, украшающей потолок. Это работа французского мастера Бартелеми Крамийона.
– Правда, милая? И когда же он это сделал? – Папа придвигает свой стул вплотную к кровати. Ничего на свете он так не любит, как увлекательные истории.
– В тысяча семьсот шестьдесят втором году. – Точная дата. И я произношу ее так естественно. Но, помилуйте, откуда мне это известно?!
– Так давно? Я не знал, что больница стоит здесь столько времени!
– Она построена в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году, – отвечаю я и хмурюсь. А это я откуда знаю? Но я не могу остановиться, как будто мой рот, совершенно независимо от моего мозга, произносит слова сам по себе. – Здание было спроектировано тем же человеком, который построил Лейнстер-хаус, нынешнюю резиденцию правительства Ирландии. Он был немец, его звали Ричард Касселс, иначе – Ричард Касл. Один из самых знаменитых архитекторов того времени.
– Конечно, я слышал о нем, – врет папа. – Если бы ты сказала «Дик», я бы сразу понял, о ком ты. – Он хихикает.
– Это детище доктора Бартоломью Мосса, – объясняю я и не понимаю, откуда идут эти слова, не знаю, откуда появляется это знание. Ощущение дежа вю: слова знакомы мне, но я никогда не слышала их и не произносила в стенах этой больницы. Может, я просто выдумываю? Нет, где-то глубоко внутри живет убеждение, что я говорю правду. Странное тепло окутывает все мое тело.
– В тысяча семьсот сорок пятом году он купил маленький театр, называвшийся «Новая будка», и создал первый в Европе родильный дом.
– Он стоял здесь, да? Этот театр.
– Нет, он находился на Джордж-лэйн. А тут в ту пору простирались поля. Со временем места в роддоме стало не хватать, тогда доктор Мосс купил эти поля, проконсультировался с Ричардом Касселсом, и в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году новый роддом, теперь называющийся «Ротонда», был открыт лордом-наместником. Это произошло восьмого декабря, если я не ошибаюсь.
Папа смущен:
– Вот уж не поверил бы, что ты интересуешься такими вещами, Джойс. Откуда ты все это знаешь?
Я хмурюсь. Я тоже не знала, что знаю все это. Неожиданно на меня накатывает волна раздражения, и я яростно трясу головой.
– Мне нужно постричься, – сердито откликаюсь я, сдувая челку со лба. – Я хочу выбраться отсюда.
– Хорошо, дорогая. – Папин голос тих. – Нужно только еще немного подождать.
Глава седьмая
Постригись! Джастин дует вверх, сдувая челку с глаз, и недовольно смотрит на свое отражение в зеркале.
До того как отражение попало в его поле зрения, он собирал сумку, чтобы поехать обратно в Лондон, насвистывая веселую мелодию недавно разведенного мужчины, который только что занимался сексом с первой женщиной после своей – бывшей! – жены. Если быть точным, это второй случай за год, но первый, о котором он может вспоминать с некоторой гордостью. Теперь, когда Джастин стоит перед зеркалом в полный рост, он даже свистеть перестает: реальность вдребезги разбивает его иллюзии. Вот этот тип претендует на роль героя-любовника?! Он выпрямляется, втягивает щеки и напрягает мускулы, обещая себе, что теперь, когда пелена развода спала, он снова приведет свое тело в порядок. Ему сорок три года, он привлекателен и знает об этом, но не впадает в грех самоуверенности. При мысли о собственной внешности он придерживается той же полной здравого смысла логики, что и при дегустации хорошего вина. Виноград просто вырос в правильном месте в правильных условиях, причем растили его с заботой и любовью. Так и он, Джастин, появился на свет с хорошими генами и правильными чертами лица. Его не стоит за это ни хвалить, ни ругать – точно так же и менее привлекательного человека не стоит разглядывать, презрительно раздувая ноздри и самодовольно улыбаясь. Внешность – это данность, которую следует принять.
Джастин высокий – почти шесть футов, широкие плечи, каштановые волосы все еще густые, однако с проседью на висках. Джастину это даже нравится: седые волосы начали появляться рано, когда ему пошел третий десяток, и, на его взгляд, придавали ему необычный вид. Правда, Джастину приходилось встречать людей, которые считали его бачки с проседью вызовом обществу, чем-то вроде колючки, грозящей разорвать пузырь их выдуманной жизни. Эти мнимые доброжелатели подходили к нему, кланяясь и горбясь, будто чернокнижники шестнадцатого века, и протягивали краску для волос с таким видом, словно это был графин с драгоценной водой из фонтана вечной жизни. Фу-ты, черт, какой он загнул художественный образ! А ведь эти несчастные просто-напросто были не в силах противиться массированному давлению СМИ, провозгласивших молодость добродетелью, а старение в любых формах – чем-то малопристойным…
Для Джастина движение вперед и сопровождающие его изменения – самоочевидные вещи. Человек взрослеет, затем входит в зрелый возраст – это объективная реальность, так же как и постепенно пробивающаяся на висках седина. Какой смысл красить волосы? От этого моложе не станешь… Однако он никак не ожидал, что его индивидуальная философия закономерного старения и изменения форм подорвет основы их брака. Дженнифер ушла от него, чтобы поразмышлять о том, как и почему все у них изменилось. Ну, по правде говоря, не только за этим. На самом деле причин было так много, что он жалеет, что не взял тогда ручку и блокнот и не записал их, когда она кричала на него в порыве ненависти. В течение первых темных одиноких ночей, последовавших за этим эпизодом, Джастин держал в руке бутылочку с краской и пытался понять: что было бы, не пойди он на поводу у своей крепкой, ограниченной философии? Он бы просыпался утром, а Дженнифер лежала в их постели? Зажил бы маленький шрам на его подбородке от удара обручальным кольцом? А перечень его черт, которые она так ненавидела, стал бы списком тех, которые она любила? Потом Джастин протрезвел и вылил краску в кухонную раковину своей съемной квартиры, почерневшая нержавейка которой каждый день напоминала ему о решении смело смотреть в глаза реальности. А вскоре он переехал в Лондон, чтобы быть ближе к дочери, к большому неудовольствию его бывшей жены.
И вот теперь он стоит перед зеркалом. Хотя пряди длинной челки закрывают ему глаза, он видит человека, которого ожидал там увидеть. Во всех недостатках, таких, как слегка расплывшаяся талия, частично виноват возраст, частично он сам, потому что во время бракоразводного процесса успокаивал себя пивом и готовыми обедами, вместо того чтобы время от времени заниматься ходьбой или бегом.
Вспыхивающие в голове стоп-кадры прошлой ночи заставляют его взглянуть на кровать, на которой они с Сарой узнали друг друга. Весь сегодняшний день он чувствовал себя самым крутым парнем в кампусе и чуть не прервал рассказ о голландской и фламандской живописи детальным описанием своих ночных свершений. Студенты первого года принимали бурное участие в Неделе благотворительности, так что на занятии присутствовали далеко не все, да и те после развеселой ночной вечеринки. Джастин уверен: они и не заметили бы, если бы он пустился в подробный анализ своих сексуальных способностей. Проверять это предположение он все-таки не стал.
Неделя «Кровь для жизни», к большому облегчению Джастина, длилась ровно неделю, и по ее окончании Сара уехала из колледжа в свой Центр переливания крови. Когда в этом месяце Джастин вернулся в Дублин, он случайно столкнулся с ней в баре, в котором, как ему было известно, она часто бывала, и там у них все закрутилось. Он не был уверен, увидит ли ее снова, хотя во внутреннем кармане пиджака был надежно спрятан номер ее телефона.
Прошлая ночь оказалась, безусловно, приятной: в оживленном баре на Грин они выпили несколько бутылок вина «Шато Оливье», которое до вчерашнего дня ему не нравилось, несмотря на прекрасное местоположение взрастивших лозу бордоских виноградников, вслед за чем последовало путешествие в его гостиничный номер. И все же Джастин не мог не признать, что его победе чего-то не хватало. Он почерпнул толику ирландского мужества из мини-бара в своем номере, перед тем как присесть на диван рядом с Сарой, так что к тому времени, когда дело пошло на лад, был уже не способен на серьезный разговор, а если не кривить душой, был не способен на разговор вообще. Господи, Джастин, кто из знакомых тебе мужчин когда-нибудь беспокоится о чертовом разговоре? Но, несмотря на то что в итоге они оказались в его постели, он чувствует, что Сара нуждалась в разговоре. Возможно, она что-то хотела сказать ему и, возможно, сказала. Он помнит ее грустные голубые глаза, глядящие в его глаза, и губы, напоминающие розовый бутон, которые открывались и закрывались, но виски «Джеймсон» не давало ему ничего услышать, напевая у него в голове, заглушая ее слова, как нахальный ребенок.
Вторая из его ежемесячных лекций осталась позади, и Джастин бросает одежду в сумку, радуясь тому, что наконец-то уедет из этой жалкой, пахнущей плесенью комнаты. Середина дня пятницы, время лететь обратно в Лондон. Обратно к дочери, и младшему брату Элу, и невестке Дорис, приезжающим в гости из Чикаго. Он выходит из отеля, спускается в вымощенный булыжником переулок Темпл-Бара и садится в ожидающее его такси.
– В аэропорт, пожалуйста.
– Были здесь в отпуске? – немедленно спрашивает водитель.
– Нет. – Джастин поворачивается к окну, надеясь, что это положит конец разговору.
– По работе? – Водитель заводит мотор.
– Да.
– Где вы работаете?
– В колледже.
– В каком?
Джастин вздыхает:
– В Тринити-колледже.
– Уборщиком? – В зеркале он видит шутливое подмигивание зеленых глаз.
– Я читаю курс лекций по искусству и архитектуре, – говорит он, занимая оборонительную позицию, складывая руки на груди и дуя вверх, чтобы глазам не мешала отросшая челка.
– Архитектура, говорите? Я раньше был строителем.
Джастин не отвечает и надеется, что на этом разговор прервется.
– Так куда вы теперь? В отпуск?
– Не-а.
– Куда же тогда?
– Я живу в Лондоне. – И номер моей американской карточки социального страхования…
– А здесь вы работаете?
– Ага.
– А здесь бы жить не хотели?
– Не-а.
– Почему это?
– Потому что здесь я работаю по договору. Мой бывший коллега пригласил меня вести занятия раз в месяц.
– Вон что! – Водитель улыбается в зеркало, как будто Джастин пытался его обмануть. – А в Лондоне чем занимаетесь? – Его взгляд как будто допрашивает Джастина.
Я серийный убийца, который охотится на любознательных водителей такси.
– Множеством разных вещей, – вздыхает Джастин и сдается, понимая, что придется удовлетворить любопытство водителя. – Я редактор «Обозрения искусства и архитектуры», единственного серьезного международного издания, посвященного искусству и архитектуре, – с гордостью говорит он. – Я основал его десять лет назад, и нам до сих пор нет равных. У него самые большие тиражи из всех журналов такого класса. – Двадцать тысяч подписчиков, лжец.
Никакой реакции.
– Я еще галерист. – Вот ведь расхвастался.
Водитель подмигивает:
– Орудуете веслом?
Джастин морщится в замешательстве:
– Что? Нет. – Потом без всякой необходимости добавляет: – Кроме того, я также постоянный участник передачи на Би-би-си, посвященной культуре и искусству.
Два раза за пять лет – какое уж там постоянство, Джастин. Да заткнись ты.
Теперь водитель смотрит на Джастина в зеркало заднего вида.
– Выступаете по телевидению? – Он прищуривается и изучает его. – Что-то я вас не узнаю.
– А вы смотрите эту передачу?
– Нет.
О чем же тогда говорить?
Джастин закатывает глаза. Он снимает пиджак, расстегивает еще одну пуговицу на рубашке и опускает окно. Волосы прилипают ко лбу. По-прежнему. Прошло несколько недель, а он так и не побывал у парикмахера. Он отдувает челку от глаз.
Они останавливаются на светофоре, и Джастин смотрит налево. Парикмахерская.
– Эй, вы не могли бы припарковаться слева на несколько минут?
– Слушай, Конор, не переживай из-за этого. Перестань извиняться, – устало говорю я в телефонную трубку. Он утомляет меня. Каждый, даже короткий, разговор с ним опустошает меня. – Со мной папа, и мы вместе поедем домой на такси, хотя я вполне способна сама сидеть в машине.
При выходе из больницы папа придерживает мне дверь, и я забираюсь в такси. Наконец я еду домой, но не испытываю того облегчения, на которое надеялась. Нет ничего, кроме страха. Я боюсь встречаться со знакомыми, которым снова и снова придется объяснять, что произошло. Я боюсь заходить в свой дом, в котором неизбежно увижу наполовину обставленную детскую. Я боюсь, что придется избавиться от детской, поставить туда кровать для гостей и заполнить шкафы моим собственным переизбытком обуви и сумок, которые я никогда не буду носить. Я боюсь, что придется идти на работу, вместо того чтобы взять отпуск, как я планировала. Я боюсь встречи с Конором. Я боюсь возвращения в брак без любви, в котором не будет ребенка, способного занять нас. Я боюсь каждого дня оставшейся жизни, в то время как Конор продолжает жужжать по телефону о том, как бы он хотел быть здесь, со мной, хотя в течение последних нескольких дней я как мантру повторяла, чтобы он этого не делал. Я понимаю, что согласно здравому смыслу я должна хотеть, чтобы мой муж примчался домой, ко мне, более того, я должна хотеть, чтобы мой муж мечтал примчаться домой, ко мне, но в нашем браке слишком много «но», и это происшествие – не обычное явление. Оно заслуживает необычного поведения. Вести себя правильно, как взрослые, кажется мне неверным, потому что я не хочу, чтобы рядом со мной кто-то был. Меня тыкали и кололи как физически, так и психологически. Я хочу горевать в одиночестве. Я хочу жалеть себя без слов утешения и медицинских объяснений. Я хочу быть непоследовательной, плаксивой, ожесточенной и потерянной самоедкой всего еще несколько дней, – пожалуйста, мир, о пожалуйста! – и я хочу страдать в одиночестве.
Для нашего брака, впрочем, это абсолютно естественно.
Конор – инженер. Он месяцами работает за границей, возвращается домой на месяц, а потом снова уезжает. Я так хорошо приучила себя к своей собственной компании и повседневной жизни, что в течение его первой недели дома бывала очень раздражительна и хотела, чтобы он уехал обратно. Со временем это, конечно, изменилось. Теперь эта раздражительность растягивается на весь месяц его пребывания дома. И стало совершенно очевидно, что в этом чувстве я не одинока.
Когда много лет назад Конор пошел на эту работу, нам было трудно так долго находиться вдали друг от друга. Я навещала его так часто, как могла, но было сложно все время отпрашиваться с работы. Поездки стали короче, реже, потом и вовсе прекратились.
Я всегда думала, что наш брак может пережить все что угодно, пока мы оба стараемся. Но потом поняла, что мне приходится стараться, чтобы стараться. Я разрывала все новые слои сложностей, которые мы создали за годы, чтобы добраться до начала наших отношений. Пыталась понять: что у нас было тогда, что мы могли бы воскресить сейчас? Что может заставить двух людей захотеть пообещать друг другу провести вместе каждый день оставшейся жизни? В конце концов я поняла, что это. Любовь. Простое короткое слово. Если бы только оно не значило так много, наш брак был бы безупречным.
Мое сознание частенько блуждало, пока я лежала на больничной койке. Временами оно прерывало свои странствия – так бывает, например, когда входишь в комнату, а потом забываешь, зачем это сделал. Сознание замирало, цепенело, и я, глядя на розовые стены, думала только о том, что смотрю на розовые стены.
Затем, выйдя из оцепенения, мое сознание продолжало блуждания, и вот как-то раз я глубоко копнула, чтобы найти воспоминание о том времени, когда мне было шесть лет и у меня был любимый чайный сервиз, подаренный мне бабушкой Бетти. Она оставила его у себя в доме, чтобы я играла с ним, когда приходила к ней по субботам. Днем, пока бабушка пила чай со своими друзьями, я одевалась в одно из красивых платьев, которые в детстве носила моя мама, и «пила чай» с кошкой Тетушкой Джемаймой. Платья, увы, не были мне впору, но я все равно их надевала, и мы с Тетушкой Джемаймой так и не полюбили чай, но обе были достаточно вежливы, чтобы каждую неделю притворяться, и успешно притворялись, пока мои родители не заезжали за мной в конце дня. Несколько лет назад я рассказала эту историю Конору, и он рассмеялся, не поняв ее смысла.



