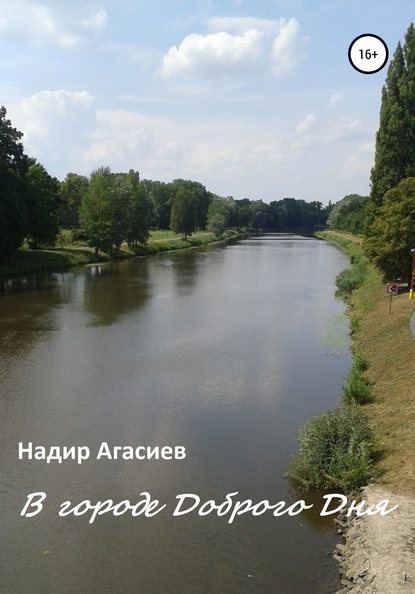 Полная версия
Полная версияВ городе Доброго Дня
Ридан смотрел на Даздраперму-Майю, все больше проникаясь ее пафосом: "На вашу долю выпала большая ответственность; вместе со всем славным коллективом АЗЛК принять участие в выпуске двухмиллионного автомобиля "Москвич". Может, даже кто-то из вас сможет получить его в подарок!" Она заканчивала фразу, ни на кого не глядя. Смотрела куда-то в окно. Там внизу за окном, на огромной площадке пылали разноцветьем новенькие "Москвичи". Двухмиллионного среди них еще не было.
Впервые девушку с изящной линией подбородка Ридан увидел на своем участке только в самом конце производственной практики. Она шла вдоль конвейера, аккуратно обходя всякие неровности, преграды, записывала что-то в блокнот. И Ридан записывал ее в себе такой, какой видел. Их взгляды встретились. Никакой искры. Какое-то время она смотрела на Ридана, потом повернулась и ушла. Пошла на другой конец конвейера, как в другую жизнь. Ридану вдруг захотелось, чтобы конвейер остановился, тогда он мог бы догнать ее, сказать что-нибудь, неважно что, пусть даже глупенькое или спросить: "Где ты была раньше, два месяца назад!" Он вдруг представил, что будет догонять и все оглядываться, не включился ли конвейер. И ему так жалко стало себя. Вся его жизнь в Москве – это променад туда-сюда в пределах своей зоны на конвейере. Хоть он и не ограничен клеткой, но все равно в клетке. И его желание сказать ей, что такое личико, как у нее, надо бы оберегать вуалью, так и оставалось неудовлетворенным.
В обеденный перерыв он снова увидел ее. Сидела за столом перед тарелкой с ломтиком арбуза, положив подбородок на кисти рук. Арбуз для заводской столовой был диковинкой, объяснялся Веисагой Риданом, что является, праздничной атрибутикой к двухмиллионному автомобилю. Профком с Парткомом постарались. Веисага Ридан смотрел на нее, как она сидела, не ела арбуз, сожалел, что через пару недель уедет.
После обеденного перерыва, вернувшись на конвейер, из него вдруг польется текст. То, что это рассказ и некое признание, и оно как бы роспись в своем стремлении добиться желаемого, Ридан осознает позже. Свой текст- рассказ- послание, как помесь кайфа от озорства и от творческого порыва, он запишет, не найдя ничего более подходящего, на крыльях кузовов "Москвичей" на конвейере. Ридан будет писать, вполне успевая делать и свою работу, сваривать контактной сваркой правую боковину "Москвича".
Кузова шли по конвейеру, он прошивал контактной сваркой проемы дверей правой боковины, стыки металла на крыльях под никелированные планки, успевал писать. Текст к незнакомке прямо-таки лился из него. Прошло не меньше десяти кузовов, прежде чем он успел закончить свой рассказ-послание незнакомке на другой конец конвейера. Закончив рассказ, он на творческом порыве, под придуманным им лозунгом: "За прочность правых боковин автомобилей!", без устали ходил взад-вперед по своему участку на конвейере, когда конвейер вдруг остановился. Еще не было тревоги, что остановили конвейер из-за него, была лишь радость, что сумел так ловко и красиво высказаться, а на горизонте, куда утекали кузова, появилась Даздраперма Ильинична.
"По мою душу", – подумал Ридан, гнев Даздрапермы для него уже не имел особого значения. Он издали видел, что Даздраперма шла вдоль конвейера, читая его послание на кузовах. Ридан понимал ее тревогу, кто знает, что там пишут на двухмиллионных "Москвичах".
Вчера вечером он наконец-то побывал в театре в Москве. Он почему-то выбрал театр Пушкина, может от того, что там давали пьесу бывшего бакинца. Но именно по дороге в театр имени Пушкина он вдруг увидел вывеску: "Союз писателей СССР. Литературный институт им. А.М. Горького". "Вот!", – прошептал Ридан. Внутри у него все замерло. Он не забывал этот миг целых три года. Веисага Ридан знал, что он обязательно будет учиться в этом институте. Только надо сесть и начать писать.
"А вот и рассказ написан! – подумал Ридан, видя, что Даздраперма Ильинична направляется в кабинет мастеров. – В единственном экземпляре, но будет колесить по всей стране… Почему все решили, что это я?" – спросил себя Ридан. Сам же и ответил: "Потому, что больше некому!"– эта мысль льстила Веисаге Ридану.
…– Ах, вот ты какой наш писатель? – Даздраперма знала, как унизительно поставить ударение.
"Закрасят, Майя- ханум, – все закрасят, зашпают," – молча отвечал Ридан, глядя в горящие гневом большие глаза Даздрапермы Ильиничны. "А что такого я, собственно, сделал? "Писатель!" Вспомнилась фраза Генки, он якобы цитировал одного из руководителей-прорицателей: "Кавказ нам еще такой понос устроит!" Ридан не верил, что руководители страны могли именно так выражаться. Но раз Генка цитировал… " Майя-ханум, почему сразу писатель? Я с Кавказа, мы обычно понос устраиваем, Даздраперма Ильинична!" Ридан так по серьезному смотрел в Даздрапермовские глаза… они у нее забегали. "Смутилась тетка!"
" Майя-ханум, Бог с вами, какая крамола?"
Ридан и не думал, что может настолько обнаглеть: " Я слышал, завод будет поощрять передовиков, ветеранов производства, можно, в конце концов и молодежь поощрить. Один из серии двухмиллионных автомобилей отдать, как приз, заводской красавице, мисс "Москвич -408". Хороший, партийный ход, Даздраперма Ильинична…
– Ты и в самом деле рассказ на машинах написал? – жена всегда, когда беспокоилась за меня, смотрела куда-то поверх меня, словно бы вымаливала для меня поддержку свыше. Сейчас за моей спиной возвышался Йиржи Подебрадский.
Я чувствовал его, и вдруг сразу осознал и прочувствовал великую миссию памятников. Они, возвышаясь над всеми нами, продолжают дела тех, кого увековечивают. Я был уверен, что Подебрадский со мною, он за меня. Каждое утро, подойдя к нему, я здороваюсь с ним: «Добрый Дэ-э-эн, Ваше Величество! – говорил я, восхищаясь его поразительной судьбой. Примеряюсь к нему: насколько же мы слабы духом. – в наше время власть легко не отдают»
– Да, написал, – ответил я. Мне и самому было лестно. Подумал, собрать бы все правые боковины уже давно отслуживших свой срок автомобилей, соскрести краску, отбить шпатлевку, прочитать мой рассказ. Вот он каков, оказывается, не тленен, хотя я и не помнил, о чем он.
– И как он назывался? – жена делала ударение на слове как?
"Кто его знает, – думал я. – "Девушка и арбуз". Писали же картины "Девочка с персиками". Почему же не быть на автомобилях рассказу "Девушка с вырезкой арбуза".
– Что тебе было за порчу машин?
Жена не знала, каким парнем я был в первой молодости, только догадывалась.
"Манжелка, какая порча?"
На следующий день в очереди в столовой мне приставили сзади, к спине, вилку алюминиевую, имитируя нож.
Я был окружен со всех сторон. Ребята, пахнущие конвейером, его тяжелым потом, шутить не любили: "Тебе все понятно, джигит"?
В столовой, прямо напротив, сидела за столом незнакомка. Положив локти на стол, держа обеими ручками арбузную вырезку, впивалась зубами в ее мягкость, смотрела прямо на меня.
– Мне понятно! Но и вы должны знать. Если, что случится со мною, вас всех казнят.
Конечно, это был блеф, опирающийся на наш имидж. Кто бы пошел мстить за меня. Но аргумент был веский. Слово сильное – казнь. Оно вдруг мне пришло. Да и не одинок я был в Москве, нас было двенадцать, я мог бы их позвать на помощь, но никогда бы этого не сделал. Чего подставлять друзей. Вырвал у него из рук вилку, согнув пополам, пошел к незнакомке.
«Арбуз следует есть вилкой, не пачкать ручки. Вообще не пачкаться!» – Оставив согнутую вилку у нее на столе, я направился на конвейер в цех.
«Даздраперма сказала не трогать!» – услышал я вслед себе…
«И не трогайте, коль «паханом» вашим приказано!»
…– Все так и было, мадам, давай выпьем еще по глоточку, пойдем уничтожать старушку? Это она, с завода, и никакая там "нет, в середине!". Изящество ее подбородка морщины сгубили!
Чего всполошился? Будто найти эту женщину – дело жизни. Вспомнил, как она сидела, впившись в арбуз, взгляд отсутствующий, стеклянный. Такая она вдруг неинтересная стала.
– Найдем, вернем корень! "А нам ничё чужо не на, у на сё е!" – сказал я, четко ощущая за спиной всю стать памятника его Величества короля Йиржи Подебрадского.
Солнце спряталось за тучи, памятник Йиржи Подебрадского, очень почитаемого мною короля, сразу помрачнел. Я вспомнил о Соколике. С самого утра, как только что-то связывается у меня с солнцем, мне вспоминался Соколик.
Я вытащил из кармана "Соколика". Показалось, он был зол. Задыхался в кармане. "Ведь было сказано тебе, Веисагушка, лучше хранить в соломе…" А ты?
В интернете, в мифах о мандрагоре говорилось, хозяин корня мандрагоры для достижения богатства не должен расставаться с корнем, садиться вместе с ним за обеденный стол, выделять ему еду наравне с собой.
"Соколик, мороженого поешь? Красный шарик твой, я к нему не прикоснусь. Достану я тебе солому. Попрошу Наталью, она будет сегодня за городом, привезет пучочек, или мы сами с манжелкой соберем травки. Будешь жить в шалаше, как Генкин любимчик".
… Мы подходили к трактиру.
"Живи настоящим, оно будет все совершеннее, станет все более и более достойным твоих грез," – подумал я, ставя точку на прошлом.
В трактире музыка играла. Музыка была все та же "Па-па па-ра-ра, пара ра…" и псина громадная та же, что была и утром. Гарсон был другой, с бравыми, закрученными к верху усами и сплетенной в косичку бородой. Я не почувствовал, что мы ему не интересны.
– Мы пройдем вниз, к Эльбе, – сказал я, поставив перед фактом, как бы сразу обозначая – "нам ничё не на!"
Гарсон понимал по-русски.
– Да, пожалуйста, оттуда замечательный вид на Эльбу. Внизу под нами она убыстряется.
– Нет, молодой человек, ничего не убыстряется. Река делает изгиб, возникает эффект углового ускорения.
Жена смотрела на меня, как на чемпиона мира по занудству.
"Манжелка, я просто контакт с молодым человеком налаживаю".
– Мы женщину хотим встретить, – в трактире было пусто, несколько мужиков сидело в зале, во дворе трактира никого не было, только официант и собака. – Непонятно, стара или молода. Она была здесь утром, к реке спустилась, пропала. – Я говорил ему в надежде, что официант что-нибудь да скажет о ней.
– Фиби что ли? Она вдоль реки в замок ходит. Бывает здесь иногда по утрам. Говорят, мандрагору выращивает. Раздает людям, на кого глаз положит. – Официант испуганно обвел взглядом трактир. – Вы спускайтесь к реке, хотите, я вам пива туда принесу?
Мне так захотелось снова "Сливовицы". Все прошедшее за день упразднялось, я снова оказывался в сегодняшнем утре, и музыка Доброго Дня вновь звучала в моей душе. Чуточку изменившись, она делала крен на извороте, приобретая угловое ускорение. Я знал, что необходим небольшой импульс, она получит дальнейшее развитие, зазвучит по- новому.
"Гарсон! Сливовицы!" Пусть даже не выпью, даже не попрошу, просто подумаю, и это уже будет действо, которое обязательно повлияет на мою музыку.
– Молодой человек, а у вас брага бывает? – спросил, усаживаясь за обшарпанный стол. Полагая, что нет ее, конечно, это питье российское.
– Есть, – ответил официант, – замечательная бражка, изготовленная по старинному рецепту из замка. Нести?
– Конечно! – я посмотрел на жену: "Манжелка, это эликсир жизни!" – молча сказал я жене по-азербайджански. "Джан горуюджиды!"
– Сколько, кружку, две? – спросил официант.
– Одну.
– Вы хотели к реке пройти, спускайтесь, я вам туда принесу.
… Серая Эльба и вправду убыстрялась. Только непроходимому зануде пришло бы в голову про угловое ускорение. На душе стало неуютно. Захотелось крикнуть в шум реки. "Эй-ей-ей- эй" – закричал я, кричал сдержанно, как бы в себя, мой голос спешил вдогонку Эльбе.
Мы и в детстве, в Габале, поднявшись на вершину высокого холма, к истоку родника, где он бьет ключом из-под земли, оглядывая габалинские горы, стелющиеся под нами, кричали. Кричали все: и отец, и его друг, и дети друга, и я, мой младший брат, сумевший подняться вместе с нами. "Эй-ей-ей-эй!" И все же были мы сдержанны, не полностью отдавались крику, видимо, такова наша азербайджанская природа. Но она также искренне, по-нашему, по-азербайджански, желала всем Доброго Дня. Этот всплеск наших душ должен был найти свое отражение в увертюре подебрадского Доброго Дня.
– Ты чего кричишь? – жена дергала меня за руку. – Смотри, там у самого берега собака мертвая.
Застывший оскал мертвой таксы Фиби "пялился" прямо на меня. Вдруг стало жалко моего знакомого, хозяина таксы, вспомнил, он преодолевал этажи своего дома, останавливался на каждом этаже отдышаться, вспомнилась его такса, противная злючка, справно исполняющая свой собачий долг: злобно лаять и не лениться с приплодом.
– А вот и ваша бражка, – официант спешил, спускаясь на полусогнутых ногах. Иначе, наверное, и не спустишься.
– Там собака мертвая! – жена моя ждала от официанта каких-то действий.
– Я уже вызвал катер береговой службы, приедут, заберут.
– Куда? – спросил я, будто мне было суть важно, куда повезут Фиби.
– Не знаю, в крематорий, наверное.
Я протянул официанту 100 крон. "Гарсон, 100 крон. Нет, это не рифма!" – Сдачи не надо! Молодой человек, утром я здесь солому оставил. Не сохранилась ли, случайно?
– Рапс мы высушили, знали, что вернетесь.
– Почему?
– К нам все возвращаются?
Это было правдой, в Подебрады мы уже во второй раз, даст Бог, приедем еще не раз.
Я не успел допить свою брагу, как из-за поворота реки появился катер береговой службы. Это был ностальгический для меня катер с широким реданом. Шел против течения, рассекая волны Эльбы, лихо развернулся, направился к берегу, прямо на Фиби. Матрос с багром в руке поднялся на редан, чтобы зацепить им таксу, затащить на борт.
Мы с женой и не заметили, как с противоположной стороны изгиба реки выплыл на полном ходу, раскинув свои паруса-крылья, большой, гигантский лебедь. Он смело шел на катер, не позволяя подойти к берегу, отгоняя его назад. Я никак не мог объяснить агрессивность птицы, разве лишь тем, что на берегу она высиживала потомство.
Я снова был на похоронах собаки, и снова пил брагу, как в первый раз. Может, это было веление покойного Генки. Эта мысль только мелькнула, я отделался от нее, нет Генки и все, забыли! Посмотрел на жену. Она держала меня за руку, напряженно следила за противостоянием катера с лебедем. В кармане ерзал Соколик. «Потерпи, сосед, скоро укутаю тебя в солому.»
Не хотелось думать ни о чем мифическом, придумывать что-то, кроме того, что видел. Лебедь, действительно, был и гнал прочь от берега катер. А то, что лебедь – это душа, душа всех, кто знал таксу, душа Ёшки и даже душа моего знакомца, хозяина таксы, может, и моя – это стилизованная под лирику мистика. Подобная лирика позволяла подумать о старце Хароне, приехавшем за очередной душой. Ее можно было привязывать к чему угодно и к кому угодно, но себя я исключал, допускал старца Харона лишь к тушке таксы, выдернувшей "Соколика" из грядки. Откуда, если не из грядки, раз уж Ешка выращивала мандрагору. Для меня был только факт: "Лебедь гнал катерок!" Все. Жаль, что катер был с реданом.
–7-
…На следующий день я проснулся до зари. "Соколик" лежал в спальне на широком подоконнике, укутанный в рапс. Я уже не беспокоился, что солнце ему может навредить. Как травянистое растение "Соколик" – мандрагора был в своей стихии, в траве.
– Добрый Дэ-эн-эн! – пропел я мысленно "Соколику". У меня получилось мелодично. Солнца еще не было, надо успеть встретить его на улице, подумал я. "Соколик", полезай в карман, в какой хочешь, в правый, в левый, теперь я от тебя защищен.
Женщина, приехавшая на тарантасе с ящичками с горшочками цветов, меняла показания на цветочном календаре.
– Добрый Дэ-эн-эн! – я бодро поздоровался с нею. Сегодня она еще на один день приблизила меня ко дню рождения моего сына, спасибо.
– И вам всего доброго. – Женщина хорошо говорила по-русски. Я уже отошел от нее, как пришло решение по Соколику. " Посадить "Соколика" в цветник. Как-никак он ведь цветок.
Уговаривал я женщину долго, уже солнце поднялось из-за памятника Йиржи Подебрадского, цветочные часы показали шесть утра, и гном заколотил молоточком по шляпке гриба- мухомора.
– Разрешите его посадить, если не в цветы в календаре, то хотя бы в сквер к гномику. Он ведь растение, погибнет. Соколик волшебный, будет добро приносить отдыхающим.
Женщина только улыбалась, давно не встречалась с таким напором. "Ну а коли я, что решу» … стою до победного конца.
"Если бы корень не был похож на моего соседа!? Я бы не стал спасать его. Знаете, сосед мой знал то, что с нами затеют войну еще за два года до ее начала. Я не могу позволить, чтобы он погиб, не сказав мне, когда война закончится, позвольте, ханум, посадить его в скверике у гнома! Пусть растет со всеми чешскими цветами. Он приживется, будет под охраной городских властей и первым скажет, когда у нас война закончится, наступит мир". Я уставился на нее своим взглядом "Да Здравствует Первое Мая!".
Она молча дала мне лопатку. "Посади, сынок! Лопатку оставишь у гномика".
Не знаю, почему вдруг увидела во мне сына. Может, я уже помолодел, пока "вскармливал грудью" Соколика.
Соколика «похоронил» я глубоко, чтобы не каждая такса могла выдернуть. Запомнил место; метра два от гномика, наискосок по направлению к нашему отелю, Беллевью Тлапак.
Когда я выбрался из скверика, цветочные часы показывали двадцать минут седьмого. На календаре было шестнадцатое августа. Однако, год был передвинут на целый век. «Ничего себе ошибочка вышла!?»
Календарь показывал 2116 год.
«Эй!» – крикнул я, вслед уже отъехавшей женщине, – подождите!» Женщина на тарантасе увозила цветы вчерашнего дня. Она меня слышала, я был уверен, но не останавливалась. И уже, отъехав довольно далека, оглянулась. Я не видел ее ухмылки, но чувствовал, что она ухмыльнулась, будто знала про меня нечто большее, чем знал я. И опять откуда-то из моей молодости сверкнул взгляд. Он в последние дни неоднократно пытался проникнуть в меня. Он исходил от «девушки-старушки», Мартины из отеля, кассира подебрадского вокзала. Теперь смотрела женщина с тарантаса. Я даже увидел два его крепких, сверкающих на солнце, вонзившихся в меня луча.
– Подождите, вы ошиблись! – шептал я себе под нос. Посмотрел в скверик «Гномика-Соколика», и не смог найти место, где был закопан мною Соколик. «Как же так, – думал я. – Не может быть, куда он мог деться, земля там должна быть свежевскопанная». Но все было заросшим травой, мелкими желтыми цветами, названия которых я не знал, календулой. Соколик потерялся. «Сокол, я найду тебя!»
Женщина с тарантаса отвернулась, на меня уже не смотрела, я почувствовал, как два лучика ее взгляда, угасая, постепенно рассыпались. Вспомнилось, что был два раза на моей памяти такой же лучистый взгляд. Первый раз, в раннем моем детстве, на одном из клановых посещений просмотра фильмов по телевизору. Мы собрались у родителей мамы, у бабушки с дедушкой, смотреть телевизор. Я вдруг почувствовал над головой два ярких, упирающихся в телевизор луча. Оглянулся, муж моей тети, пригасив лучи веками, приставил палец к губам, мол: «Тише!» Вновь весь ушел в экран телевизора. Он с таким интересом смотрел на экран, будто своим взглядом, двумя лучами-прожекторами, вытягивал нечто из телевизора в себя.
Потом, много лет спустя, уже на изломе страны, с таким же интересом, словно бы пытаясь что-то вытянуть, смотрела на меня столетняя бабушка друга моего детства.
… То, что бабушке Друга было сто лет Веисага Ридан узнал случайно, уже после того, как ее не стало. В исполнительной власти поселка он увидел документы на дом бабушки Друга, домовую книгу. И Веисага с удивлением и не без удовольствия обнаружил, что Тете К-не было сто лет. Он никак не мог поверить. Вот они сто лет наяву. Ридан и не знал, как должны выглядеть люди в сто лет. Скорее всего, хорошо, заключил он, раз столько прожили. Словно назначенные Тете К-не сто лет были тайной, никто не должен был знать. И Друг, видимо, не знал, иначе бы не выдержал, сказал бы.
Тете К-не было сто лет, выходит, родилась она в 19 веке. Ридан мысленно перенесся в Казань, откуда была родом Тетя К-на. В молодости Ридан невольно вел летоисчисление от рождения Ленина, примеривая даты известных людей, событий к 1870 году. И к Тете К-не примерил. «Она могла видеть, вождя! В Казани». Теперь эта мысль не вдохновляла. Ридан отходил от летоисчисления по Ильичу. Вспомнилось, как Тетя К-на шла в войлочных ботах мелкими шажками по переулку, не поднимая головы. Независимая, ни на кого не смотрела. «Тетя К-на, я за хлебом, купить вам, а то пока вы дойдете!?» – спрашивал Ридан, на ходу обгоняя ее. Ридан не мог не предложить помощь бабушке Друга. «Беги себе!» – отвечала она, не глядя на Ридана. Ридан и не помнил, чтобы она смотрела на него, кроме того дня, когда видел ее в последний раз, и еще однажды, когда ожидал в прихожей, пока Друг отобедает. Ридан сидел на стуле, слышал, как внук с бабушкой спорили, им было весело спорить. За окном ветер раскачивал ветви орехового дерева, свисающие из соседского сада. Падали уже созревающие орехи в почерневшей зеленой оболочке, Ридан пытался сосчитать их.
– Сначала суп, потом хворост.
Друг, как капризный ребенок, корчил рожицы, показывая, что ему не хочется есть суп. «Нет, суп!» – строго говорила Тетя К-на и, глядя на скорчившего рожицу внука, не выдерживала, начинала смеяться.
Она и Ридану принесла на тарелочке свежеприготовленный хворост. Горячий хворост с капельками еще неостывшего масла обжигал. «Попробуй, сынок», – улыбнулась Тетя К-на ямочками на щеках, поспешила назад к внуку, проследить, чтобы он съел еще одну ложечку супа. Ямочки на щеках были у всех троих ее внуков; у Друга, у старшего брата Друга и у сестры Друга, это она их ими наградила. На какую-то секунду Ридан вдруг увидел, насколько глубок ее взгляд, и глубина ее взгляда, прикрытая хорошим настроением, чувствовалось еще явственнее.
За неделю до этого Друг тоже приезжал к бабушке. Они как бы поменялись. Тетя К-на поехала на Разина к сыну, а Друг к ней на Кара-Чухур с ночевкой.
В этот день вечером должна была состояться свадьба дяди Ридана, всеми в семье любимого Миши-Махмуда. В жизни Ридана это первая свадьба, на которой он должен был быть. «Я там был, мед-пиво пил…»
«Может, медовухи попьем?» – предложил вдруг Ридан. Друг только удивился.
– Мне на свадьбу, но там вряд ли будет, как в сказках, мед да пиво. Выпьем по чуть-чуть медовухи?
– Как это?
– Возьмем водки, размешаем в ней мед.
Медовуха им не удалась. Наверное, надо было выпить сладкой водки, чтобы потом уже не возвращаться к этому варианту. Полстакана меда в водке не растворились. Пили по глоточку и словно закусили водку медом и игрой на струнных инструментах, кои были в доме бабушки Друга, запрещенной в те годы «Pretty Woman». Скрипка, гитара, контрабас. «Тра-та-та. Трата-та-та!» Друг учил Ридана играть на одной струне контрабаса эту великую мелодию. Ридану удавались эти несколько нот, после звучания которых на танцах в клубе обычно кто-то, блюдший моральные устои, давал команду прекратить, и гитарист эстрадного оркестра кара-чухурского дворца культуры с извиняющейся улыбкой послушно замолкал. Позже мелодия «Претти вумен по улице идет» очень хорошо бы легла на трактат Ридана «Перемещение женщины в пространстве», если его читать под музыку Элвиса Пресли.
Этот день с «медовухой» Ридану запомнился на долгие годы. И не только потому, что на свадьбу дяди он не попал, развезло, проспал до самого утра. Но еще и признанием Друга. Захмелевший Друг сообщил Ридану, что у его бабушки был пасынок, он не вернулся с войны. Это был сын ее мужа, дедушки Друга. И Тетя К-на всю жизнь чувствовала собственную вину, что пасынок не вернулся. Друг поделился своей тайной, взвалив груз на Ридана.
…Веисага Ридан открыл калитку во двор Друга на Разина. Два блеклых, переливающихся перламутром на закатном солнце луча, вспыхнув, смерили его всего с головы до ног. Тетя К-на, бабушка Друга, сидела в беседке в саду. За беседкой справа и слева к дальней ограде тянулись саженцы роз. Эти несколько шагов от калитки до беседки он шел под ее пристальным взглядом.
-Здравствуйте, Тетя К-на! Друг дома?
– …
-Мама, идите ужинать, – это мать Друга звала свекровь.
В семье Друга все обращались друг к другу на ВЫ, и это Ридану нравилось.

