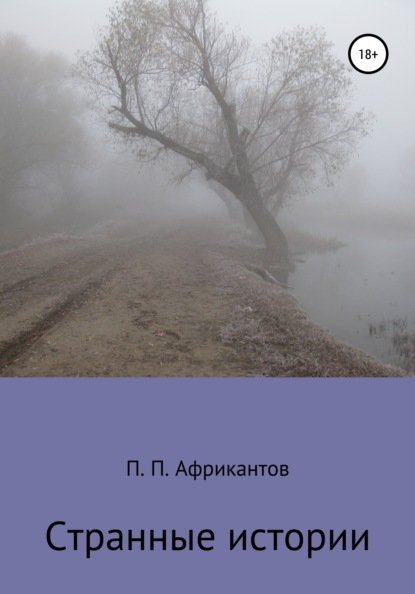 Полная версия
Полная версияСтранные истории
– Мне главное душу благостью этого места напитать, чтоб, на несколько месяцев хватило. А там я с пенсии опять на поездку наберу и снова к источнику. Так и живу. Я даже, знаете, время в жизни не месяцами и неделями меряю, а поездками к святому месту.– И он посмотрел на меня испытующе, желая знать – интересна мне эта тема или я один из тех туристов, про которых он упоминал? Увидев, что я его с интересом слушаю, продолжил.– Мне соседка говорит искренне и жалеючи:
«Иван Петрович! Что вы себе покою не даёте? Посидите у подъезда на лавочке, как все люди, купите на эти деньги, что прокатаете, колбаски или сыру, и поешьте со своей Еленой Ивановной душе на радость».
А ведь она всё искренне говорит, от души. Только после этих слов, мне соседку жалко становится. Одно в её словах правда, что не баловала меня жизнь никогда ни сыром, ни колбаской. Принадлежу я к интеллигенции в первом поколении, выходец из деревни. Отец был трактористом, мать учётчицей. Особо они ничего в жизни не видели, рвались между колхозной работой и своим хозяйством и меня сызмальства к работе приучали. Уже подростком умел я на селе всякую работу исполнять: косить, запрягать, возить, вилами орудовать, что тебе заправский мужик. А, как ещё подрос, то и пахать на тракторе за отца стал. Он у меня болел, с Великой Отечественной ещё. В первый день войны был тяжело ранен, плен, побег, партизаны, мотострелковый корпус, парад на Красной площади. Пушку он на «Студоре» по Красной площади вёз. Предупредили, у кого машина на площади заглохнет, тот дома в ближайшее время не увидит. Много мне отец чего порассказывал, да не о том речь.
Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, а затем таким же ровным голосом продолжил.
– Работал я, значит, за отца на тракторе, когда ему плохо было, подменял. Бригадир разрешал – под отцовскую ответственность. Освобождения от работы участковый врач всё равно не давал: в уборочную или в посевную нельзя, если только, само собой, увезут, потому что умереть может. Пансионаты, конечно, дома отдыха и там здравницы всякие строили, но к конкретному человеку, у которого ни председатель, ни бригадир в друзьях не ходят, отношение было не ахти какое. Сельхозтоваров тогда в свободной продаже почти не было. В колхозе было легче украсть, чем что-то выписать.
Иван Петрович немного помолчал и продолжил:
– И воровали! Сначала люди крали, чтоб выжить, а потом, когда выжили, по привычке стали красть, для достатка. Да, так приохотились, что отучить людей от этого ремесла не было никакой возможности. Это в деревне даже за героизм почиталось, если ты сумел что- либо в колхозе стащить.
– А как же начальство, или сторожа?– спросил я, мало чего понимая в сельском житье-бытье. Иван Петрович понимающе улыбнулся.
– Начальство больно-то никого и не ловило, если уж сам при свидетелях попался, тогда да, пошумят немного. Оно – начальство само воровало, только не ночью, а днём. И сторожа, тоже не с луны были завезены; за бутылку они тебе сами домой чего хошь принесут.– Потом вздохнул, помолчал и сказал,– воровал и я… – Опять помолчал. – И ведь не думали, что это грех великий. Вот до чего люди дошли. Великий грех, за героизм почитали. Зато на каждом столбе было про коммунизм написано, дескать, – вперёд и он – этот коммунизм, не за горами, а чуть -ли не на соседней улице, только до нас не дотопал. Тогда я в политике ничего не понимал, а думал, что этот коммунизм какой-то воровской получается. Чем больше воруют, тем ближе светлое будущее.
Помню, по ранней деревенской жизни своей, дедушку – благообразный был старик, с белой бородой и усами – Георгия за Первую мировую имел. Я только и помню, как он иногда пред иконами молился. Иконы у нас в переднем углу на полочке стояли. Такой был иконостас небольшой, со шторками из тюля. Иисус Христос там был, Богородица да Николай Чудотворец. Иконы были старые, тёмные. Едва можно различить, что на них было изображено. Подобный иконостасик почти в каждом доме имелся.
Дедушка был малограмотный и кроме как Боженька накажет, и что он всё видит с неба, я ничего от него не слышал. Мои родители в религиозном отношении тоже были безграмотны, хотя праздники православные чтили, о них помнили. К Пасхе всё уберут, вычистят, полы аж жёлтыми становятся, и всем в этот день было радостно. В церковь не ходили, церквей просто не было. Божий храм был один, в областном центре за семьдесят километров. Его родители посещали раз в год, когда на базар ездили, и то не всегда удавалось, а потом и ещё реже стали в нём бывать.
Ещё праздновали престольные праздники. В близлежащих деревнях были когда-то свои приходы, а значит и свои престольные праздники существовали. В этих деревнях жили родственники, вот и съезжались друг к другу повеселиться да самогонки попить. О молитвах и речь не шла. Их больно- то и не знали. Одна молитва была у взрослых в ходу: – «Господи, помилуй»,– когда беда какая надвигается, да: « Богородица, спаси нас». Я и не думал тогда, что это молитвы. Но видно в сознании народном что-то ещё теплилось, не всё дьявол умыкнул у людей. Не всё, не всё злодей выкрал и по ветру пустил… Вот супостат…
Я и моя сестра – Аннушка среди сверстников, наверное, были самыми религиозными, потому как знали величальное «Рождество твоё Христе Боже наш…». Выучить- то я молитовку выучил, а о чём в выученном говорится– я толком не знал. Особенно меня смущали волхвы, которые со звездою путешествуют. Кто такие волхвы, откуда они? А звезда, думал, у них прикреплена на длинном посохе. Знал я в то время совсем другое – за пропетую эту песнь денежек или конфет давали больше, чем сверстникам, которые читали следущее:
Я маленький мальчик,
Сел на диванчик,
Открывайте сундучок,
Вынимайте пятачок.
Росли мы с сестрой крещёнными на дому. В церкви никогда не были и о причастии или об исповеди ничего не знали. Родители нам этого не говорили, наверное, из опаски, что по глупости кому-нибудь расскажем.
Да что там говорить,– Иван Петрович махнул рукой,– на всю деревню один псалтирь был. По нему по покойникам читали. Евангелия не было, а если у кого и было, то о нём молчали и никому его не показывали. Даже, как мне потом стало известно, от детей родных, воспитанных в школе на идеях марксизма- ленинизма, эту книгу прятали. И допрятались до того, что бабушка умерла, а куда она книгу положила, никто не знал, так и не нашли.
Да если б и нашли, что толку, по церковно-славянски читать никто из молодых уже не мог. Так, что и единственный псалтирь скоро стал не нужен. Эту книгу просто клали рядом с покойником на столик около зажжённой свечки, вот и всё. А потом и эту книгу куда-то задевали и стали обходиться вовсе без неё.
Помню, раньше ещё на поминках свечку за покойного ставили, а потом к ней прибавился стакан самогона, покрытый куском хлеба. Скажете, не так?– обратился ко мне Иван Петрович.
– Всё так,– подтвердил я, вспоминая поминки с этим же злополучным стаканом самогона.
– Дело дошло до того,– продолжил он,– что забыли каким концом и куда в могилу гроб ставить. И это ни с кем-нибудь происходило, а со мной. Собственного отца привезли на кладбище. В деревне уж ни одного дома, а кладбище стоит. Так отец пожелал, чтобы его на этом кладбище похоронили. Привезли, гроб стоит, а те, кто пришёл проводить в последний путь, спорят: «куда должен покойный головой лежать, на запад или восток». В космос летали, а хоронить разучились. Вот, до какого оскудения дошли.
А как же не дойти. Я в педагогическом институте учился. «Диамат» и «Истмат» изучал. Правда, мы студенты, к ним относились так себе, с прохладцей, особенно в эту догму не верили, а отвечать, как положено, отвечали. Куда денешься. Другого же ничего не было. Как будто стране не тысяча лет, а всё, нет ничего.
Помню, в то время книжка одна появилась, по критике религиозных догм христианства. Преподаватель целый урок этой книге посвятил. Из всего курса нашёлся я один, который возьми и скажи, «как можно критиковать то, чего мы в глаза не видели и ничего не читали». Меня поддержали сокурсники. Сказал я это не потому, что отстаивал идеи православия, а оттого, что мне показалось несправедливым, критиковать то, чего мы не читали и о чём знаем только по разного рода, агиткам.
Шуму моё выступление тогда наделало много. – Рассказчик весело засмеялся. – На комсомольское собрание выносить не стали, видно побоялись огласки, а вот партбюро заседало. Со мной парторг беседовал. А как увидели, что это во мне не от веры идёт, а от чувства справедливости, так и успокоились. Дело свернули.
Они дело свернули, а в моей голове всё это осталось. И очень мне после заседания захотелось Евангелие прочитать. «Что это за книга, думаю, раз такая на неё реакция?»
Пошёл я в библиотеку, но не в ту, куда всегда ходил, а в другую, где меня не знали, поосторожничал, спросил у библиотекарши про Евангелие. В библиотеке как раз народа совсем мало было. Спросил и смотрю на реакцию. Библиотекарша засмущалась, а потом объяснила мне вполголоса, что книга эта в закрытом фонде.
Понял я, что мне не видать этой книги как своих ушей. После решил сходить в церковь и там спросить. Было это под церковный праздник. Прихожу, а там кордон милицейский, бабушек пропускают, а молодёжь нет.
«Вот тебе бабушка и Юрьев день» – думаю, и до времени оставил эту затею с Евангелием. Вскоре институт закончил, диплом получил, женился, дети пошли, как- то не до Евангелия стало. О нём и не вспоминал. Работал в редакции многотиражки. Человек я в литературном плане был способный, но беспартийный. И понимал, что мне выше корреспондента по служебной лестнице не подняться. Орган был, конечно, партийный. Вот я и решил в партию из этих соображений вступить. Происхождение имел рабоче-крестьянское, связей порочащих не было, приняли быстро.
– Стало быть, вы потрудились на ниве партийной пропаганды и агитации? – вставил я.
– Да уж пришлось хлебнуть и этого,– согласился он. «Павел не был бы Павлом, если бы не был Савлом», так ведь говорят. В общем, откровенно партийные статьи я не писал, это был не мой конёк, передовицами у нас занимался сам редактор. Я всё больше очерки писал, фельетоны и что-нибудь по технической части. Правда, были у нас тогда в ходу клише типа «Советский народ, идя навстречу коммунизму, встал на трудовую вахту в честь праздника Великой Октябрьской Социалистической революции…» и так далее. Этими клише, мы строчки нагоняли, чтоб план выполнить. Но серьёзно к этому не относились.
– А что и у вас был план?
– План тогда был у всех,– сказал сосед и, помолчав, продолжил рассказ дальше.
– Я ведь не только статейками в газете в то время занимался. Были у меня в деревне родственники. Я к ним ездил: помогал косить сено или ещё что делать. Я ж деревенский. Видел, как живут, как основная часть мужиков пьёт беспробудно. О вере в Бога и о церкви среди земляков никто не говорил. Можно было уже кордоны перед храмами не ставить, народ туда уже не рвался, даже из любопытства. Время, агитация, школа, запреты сделали своё чёрное дело.
Потом я перешёл в организацию покрупнее, нежели многотиражка, и стал заведовать сельскохозяйственным отделом. Видеть стал пошире и знать побольше. Зарплата, естественно, увеличилась. В семье тоже всё было в порядке. Правда, женился я поздно, в тридцать с лишним лет. Жена попалась скромная, трудолюбивая и мать хорошая. Народилось двое сыновей. Константин и Антон. Сыновья росли умненькими, старательными и очень тихими. Нам соседи говорили, что вы живёте так, как будто у вас и детей нет. Жили мы в то время в пятиэтажке, в «хрущёвке», всё на виду. Если куда надо сходить, там купить, чего, где что выбросили, жена сунет ребят соседке и уйдёт, а они до её возвращения рта не откроют, играют себе тихонечко в уголке. Никогда не дрались, не спорили.
Мотоцикл «ИЖ» мы в то время купили. Я хотел «Урал», да где там, разве достать. Мне товарищ советовал поехать в Азербайджан. Он там был и сказывал, что видел в магазине такие мотоциклы, в ящиках, целую гору, никто не берёт, а у нас в средней полосе России их днём с огнём не сыщешь. Потом, правда, стали легковые машины «Запорожцы» в свободной продаже появляться, только у нас на него денег не было. Но уже думали о нём и подкапливали.
А тут меня на курсы повышения квалификации в Москву послали на четыре месяца. Там я впервые компьютер увидел, негров и монахов. Побывал не просто в храме, а в сердце православной Руси – Загорском монастыре. Помню: осень, погода чудная, листья падают, природа подмосковная будто рукополагает, звон колоколов, монахи в чёрном на звоны крестятся, и я стою балда – балдой. Верите, будто в иностранное государство попал. Почему звонят – не знаю; что за служба – тоже, а уж что поют и тем более.
Хоть и недоумевал я, но на душе как-то радостно стало. Чувствую – сердце забилось, будто воробушек трепехчется, вылететь из рук хочет и слёзы на глазах. Вот как душа на всё это среагировала. Я тогда подумал: – генетика, память поколений. Промокнул слёзы платочком, сел в автобус и уехал. Это я только потом понял, что это была не генетика, а тогда мозги именно так сработали – генетика, мол, виновата. Но, в памяти эта поездка проделала глубокую борозду. Это я потом понял. Не зря, всё что увидел, было: и поездка, и монастырь, и монахи.
И вот что интересно, был я в Москве и в театрах, и на выставках, а когда из командировки вернулся, среди коллег рассказывал в основном о посещении монастыря. На что главный редактор вроде смехом, но с большой долей намёка сказал, «Наш коллега не в монахи ли решил податься? Больно уж с интересом о монастырях рассказывает». Стал я после такой реплики только друзьям, да родственникам о монастыре рассказывать… Со мной вот так, дорогой, было, с другими не знаю, – сказал Иван Петрович с улыбкой и похлопал меня по колену.
2.
За разговором я и не заметил, как наступил рассвет. Розовый свет струится из-за дальней горы. Придорожные откосы набиты талым мартовским снегом, ещё отдают синью, а по чернеющим буграм, почти с ними сливаясь, важно расхаживают заботливые грачи. Но чем севернее мы забираемся по избитой Ельцинским режимом дороге, тем реже встречаются талые плешины чёрной земли. Сюда весна ещё не добралась, а заиндевелые деревья нагоняют зимнюю скуку.
– И что же дальше?– спросил я.
– А дальше грянула Горбачёвская перестройка. Всё закрутилось вокруг, как сухие листья от ветра. Интеллигенция шумела, будто пчёлы в улье по весне.
Мы, как будто, ошалели от этой перестройки. Статьи стали появляться разные, книги. На слуху были фамилии экономистов Попова и Аганбегяна. Церковные священнослужители то же стали мелькать в средствах массовой информации. Их больше для политики использовали, а не для наставления в слове Божьем. Ну, а дальше пошло и поехало.
Особенно активизировались разного рода секты и инославные учения. Философия мне нравилась, и я с упоением читал «Бхавагат Гиту», это одно из индийских вероучений, штудировал книги индийских гуру – тамошних учителей – аскетов. Всё было в новинку, интересно, особенно, что заморское. К этим гуру я сильно пристрастился.
Собеседник покачал головой.
– Помню, всё пытался чакры развить, да энергию кундалини активизировать, чтобы в космос в тонком теле выйти и среди планет солнечной системы постранствовать. А про йогов газеты писать не уставали, вот крыша у меня и поехала.
Бывало, в позе лотоса замру посреди зала, а отец покойный поманит мать пальцем и говорит: «Иди посмотри, что наш дурак делает?»,– покачает головой и уйдёт. А этот – дурак, чёрный квадрат Малевича в голове ищет, чтоб значит ни одной мысли не было. Видно бесам этот квадрат очень нравился: мыслей нет, Бога тоже нет, делай с этим недорослем всё что хочешь.– Иван Петрович улыбнулся.– Бывало в деревню приеду и рассказываю сельчанам про всё, что вычитал. Дед Матвей, уже покойный, слушал, слушал, да и говорит:
«Смотрю я, Петруха, ты там, в городе сильно мозгой повредился. Ну, зачем мне с Филимоновной твоя Будалини? Нам бы картошка с тыквой уродились, чтоб зиму пережить, ить что творится, а ты Будалини, Будалини.
– Куддалини,– поправляю деда.
– А хрен редьки не слаще,– говорит он.– Ты вот меня старого послушай. Да тебе и любой здесь скажет. Брось ты этих всяких магов.
Йогов,– поправляю.
– Не сбивай ты меня с толку. Послушал я тебя – и будя. Свою веру похерили, а чужой не надышишься. Вон по улице Савося- парторг бежит, видишь?– он кивнул на окно.
– Вижу, – говорю.
– Так, он тоже, свою веру насаждал, теперь поутих, ослаб. На его место в душу другие рвутся. А теперь ступай. Рассказываешь ты складно, да ну и ладно. Филимоновна! – кричит, – проводи гостя, а то штанов не будет, одна кундалини останется. Наш кобель в философии не силён, сам знаешь,– а сам в усах улыбку прячет и на здоровенную псину у конуры кивает.
– Больно меня этот разговор тогда по самолюбию резанул. Успокоиться никак не мог. За гуру было обидно, ругал я непросвещённость в глубинке, затюканность и малограмотность.
– И что? Никаких сомнений в вашу душу не закрадывалось в связи с этим вероучением? – спросил я,– вы вот не очень верили в происхождение человека от обезьяны! А тут как?
– Точно, и тут это же было. Никак не мог я принять их учения о реинкорнации, то есть о переселении душ. Ну, помните ещё у Высоцкого–
« …красивую религию придумали индусы.»
– А как же помню, помню, про этот самый баобаб.
– Да-да, про него самого. Так вот не укладывалось у меня в голове, что в дереве и в лопухе может находиться человеческая душа, как в ссылке, на исправлении. Ну, не мог ничего с собой поделать, да и только.
Уехал я тогда из деревни с тяжёлым сердцем. И как тому и быть, на следующий день иду по проспекту, а там, на лотке, очередную книгу очередного гуру продают. Встал я в очередь, стою. Передо мной парень стоит, видно из студентов-старшекурсников. За мной уже хвост образовался. Стою, жду. В это время подходит к парню, что впереди меня, друг и говорит:
«Что, деньги лишние? Решил собственным червонцем поддержать индийский монастырь?»
«Брось ёрничать,– тот в ответ,– на тебя книгу взять?»
«Я, дружище, это уже не читаю, есть вещи куда глубже»,– говорит он, улыбаясь. А улыбка такая, очень добрая, располагающая. И взгляд открытый.
«Где ж ты глубину нашёл?»– спрашивает тот, что в очереди.
«Окунись в христианство, увидишь»,– а сам его тихохонько дёрг за рукав, тот, что передо мной, от прилавка и отошёл. Моя очередь брать, я в раздумье, замешкался, сзади напирают, продавец торопит. В общем, я тоже от прилавка отступил. Сзади интеллигент нервный, шипит:
«Ходят тут, не знают, чего им надо?» – А я думаю: «Что, это я, ядрёна вошь, в то, во что крещён, того не знаю, а за заморским гоняюсь?» Тут я и отца, и деда Матвея вспомнил. Хоть их ум и был сильно повреждён партагитацией, но не настолько, чтобы чужое, поперёд своего ставить, когда ленинское дало дуба.
Пошёл я искать книгу по христианству. Как сейчас помню, зашли мы с товарищем в газетный магазинчик, спросил я православную литературу. Продавщица показывает две книги и спрашивает: «Вам какую?»
– А мне,– говорю, всё равно, дайте вон ту светленькую,– на моё счастье это было произведение Феофана Затворника.
– И что же, с этой минуты вы стали православным?– спросил я Иван Петровича.
– Да нет, не сразу. Хотя проехала эта книга по моим мозгам здорово. Она, можно сказать, мне в другой мир глаза открыла. Она открыла, а враг рода человеческого сразу не допустил. Это, можно сказать, было только начало.
– Что же ещё – то могло быть?– спросил я с запальчивостью.
– А куда ты секты христианские денешь, чародейство? Они, таких как я, первыми у христианских ворот поджидают… Видно, это был Божий промысел, иначе бы меня не шарахало. А доморощенные экстрасенсы, густо замешанные на христианской догматике, куда ты это всё денешь? Нет, видно надо было мне и этого всего хлебнуть, по самое не хочу. Ладно, про это расскажу чуть попозже. Сейчас остановка будет, немного разомнёмся. Туалет там и всё такое.
И верно, не прошло и двух- трёх минут, как автобус, свернув с дороги, переваливаясь с боку на бок на неровностях, остановился у одноэтажной постройки, около которой усатый дородный грузин жарил шашлык, ловко поворачивая над огнём шампуры с дымящимся мясом. Рядом были свалены дрова, в сторонке под старым Мазом лежал на фуфайке шофёр… кто-то громко говорил, по другую сторону автобуса, по сотовому телефону.
Место, по правде сказать, было унылое. Сонные автомобили, как запоздавшие с ночлегом ночные птицы, торопливо пролетали по шоссе, шарахаясь от осевой к обочине при встречном автомобиле. Сидящие высоко на деревьях грачи, раскачивались на тонких ветках и то и дело перелетали с дерево на дерево.
«Глупые птицы,– думал я,– зачем вы здесь сидите,– ведь сто километров южнее уже весна и ваши собратья там уже важно ковыряются носами в земле». Но грачам было не до моих размышлений. Их не мучили философские вопросы и религиозные тоже. Инстинкт им указывал верную дорогу, состоящую из нескольких тысяч километров пути, и они не могли сбиться и свернуть в сторону. Но, это птицы, у них всё иначе.
3.
Остановка была недолгой. Вдохнувшие свежего воздуха пассажиры лениво рассаживались по местам. Занял своё место и Иван Петрович.
– Вот и хорошо,– сказал он,– размяли косточки. Теперь можно и дальше. –
– Так вы хотели ещё что-то рассказать?– заметил я.
– Нет, нет, я помню, помню,– встрепенулся Иван Петрович, довольный тем, что его рассказ произвёл впечатление.– Тогда слушайте, если интересно. Так на чём я остановился? Ах, да, вспомнил. Стал я, значит, о христианстве книги читать. И такие у меня горизонты открылись. Прочитал Феофана Затворника, купил летопись Дивеевского монастыря, затем и пошло. Вообще в церковь ходить стал, молитвы некоторые выучил. И до того мне в церкви хорошо было, хоть бы из неё и не уходил. Чувства такие же наплыли, как и в подмосковной лавре. Стою в церкви, бывало, а слёзы сами собой текут, а почему текут, не знаю. Хорошо, вот и всё. Душа Родину духовную что-ли чувствовала?
Я, в то время как шальной ходил. С кем не заговорю, всё на православную тему сворачиваю. Такого раньше со мной никогда не было.
– А как же гуру?– спросил я.
– Когда я восточными философиями занимался, тогда только голова от мыслей переполнялась, а теперь и душа была готова из груди выскочить. Помню, приедем в деревню к родным картошку копать, поставят меня родственники с лопатой меж себя, я и рассказываю, рассказываю. Потом я им стал, с этим делом, надоедать и они стали откровенно надо мной посмеиваться. А я хоть и чувствовал, что посмеиваются, а удержаться не могу, так меня и несёт. В таком состоянии я пробыл года три – четыре. И вот, что интересно, читал много, а Евангелия не прочитал, у меня его и не было даже.
Одной мне церковной литературы мало было, стал я прикупать и другую литературу, вроде бы тоже христианскую, как мне тогда по моей малоопытности казалось. Вы, я вижу, уже догадались, что это была за литература? – Я кивнул.
– Вот, вот её самую. Где увижу на обложке икону, то мне и гоже. А тут стали на меня сваливаться всякие несчастья. Как на грех появился откуда-то Алан Чумак, как бес из преисподней выскочил и давай с экрана телевизора руками махать, да губами шевелить. В общем домахался, а мы досмотрелись.
– Что так?
– Старший сын у меня должен был в первый класс идти, а после сеанса с Чумаком, говорить перестал. Заикание такое, что слова сказать не может, зато у бабушки шишка с ноги сошла. Я то – дурень, и не подумал на Чумака, решил, что кто-то испугал его на улице. Кинулся к ребятишкам, с которыми он около дома играл. Те: -«Знать ничего не знаем. Не было, мол, у нас ничего такого, что бы могло Костю вашего испугать». Мы к врачам – те руками разводят. Мы к бабкам – те мзду берут, а сделать ничего не могут. Сильно мы все испугались.
Немного погодя к нам в город один экстрасенс приехал – я к нему, так, мол, и так, вечером Чумака посмотрел, а утром не говорит. Вот тогда до нас только дошло, от чего он речь потерял.
Экстрасенс и говорит, «Зря вы его перед телевизром посадили, я Алана знаю и говорил ему, что такие передачи ни к чему хорошему не приведут, он не слушает. Только я вам вряд ли чем помогу, тороплюсь.» Я чуть ли не в ноги падаю – помогите, я его быстро вам на такси доставлю.– Тут он, видно глядя на моё состояние, согласился и говорит, что не надо никакого такси, а вспомните только голову сына, мне и этого достаточно.
Да какой же отец сына не вспомнит, когда он со мной вырос.
– Вспомнил,– говорю,– А он в ответ
– Я знаю, что вспомнили, больше от вас ничего и не требуется и стал какие – то пассы руками делать, вспотел весь, а потом мне и говорит: –Подлечил я вашего сына, а вот полностью с него снять, что через телевизор получил, не могу,
Алан сильнее меня. – Поблагодарил я его на словах, денег он не взял, а я домой ходу. Подхожу к дому, а навстречу мне отец, слёзы на глазах поблёскивают. «Заговорил, – говорит,– внучек, час назад заговорил, только чуть-чуть осталось заикание».

