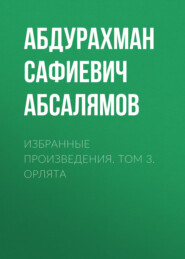
Полная версия:
Избранные произведения. Том 3
В заключение выступил Пётр Ильич. Выйдя из-за стола президиума, он обвёл сосредоточенным взглядом притихшее собрание и, чуть склонив голову вправо, начал негромко и медленно, как на уроке:
– В сущности, мне осталось сказать немного. Мне кажется, Урманов уже достаточно глубоко прочувствовал свою вину…
Он заговорил, увлёкшись, об облике советского молодого человека, о воспитании молодёжи в духе коммунизма, о корнях ошибок Урманова. Комсомольцы слушали своего учителя с особым доверием к каждому его слову.
– Для Урманова это собрание будет незабываемым уроком. Оно поможет ему отбросить шелуху ложного самолюбия, зазнайства, мелочных обид. Через несколько месяцев Урманов выйдет из школы. Перед ним широкая дорога в жизнь. Мы хотим, чтобы он простился с нашим коллективом чистым душой, а вступив в самостоятельную жизнь, оказался в ряду лучших советских людей. Не так ли, товарищи?
После собрания Галим и Хафиз шли по опустевшему Кабану. Холодные звёзды, мигая, казалось, уносились всё дальше в глубину тёмного неба.
Разгорячённый Галим шёл без шапки.
– Простудишься, – уже в третий раз повторил Хафиз.
– Нет… мне жарко, – отмахнулся Галим. – Знаешь, я бы вот так шагал и шагал – за Кабан, за Поповку, за Волгу, далеко-далеко. И не устал бы. Ни за что. Кажется, у меня с плеч тысячу пудов сняли…
Хафиз взял из рук Галима шапку и насильно надел ему на голову.
В одном месте лёд уже треснул, проступила вода. Юноши обошли полынью.
– Я ни на кого не обижаюсь, Хафиз. Все вы были правы… – продолжал Галим, устремив вдаль взволнованный взгляд.
– Пойдём побыстрее, Галим, уже поздно.
Но Галим не торопился – невесело рассказывать родителям о выговоре.
– Я ещё похожу, Хафиз, а ты иди.
Но Хафиз не мог оставить друга одного. Они долго ещё кружили по Кабану, пока окончательно не продрогли, и только тогда разошлись по домам.
9
На другой день Мунира через Лялю передала записку Галиму, прося его помочь ей по математике.
В тот же вечер, не дожидаясь ужина, он помчался к Мунире.
В отсветах электрических огней голубел на озере снег. Северный ветер с присвистом гнал по Кабану позёмку, и Галим поднял воротник. Но это, пожалуй, последние морозы. «Во второй половине марта уже воробьи купаются»[10], – сказала сегодня ему мать.
Ещё издали он увидел свет в окне Муниры. Дома, занимается.
Во дворе его обогнал какой-то долговязый человек и, остановившись у крыльца Ильдарских, дёрнул звонок. Галим, узнав Кашифа, задержался в тени сараев. Через минуту дверь открылась, и Кашиф прошёл наверх.
Галим выскочил на улицу. В окне за тонкой занавеской он увидел силуэт Муниры, она держала книгу в руке. Потом силуэт пропал: наверно, пошла встречать Кашифа…
«Пусть тогда с этим жирафом и решает задачки…» – зло скривил губы Галим.
– Можно?
Мунира, ожидавшая Галима, удивлённо посмотрела на Кашифа.
– Ах, это ты, Кашиф?.. – протянула она разочарованно и досадливо прикусила губу.
Кашиф расфрантился, от него сильно пахло духами, из нагрудного кармана торчал шёлковый платок.
– Присаживайся, – нехотя предложила Мунира.
– Сегодня у тебя настроение, кажется, получше. Выздоравливаешь?
– Да… А ты, кажется, с работы пораньше сегодня ушёл?
– Работа не медведь, в лес не убежит. Надо же и для себя пожить когда-нибудь!
– Что-о? – протянула Мунира.
В её голосе было что-то такое, отчего Кашиф не посмел повторить своих слов и рассмеялся, стараясь обратить всё в шутку. Чтобы скрыть своё смущение, он, положив ногу на ногу, принялся медленно раскуривать папиросу. Потом с подчёркнуто независимым видом глубоко затянулся раз-другой и, выпустив длинную струю дыма, произнёс тоном многоопытного человека:
– Девушки, как апрельский день: то солнышко, то дождь. – И, довольный собственной находчивостью, самоуверенно посмотрел на Муниру.
– И когда только ты станешь серьёзным человеком, Кашиф! – сердито сказала Мунира.
Он попытался отшутиться, а потом перешёл на наставительный тон:
– Да в тебе всё ещё дурная романтика говорит. Ты готова поднимать на высоту всяких сумасбродов, прыгающих очертя голову в пропасть, и совсем не ценишь людей умных, рассудительных…
Но заметив, как гневно задрожали у девушки ноздри, умолк.
– Да, мне больше по душе смелые ребята, чем холодные, расчётливые эгоисты, – отрезала Мунира.
Кашиф вскочил.
– Да, да, – и Мунира с нескрываемой неприязнью посмотрела на него. – Ко мне сейчас должны прийти товарищи заниматься. Ты нам будешь только мешать.
И Кашифу ничего не оставалось, как попрощаться.
…Галим долго бродил по безлюдным улицам, не в силах разделаться с чувством обиды: ведь дрянной человек, а ходит к Мунире как в свой дом. Галим не мог терпеть Кашифа Шамгунова ещё с детских лет. Как-то Кашиф со своим отцом, земляком и сослуживцем отца Галима – Султаном-абзы, пришёл в гости к Урмановым. Пока взрослые пили чай и разговаривали, мальчики вышли во двор. Галим хотел показать своих голубей. Он проворно взобрался по лестнице на крышу сарая.
– Залезай, – позвал он Кашифа, но тот подошёл к соседской девочке, которая подкидывала в сторонке ярко раскрашенный мячик.
– Давай вдвоём играть, – предложил Кашиф.
Девочка согласилась. Среди игры девочку позвала мать, и она убежала, забыв о мячике. Кашиф быстро нагнулся, будто за камнем, которым он потом запустил в ворота, и положил мяч в карман. Это заметил Галим, неотрывно следивший с крыши за «долговязым», ожидая, когда же тот заинтересуется его голубями.
Кашиф, посвистывая, запрыгал к воротам. Вскоре вернулась девочка и, не найдя мяча, принялась плакать. Прибежал Кашиф и как ни в чём не бывало спросил, чего она хнычет. Девочка сказала.
– Сейчас собака пробежала, – не моргнув, соврал Кашиф. – Наверно, она и утащила мяч.
– Это наш Акбай, он у нас всё таскает. И цыплят у бабушки потаскал. Пойдём поищем его.
Кашиф взял девочку за руку и побежал с ней в другой конец двора.
Галим кубарем слетел с крыши и, подступив к Кашифу, потребовал:
– Отдай сейчас же мяч Сании. Он у тебя в кармане.
– Не ври! – оттолкнул Кашиф Галима, благо был почти вдвое выше его.
Галим разбежался, чтобы ударить его головой в живот, но вышла мать, и всё сорвалось. Она защитила гостя, а Галиму пригрозила ремнём.
Одиноко шагая по притихшему городу, он вспомнил этот давний случай с прежним чувством горячего возмущения. «Украл чужое да ещё прикинулся добреньким…»
Давно уже Кашиф окончил среднюю школу, потом какие-то курсы и теперь работал счетоводом. Пути их разошлись. Но всякий раз, когда им приходилось встречаться, перед глазами Галима возникала заплаканная девочка и её яркий, разноцветный мячик.
Одному оставаться со своими невесёлыми мыслями Галиму было в тягость. Домой идти тоже не хотелось, – начнутся расспросы, почему опять в дурном настроении. «Пожалуй, проведаю Ильяса Акбулатова, совсем я отбился от него, заодно и задачи порешаем». И Галим, предвкушая приятную встречу, быстрее зашагал вперёд. От души сразу отлегло, и обида на Муниру показалась мелкой, ненужной, как не нужна свеча при солнечном свете.
Галим застал Ильяса на кухне за домашними хлопотами. Засучив рукава белой, перекрещённой помочами рубахи, Акбулатов готовил себе какую-то еду. Встретил он Галима радушно. Пропуская товарища впереди себя в комнату, Ильяс заговорил о том, что его так занимало последнее время:
– Правильно народ говорит, я на опыте убедился, что если по-настоящему захотеть, то из вытекшего глаза слёзы польются. Знаешь, одолел-таки две задачки, – он простодушно улыбнулся, – а вот третью мои резцы что-то не берут. Видимо, сталь высшей марки.
– Ничего, попробуем вдвоём, – подбодрил его Галим.
– Минуточку, – сказал Ильяс и, взяв самовар, быстро направился на кухню.
– Если из-за меня, не возись, пожалуйста. Я не буду ни пить, ни есть, – сказал Галим.
Ильяс, любивший посидеть за самоваром, скороговоркой обронил:
– Чай – согревающий напиток, он проясняет мозги, дружок, – и скрылся за дверью.
Всё в Ильясе привлекало Галима – мужественная осанка, открытое волевое лицо, ненасытная любознательность, светящаяся в живых голубых глазах. Галим давно слышал от отца об этом выдающемся самородке завода «Серп и молот». Познакомились они всего около года назад в доме Урмановых. С первой встречи Галима поразила одна черта в характере Ильяса. Хотя Ильяс был значительно старше Галима – уже отслужил положенное время в пограничных войсках и теперь работал слесарем седьмого разряда в механическом цехе под началом Рахима-абзы, – он запросто поделился с ним, ещё школьником: «Не пришлось кончить в своё время университета. – И весело добавил: – Туго даются мне математика и черчение».
Галим вызвался помочь Акбулатову. Так началась их дружба.
Пока Ильяс готовил чай, Галим окинул беглым взглядом знакомую холостяцкую комнату с кувыркающимися медвежатами на стенном ковре, с медвежатами разных калибров из гипса и кости на этажерке, на подоконниках, на полочках. Медвежата были и на висевшей над столом репродукции шишкинского леса. Сразу было видно, что хозяин комнаты питает особое пристрастие к медведям.
Симпатия Ильяса к этим зверям шла от далёких предков. Они были медвежатниками, водили по всей России учёных медведей, пока не вышел царский указ уничтожить ручных медведей, после того как один из них насмерть перепугал какого-то слабонервного барина.
Ильяс рассказывал, как его прапрадед скрывался тогда со своими зверями по глухим лесным дорогам, но и там его настиг безжалостный указ. И медвежатник вынужден был прикончить своих медведей. Звери точно почуяли, для чего хозяин привёл их в овраг и почему с горестными слезами обнимает за шею. Отец Ильяса говорил ему, что сам слышал от деда, а тот – от своего деда: в умных медвежьих глазах тоже стояли слёзы.
В местах, где медвежатник навсегда простился со своими учёными медведями, где-то под Рузаевкой, и родился Ильяс Акбулатов.
Галим заметил на столе два новых фото. Ильяс стоит на ветру, волосы у него растрёпаны, он машет фуражкой, не то прощаясь, не то встречая кого-то. С другой карточки доверчиво улыбается Надя, подруга Муниры, сестра Николая Егорова, Ильясова дружка.
Не успел настояться чай, как отыскалось решение так долго не дававшейся задачи, порадовавшее Ильяса строгой простотой – удивительно, как сам не додумался! – математической логики.
У него загорелись глаза.
– До чего же красиво получилось! – восхищался Ильяс, точно Галим помог ему сделать небывалое открытие. – А я-то накрутил! Как дед Лукман в буранную ночь: деревня рядом, а он плутает невесть где. Ну, спасибо, друг! – порывисто потряс он Галиму руку.
После чаепития в руках Ильяса появилась саратовская, с колокольцами, гармоника. Играл он легко. Ловко перебирая басы, подпевал:
Яблоко алое созрело,Падая, голубя подбило.Не найти мне по сердцу милой,А голова уже поседела…Эх, под гору всё склон да склон!..[11]Как всё, что делал Ильяс, он и смешные свои прибаутки пел и играл с увлечением – от души, а не только гостеприимства ради, припадая при этом правым ухом к гармонике, словно различая в ней внутри ещё какие-то, ему лишь слышные звуки.
Вот он прошёлся ещё раз-другой по ладам, и светлые глаза его заметно стали серьёзными.
– Я как размечтаюсь, Галим, – заговорил он, слегка растягивая слова, – так встаёт передо мной бескрайнее поле колосьев, а посреди будто плывёт этакая громадина – комбайн-самоход: сам он идёт, сам убирает. В любую погоду. И до чего же хочется изобрести такую машину! Настоящий степной корабль полей коммунизма будет. Беда моя – знаний маловато… Голова работает, а науки не хватает…
У меня есть один приятель – лётчик. Однажды он мне говорит: мы, дескать, крылатые люди, у нас, мол, горизонт широкий. «У нас – всё ново. А у вас – земля. Вам с дедовских времён всё известно». – «Заврался ты, говорю, дружок. Залетел высоко, а от жизни отстал. Если бы ты знал, какие умные агрегаты делаем мы, строители сельскохозяйственных машин!.. И если уж говорить о широких горизонтах, то надо вспомнить о колхозных полях. Вот где раздолье! Есть где развернуться мечте…»
Ильяс прищурился, протянул мускулистую руку, плавно покачал ею, словно показывая, как там, на неохватных колхозных полях, колышется золотая ветвистая пшеница.
– Коммунизм, брат, как я думаю, это самый высокий урожай, какой вообще способна дать земля.
– Здорово сказано! – вырвалось у Галима.
– А ты, случаем, не собираешься стать агрономом? – вдруг спросил Ильяс, но по неловкому молчанию Галима понял, что такого стремления у юноши нет. – Не хочешь? Жаль, друг… А то бы вместе работали.
Долго ещё Ильяс не сходил со своего конька. Показывал черновые эскизы основных деталей своего будущего комбайна. Рассказывал, что над конструкцией самоходного комбайна уже работают многие инженеры и учёные Советского Союза. Да и заводские инженеры кое-что делают. Учёные люди, конечно, сделают быстрее и лучше. Но он, Ильяс Акбулатов, и его друг Николай Егоров не собираются жить на готовеньком, не такой у них характер, и вот решили на досуге пошевелить мозгами. Из капель собирается озеро. Пусть работа Ильяса и Николая будет каплей, которая потом вольётся в большое озеро.
Галим удивлялся про себя богатству интересов этого слесаря, широте его мыслей и чувств и не мог не противопоставить им недавний взрыв своего мелкого честолюбия. Под конец он немного устал, но продолжал слушать Ильяса с чувством душевного прояснения.
Нелегко в восемнадцать лет сознаваться в ошибках человеку старше тебя и к тому же поглощённому большими, серьёзными мыслями. Да и не хотелось Галиму рассказывать о своём неприглядном поступке.
А Ильяс даже и не подозревал, как вовремя помог он Галиму навести порядок в душе. Галим возвращался домой с таким чувством, будто насквозь пропитался свежим весенним воздухом.
Было далеко за полночь. Старики уже давно спали. Вокруг установилась тишина, лишь за окном неумолчно звенели провода. А погружённый в свои мысли Галим всё ещё бодрствовал в своей комнатке на берегу Кабана.
«Передо мной открывается бесчисленное множество дорог, – думал он, – а мне дана всего лишь одна жизнь. Мне хочется быть архитектором и строить такие дома, где было бы человеку светло, солнечно и радостно.
Я хотел бы, подобно смелым седовцам, раскрывать тайны Ледовитого океана, использовать энергию приливов и подземных сил, менять течение Гольфстрима, обуздывать штормы и вечные льды. Да, я всё хочу познать и уметь. Но я также вижу, как сгущаются тучи над нашей родиной. День и ночь фашисты – эти палачи человечества – куют оружие против нас. А в Советском Союзе разве найдётся человек, который хотел бы войны? На что война Ильясу Акбулатову, если он мечтает о небывалом урожае, о самоходном комбайне?! Или моему отцу, который живёт одной мыслью: как бы побольше дать первоклассных машин на колхозные поля? Нет, нам, советским людям, нужен только мир!
Интересно, о чём думает такой же юноша где-нибудь в Англии, Франции, Германии или Америке? Какие у него мысли?»
Когда Галим наконец заснул, он увидел себя у бушующего океана. Он хочет через океан подать руку юноше из далёких стран, позвать его строить новую жизнь, но какие-то драконы встали между ними и не дают им сомкнуть руки. Где-то на самом горизонте из-за чёрно-свинцовых туч виден краешек восходящего солнца, и Галим знает, что скоро оно одолеет драконов тьмы и озарит весь мир…
10
Каждый день в городе появлялись новые сообщения! «На Волге лёд тронулся», «На Волге ледоход», «На Волге полный ледоход».
По ночам держались холода, но в полдень земля исходила паром. По пригретым холмам брызнуло первыми подснежниками. Мутная талая вода ринулась в овражки. Разгалдевшись, как галки на закате, детвора приспособила под самодельные плотики всё, что было можно, даже сорванные с петель калитки пошли в ход, – только бы нестись вольным корабликам по весело голубеющему разливу.
В воскресенье девушки потащили Хафиза, Наиля и Галима на Волгу. Выйдя из берегов, воды властно захватывали пространство. Лишь кое-где подымались незатопленные островки с голыми кустами тальника, а в вышине кружились отощавшие грачи.
Молодые люди с непокрытыми головами стояли на высоком пригорке. Мягкий ветер шевелил пряди волос, словно пёрышком касался щёк.
Могучая, стремительная, всегда молодая наша Волга! Нескончаемо проносились, сшибались с гулким треском зелёно-голубые от солнца льдины, величиной с хороший деревенский дом.
На дальнем крутом юру, в дымке весеннего света, синел сосновый бор.
– Какой простор, как хорошо! – первым нарушил Наиль то состояние счастливого безмолвия, в котором, не стесняясь друг друга, замерли эти юноши и девушки, охваченные чувством внутренней связанности со всей молодеющей землёй.
– Так бы жизнь прожить… в неудержимом движении, смывая любые препятствия, – вырвалось у Хафиза, не отрывавшего глаз от обширного, точно море, половодья.
Галим и Мунира держались так, чтобы никто не подумал, что в эти минуты величественного ледохода они заняты друг другом. И чем усерднее старались они скрыть это не только от других, но и от самих себя, тем яснее было остальным, что Галим и Мунира тяготятся своей ссорой и что не стоит мешать им помириться.
Получилось как бы само собой, что Наиль с Хаджар и Хафиз с Лялей тихо разошлись в разные стороны.
Галим с Мунирой и не заметили, как остались вдвоём. После всех размолвок, что произошли между ними, они впервые оказались лицом к лицу. У каждого сердца своя боль. Мунира не могла забыть его оскорбительной самонадеянности, Галиму трудно было простить ей Кашифа.
Хотя чувство звало к примирению, но юношески настороженное самолюбие мешало сделать первый шаг.
Мунира, заметив на несущейся льдине прилаженное каким-то шутником огородное чучело в чёрной шляпе, невольно рассмеялась.
У Галима вдруг вспыхнули скулы.
– Это двойник того самого «салам-турхана», что с некоторого времени зачастил в ваш дом.
Улыбка мгновенно исчезла с лица Муниры.
– А ты что же, следишь за Кашифом? – спросила она.
Галим видел, как задрожали у неё уголки губ и крылья тонкого прямого носа, но он шёл напрямик:
– Нет, конечно. Просто я видел, что он опередил меня в тот вечер, когда ты попросила меня помочь по математике. Ты стояла у окна с книжкой в руках и потом пошла ему навстречу…
Огонёк недовольства в карих глазах Муниры смягчился.
– Значит, ты всё-таки приходил тогда?
И Мунира кончиками пальцев едва коснулась его руки, но Галиму мгновенно передалась искренность этого движения.
– Приходил, – сказал он, потупив глаза.
– Почему же не зашёл? А я ждала, ждала тебя.
– Так ведь к тебе Кашиф…
– А что Кашиф? Я его не звала и не сочла бы невежливым сказать, что он мешает нам работать.
В словах и в голосе Муниры прозвучала такая милая естественность, что обиды у Галима как не бывало. Легко и весело полились слова, захотелось движения, и он предложил Мунире вернуться трамваем в город, – там они покатаются на лодке по Кабану.
Трамвай мчался по пригороду Казани со смешным названием Бишбалта, что означает «пять топоров», потом по дамбе, которая соединяет слободу с городом. По обе стороны дамбы плескалась чистая волжская вода, проникшая сюда из реки Казанки.
Сойдя с трамвая, Галим и Мунира пошли вдоль Булака, широкого канала, прорытого ещё в петровские времена, и наконец добрались до берега озера Кабан, где на цепи качалась лодка. Галим засвистел. Мгновенно откуда-то – Мунире показалось, из подворотни – вынырнул мальчик с бритой головой.
– Мухтар, вынеси скоренько вёсла, – сказал ему Галим.
Мальчик исчез. Не прошло и минуты, как он появился с двумя самодельными вёслами на плечах.
– Смотри греби осторожно, я сегодня что-то боюсь воды, – сказала Мунира.
Галим обнадёживающе улыбнулся.
Мухтар оттолкнул лодку от берега. Галим сильными взмахами погнал её на середину озера, полного в эту пору вешней воды из Казанки и Булака.
Мунира не бралась за руль. Она опустила руку за борт, полощась пальцами в воде, как это любят делать дети. Огромное озеро меняло на глазах свою окраску – убывали голубовато-розовые тона заката, на них плотно ложился холодный графит, а другая половина Кабана уже отливала тусклым свинцом.
Подгоняемые весенним ветром, неторопливо плыли облака.
Галим повернул лодку, и перед Мунирой раскинулась верхняя часть Казани. Она как бы состояла из двух ярусов. Первый ярус начинался от самого берега озера, а второй – за улицами Свердлова и Баумана и поднимался по склону всё выше и выше. Новый, ещё в лесах, финансово-экономический институт на горном выступе как будто висел над городом. Левее виднелись окна верхних этажей университета, в двери которого когда-то юным студентом входил великий Ленин. Ещё левее, над крышами многочисленных домов, высились древние башни Кремля.
С детства знакомый пейзаж родного города! Но в этот тихий и прозрачный весенний вечер Казань была похожа на далёкий южный город, мирно покоящийся у синего моря.
– Я заметила, что, когда живёшь в городе изо дня в день, – негромко заговорила Мунира, – перестаёшь замечать его красоту. Мне иногда кажется, что красивые города где-то далеко, на солнечном юге, там, где я не бывала. Неужели, Галим, со стороны можно сильнее почувствовать красоту Казани?
– Я этого не думаю. Мне кажется… воспринять красоту… – Галим на секунду запнулся, – словом, дело не в том, откуда смотреть, а в том, чтобы у человека была любовь к красоте.
– Да, да, говоря философски, – слегка передразнила его лекторский тон Мунира и неудержимо рассмеялась.
– Напрасно ты иронизируешь… – начал было он.
– Ну не сердись…
– Больше не спорю, не спорю, Мунира.
У Ботанического сада лодка поплыла под узкими устоями моста.
– Как бы не перевернуться, – опасливо посмотрела на быстрину Мунира.
А Галим будто нарочно всё сильнее налегал на вёсла. Но и это не дало исхода бурлящей в нём радости. Тогда он запел, подражая модному тенору:
Я тонула в быстрой речке —Руку протянул дружок…Ты живёшь в моём сердечке,Точно в цветнике цветок…Возвращались уже в темноте. Откуда-то с берега доносились звуки гармоники. На Кабане мерцала лунная дорожка, Галим держал по ней лодку.
Мунира любила первые июньские дни. Выедешь за город – от утренней и до вечерней зари всё поёт и ликует. Во ржи судачат перепела, где-то застенчиво щебечут воробьи. Вдоль Казанки луга пестреют душистыми фиалками, одуванчиками в пуху, болотными травами. Пчёлы одна перед другой торопятся собрать мёд с цветов. Уже показались в берёзовой роще белоснежные цветы земляники. Заливаются, свищут, щёлкают соловьи. Из Ботанического сада доносится отрывистое кукованье, сердито скрипят коростели в болотах Адмиралтейской слободы.
11
Но в этом году Мунира и не заметила начала июня. С утра – школа. После уроков, не задерживаясь, она спешила домой, убирала квартиру, готовила обед и снова садилась за книги. Предстояла серьёзная проверка знаний за всю десятилетку.
И только поздно вечером, когда мать возвращалась из райкома, они за чашкой чая делились своими новостями, которых у Суфии-ханум было, конечно, гораздо больше, чем у дочери.
«Позавидуешь, сколько людей знает и видит мама. Наверное, самая трудная и вместе с тем самая увлекательная наука в мире – это наука о людях. В каждом человеке есть что-то неповторимое, особое, только ему присущее. Хорошо бы быть партийным работником», – думала Мунира, жадно расспрашивая Суфию-ханум.
Недавно в газете она читала об отце Галима, сменном мастере Рахиме-абзы Урманове.
– Не пойму, мама: что же он сделал такого замечательного?
– Видишь, партия всегда помогает людям, которые смотрят вперёд и болеют за общее дело. Я была в цехе Рахима-абзы; у него чистота и порядок – душа радуется. Этот старый мастер не побоялся даже испортить отношения с начальством и первым поднял на заводе вопрос о том, что мастера надо освободить от беготни по любому поводу. Каков мастер, таков и цех, говорят рабочие.
И это правильно. Мастер следит за дисциплиной, за техническим процессом… Понимаешь?
А Муниру интересовало уже другое:
– Мама, а как те заводские мечтатели, которые хотят изобрести самоходный комбайн?
– А, – отозвалась Суфия-ханум, – Николай Егоров и Ильяс Акбулатов? Настойчивые ребята, работают и, я думаю, добьются успеха.
– Знаешь, мама, Николай – старший брат Нади Егоровой из двадцать второй школы.
– Тоже мечтательница? – улыбаясь одними губами, спросила Суфия-ханум.
– Наверно, раз она больше других дружит с Лялей Халидовой. Она собирается поступить в институт физической культуры, – сказала Мунира.
В субботу Суфия-ханум совершенно неожиданно пришла домой гораздо раньше обычного. Обнимая дочь, она возбуждённо воскликнула:

