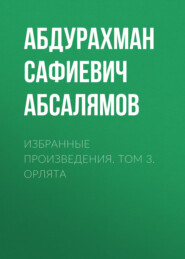скачать книгу бесплатно
Шаховский вызвал главстаршину Верещагина и краснофлотца Урманова и приказал им освободить винты. Хотя эта работа не представляла особой сложности, но на море было неспокойно, и капитан-лейтенант строго предупредил, чтобы они соблюдали осторожность.
Когда они поднялись наверх, прокатившийся вал обдал Галима с головы до ног и заставил его на мгновение в нерешительности остановиться. «Что же это я?!» – ужаснулся вдруг Галим и бросился вслед за Верещагиным. Добравшись до кормового среза, они начали освобождать остановленные винты.
Верещагин резал сети ножницами, а иногда просто разрывал их руками. Рядом с ним, сжав зубы, работал Урманов.
– Держись, – подбадривал его Верещагин во время коротких передышек.
Усталые и мокрые до нитки, они высвободили наконец винты.
Когда они вернулись, Шаховский крепко пожал им руки:
– Спасибо, товарищи! Ступайте отдохните.
Галима поздравляли с боевым крещением, хвалили за выдержку. Но Галим, смущённо поводя плечами и пряча от товарищей глаза, сурово думал про себя: никто не знает, что он, пусть на секунду, но всё же остановился в нерешительности.
– Я давно собираюсь спросить тебя, Урманов, – обратился однажды к Галиму Верещагин, – почему ты не в партии?
Так бывает с человеком часто. Втайне он мечтает о большом своём дне, который бы определил всю его дальнейшую жизнь, но про себя полагает, что этот день ещё далёк, придёт не скоро, что перед этим будут какие-то очень важные события. И вдруг – впрочем, это только так кажется, что вдруг, – твой товарищ очень просто, без предварительной подготовки, начинает разговор об этой твоей самой дорогой затаённой мечте. И счастлив ты, если сердцем поймёшь глубину этой минуты и взволнуешься всей душой.
Галим начал было что-то говорить и запнулся.
– Я давно слежу за тобой, – продолжал Верещагин. – Парень ты настоящий, дисциплинированный…
Не то сказал главстаршина! Как раз этих-то слов больше всего и боялся сейчас Галим.
– Рановато так говорить обо мне.
– В такие трудные времена нам нужно быть ближе к партии. В ней вся наша надежда.
– Знаю… Только, думается мне, я недостаточно проявил себя.
– Как это не проявил? – нахмурил брови Верещагин. – А благодарность командира в приказе? Ты не шути такими вещами. Большое дело – заслужить благодарность от командира боевого корабля.
– Я же… за вами. Да и то…
– Для первого раза и это неплохо. Неужели ты думаешь, вступать в партию надо лишь тогда, когда станешь героем? Ошибаешься. Дело в том, чтобы своё личное дело видеть в большом деле партии и чтобы ты был готов драться за него до последнего дыхания.
На душе у Галима потеплело. Это-то он давно чувствует в себе.
– Думаете, примут меня, товарищ главстаршина? – с надеждой и страхом спросил он.
– А почему нет? Одну рекомендацию я сам дам. Вторую может дать Шалденко. Третью возьмёшь от комсомольской организации. Пиши заявление.
– Хорошо. Только не так, вдруг. Это же не рапорт об увольнительной в город.
– Согласен… Обдумай, браток, обдумай, ты делаешь очень важный шаг в своей жизни. Не буду тебе мешать.
Галим лежал молча, с закрытыми глазами. Он вспомнил себя пионером. За седоволосым старым большевиком он повторял слова торжественного обещания при свете факелов в казанском парке. Он видел себя с поникшей головой на комсомольском собрании. Он снова слышал последние напутственные слова отца-коммуниста. И понял всем существом, что, если отнять у него высокую цель – быть борцом за коммунизм, тогда ему нечем и не для чего будет жить. Но есть ли в нём те глубокие качества, из которых складывается коммунист? На собрании будут интересоваться его боевой характеристикой. Что же он скажет? Будет давать обещания? Кому нужны его пока что не исполненные обещания?
Верещагин всё молчал, положив голову на согнутую в локте руку. Ему очень хотелось заговорить с Галимом, но он не решался прервать размышления товарища.
– Андрей, не спишь? – спросил вдруг Урманов, в первый раз обращаясь к Верещагину на «ты».
– Нет.
– Поможешь написать заявление?
– А ты всё продумал?
– Сейчас всего не передумать, Андрей. Но я понял, что моя жизнь безоговорочно принадлежит партии. Иного пути у меня нет и не будет.
– Вот это верно. Так и напиши.
Многие знают, сколько труда может доставить это небольшое заявление, какого душевного напряжения стоит найти нужные слова о том, что является решающим событием в жизни.
Галим передал заявление Верещагину и с затаённым волнением ожидал дня партийного собрания.
Теперь лодка часто погружалась, но жизнь в ней текла своим чередом. Акустики беспрерывно слушали море. Мотористы, электрики – каждый исполнял свои обязанности.
Однажды Ломидзе, рослый красивый грузин с вьющимся мелкими кольцами иссиня-чёрным чубом, невзначай спросил:
– Урманов, скажи, пожалуйста, у тебя есть любимая девушка?
Галим смутился.
– Ага, значит, есть, – категорически решил Ломидзе, обнажив в лукавой усмешке два ряда безупречных зубов. – Покажи карточку!..
– Да нет…
– Показывай, не крути.
– Я же говорю: нет.
– Вот чёртова душа! – Ломидзе блеснул глазами. – Почему обманываешь? Покажи.
Галим нехотя достал из кармана карточку Муниры, Ломидзе взял её осторожно, точно боясь помять, и, положив на ладонь, долго смотрел на неё. Потом прочёл надпись: «Лучшему школьному другу, хорошему товарищу Галиму. Будь отважным и смелым моряком. Только смелым покоряются моря…»
– Ух, чёрт возьми, как к месту сказано! – Ломидзе прищёлкнул языком. – Она, случайно, не артистка?
– Нет… на врача учится.
– Вот как? Значит, будет резать нашего брата?
Ломидзе протянул карточку подошедшему к ним Шалденко:
– Товарищ мичман, что бы вы сказали, если бы вот такая красавица вспорола вам живот, потом начала резать сердце на куски?
– Да-а… – почему-то вздохнул Шалденко.
– Ты так и не ответил: что бы ты сказал, если бы она начала резать твоё сердце?
– Я-то?.. Добровольно лёг бы под её нож.
Галим покраснел, думая, что его разыгрывают. Шалденко вернул ему карточку.
– Люби и береги её, Урманов.
Выговорив это как-то чудно, сдавленным голосом, Шалденко круто повернул к выходу. Галим невольно проследил за ним взглядом: пригнув голову, своей развалистой походкой, поспешно и не оборачиваясь, вышел мичман из центрального отсека. Галим недоумевающе уставился на Ломидзе:
– Что случилось?
– Эх, до чего же неудобно получилось… – растерянно почесал в затылке Ломидзе. – В первый день войны, при бомбёжке, погибла его невеста… Я не подумал об этом, когда подсунул мичману карточку.
Подводная лодка Шаховского лишь на самое короткое время возвращалась на базу и снова выходила в море. Она стала для вражеских кораблей чем-то вроде неожиданно налетающего шквала.
Только что в бушующих волнах закончился неравный поединок между советскими моряками и фашистской подводной лодкой, имевшей преимущество в тоннаже и вооружении.
После взрыва на поверхности моря расплылось большое масляное пятно. Это было всё, что осталось от вражеской подлодки. Но к месту боя уже спешили немецкий миноносец и стая быстроходных катеров, – видимо, с тонущей лодки успели передать координаты места боя. Весь запас торпед у подлодки был израсходован, и Шаховский, спасаясь от преследования, решил лечь на грунт.
Лодка быстро погружалась. Но вот погружение закончилось. В отсеках без всяких приборов было слышно, как, шумя винтами, над лодкой пронеслись сначала миноносец, затем катера-охотники, сбрасывая серии глубинных бомб.
Кольцо взрывов сжималось. Лодка дрожала всем корпусом. Моряки недвижно стояли на постах, устремив всю силу своего напряжённого внимания на приборы.
Мигнуло электричество, от тяжёлых толчков выключились рубильники. Через несколько минут свет снова включился, но вдруг стало невыносимо душно.
Пот стекал с лица Галима. Как и все остальные, он дышал открытым ртом. Вздутые на висках вены пульсировали с каким-то покалыванием.
К Галиму подсел Верещагин.
– Не боишься? – спросил он.
– Не то… Обидно умирать не в бою, – признался Галим, с трудом шевеля губами. – А почему нам не подняться наверх? Попробовать бы…
– Нельзя. Нас караулят. Надо терпеть. Как самочувствие?
– Пока ничего.
Верещагин передохнул, потом посмотрел на Галима обесцвеченными, будто сразу полинявшими глазами.
– Я пришёл сказать тебе о партийном собрании. Будем принимать тебя в партию.
– Когда?
– Сейчас.
– Сейчас? – переспросил Галим, не веря своим ушам.
– Да, – сказал Верещагин и подумал о Шаховском, который приказал собрать коммунистов.
Когда командир корабля вызвал его к себе и сообщил о своём решении, Верещагин сразу понял его мысль.
В особенно трудные минуты советские люди всегда вспоминают о своей партии. И тогда, сплотившись вокруг неё ещё теснее, они становятся непобедимыми, ибо презирают смерть.
– Ну ладно, мне ещё с другими нужно повидаться, – медленно, словно нагруженный чем-то очень тяжёлым, поднялся Верещагин.
«Как он только ходит, какая сила движет им, когда трудно даже рукой пошевелить?» – невольно подумал Галим. Но и сам встал, чтобы идти на партийное собрание.
Если бы враги, которые были уверены, что советская лодка где-то здесь и что рано или поздно они пустят её ко дну, знали, что в то самое время, когда, притаившись, они подстерегают свою добычу, русские собираются на партийное собрание, чтобы принять в партию, напутствовать в большую жизнь молодого краснофлотца, они подумали бы, наверно, что русские не в своём уме. Но моряки подводной лодки, узнав о партийном собрании, поднимались, приводили себя в порядок и шли к центральному посту. Шли не только те, у кого был в кармане партийный билет. Шли все, и каждый думал о большом: о партии, о победе, о жизни.
Прямо перед собой Галим увидел портрет Ленина. Молодой советский человек смотрел на него с готовностью принести великой, перестраивающей мир партии чистую и благородную клятву верности. Но уже то, что сегодня он находится здесь, было настоящей клятвой верности.
Собрание началось немедля. Секретарь, как обычно, зачитал документы – заявление Урманова, анкету, боевую характеристику, рекомендации.
– Несу за него полную ответственность перед партией, – раздельно произнёс секретарь последнюю фразу в рекомендации Верещагина.
Какое доверие оказывают ему товарищи, думал Урманов. Своей партийной честью, всем, что дорого коммунисту, они ручаются за него, верят, что он, Галим Урманов, никогда не обманет партию, не нарушит долга, не пощадит врага, не пожалеет крови своей ради жизни народа.
Готовясь к собранию, Галим обдумывал, с чего начнёт свою несложную биографию. Он даже затвердил её наизусть. Но здесь, на этом суровом собрании, он забыл всё, что приготовился сказать.
Мысль о том, что он, Галим Урманов, тоже будет коммунистом и со временем станет таким же выдержанным и несгибаемым, как сидящие здесь Шаховский, Шалденко, Верещагин, переполняла его сердце безмерной радостью и счастьем.
– Родился я в тысяча девятьсот двадцать втором году в семье рабочего. Окончил среднюю школу, потом поступил в военное училище. Из училища пришёл сюда. Был пионером, потом воспитывался в комсомоле…
Глаза Галима встретились с глазами Верещагина. Они словно подбадривали Галима: «Смелее, братишка, правильно говоришь».
Но Галиму уже нечего было и рассказывать. Вся его жизнь уместилась в нескольких фразах. Он растерянно оглядел товарищей, но никто не удивился краткости его биографии.
Когда коммунисты подняли руки, голосуя за него, Галиму показалось, что эти руки подняли его высоко-высоко.
Едва закончилось собрание, за бортом раздались два взрыва – один далёкий, другой поближе. Акустик Драндус доложил, что слышит шум хода катеров, а миноносца не слышно.
– Хорошо, – сказал Шаховский.
Ему было ясно: фашисты уже начали нервничать, бомбы они сбрасывали наугад. «Ничего, у нас нервы крепкие, мы ещё полежим», – думал он.
Но в отсеках всё труднее становилось дышать. Огромная душевная зарядка, полученная на партийном собрании, помогла Галиму продержаться дольше многих. Но вот и он прислонился к переборке. Голова его склонилась набок, бескозырка упала. Теряя последние проблески сознания, он успел подумать: «Я коммунист…»
Вскоре силы покинули и мичмана Шалденко. Через несколько часов на лодке остались только два человека, которые ещё могли держаться на ногах, – командир корабля Шаховский и главстаршина Верещагин. Пересиливая возрастающую слабость, Шаховский сел на место акустика. В хаосе морских звуков он ясно различал шум винтов кораблей.
– Ждут, – пробормотал он, сжимая кулаки, – да не дождутся!
Шаховский знал только одно: держаться надо до тех пор, пока можно будет всплыть. Но сколько времени так может продолжаться – этого он не знал. Если бы существовала ночь, Шаховский сказал бы себе: до ночи. Но сейчас над Баренцевым морем, в этих широтах, тянулся бесконечный полярный день.
Верещагин подошёл к Урманову. Нагнулся, поднял его бескозырку, надел ему на голову. Думать о чём-нибудь последовательно он уже не мог. В разорванном сознании возникал в памяти отцовский колхозный домик, утопающий в вишнях, старая мать и сестрёнка – колхозный зоотехник…
Чтобы не уснуть, Верещагин то пожимал упавшую руку товарища, то смотрел в застывшие приборы, тускло блестевшие в темноте. Шаховский, хоть и с затуманенными глазами, сидя у аппаратов, упорно прослушивал поверхность моря.
Прошла, думалось, вечность с тех пор, как лодка остановилась в неподвижности и молчании, и главстаршина серьёзно тревожился за жизнь товарищей. Да и у самого звенело в ушах, перед глазами, утратившими свой обычный острый огонёк, мелькали красно-чёрные круги, голова гудела.