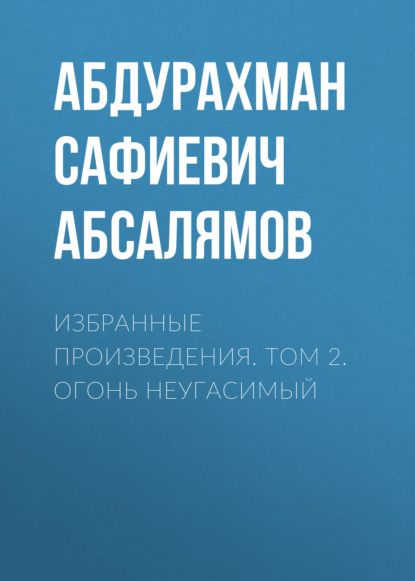
Полная версия:
Избранные произведения. Том 2
– Я слышал, будто план заводу увеличивают… Новых рабочих набирают, – переменил разговор Кукушкин. – Верно это? Вы поближе к начальству – поди, знаете.
– Верно-то верно, – ответил Матвей Яковлевич. – Только прежде не мешало бы подумать, как лучше организовать работу среди уже имеющихся рабочих. Тогда, может, и новых рабочих не потребуется набирать.
И он рассказал товарищам о своих наблюдениях за работой Лизы Самариной.
– Да, многонько наши станки вхолостую крутятся, – согласился Сулейман. – Подсобные операции съедают куда больше времени, чем основная.
– Это точно, – подтвердил и Кукушкин. – И всё же увеличение плана в два раза крепкий орешек будет.
– Это каждому ясно, Андрей Павлыч. Да ведь коли так надобно, ничего не поделаешь…
– Я ещё как прочёл в газетах о решениях Сентябрьского пленума, подумал, что к нашему заводу это имеет самое прямое касательство. Уж придётся теперь всем поломать голову над усовершенствованием наших машин!
Подул северный ветер. Но он коснулся лишь самых верхушек плодовых деревьев. И сразу потемнело вокруг. Из-за леса, от Игумнова, наплывали тяжёлые чёрные тучи. Того и гляди, снег пойдёт.
– Что так долго, Яковлич? – встретила Ольга Александровна мужа беспокойным вопросом. – И бледный какой-то… Уж не захворал ли?
Матвей Яковлевич, не отвечая, раздевался.
– Что, не было времени у Хасана Шакировича? – осторожно спросила Ольга Александровна.
Погорельцев, передёрнувшись, поднял на старуху тяжёлый, хмурый взгляд. Ольга Александровна сразу вся как-то поникла, обмякла. Долго стоял так, точно онемев Матвей Яковлевич. Затем, тяжело передвигая ноги, подошёл к жене и сказал:
– Прости, Олюша… Ты-то ни в чём не виновата…
7Положив на колени иссохшие руки с утолщёнными в пальцах суставами, бабушка Минзифа сидела в комнатке Баламира. На плечи поверх белого в крапинку платка она накинула пуховую шаль. Услышав, что кто-то вошёл, она склонила голову, прислушалась, но, определив по голосу, что пришёл не Баламир, опять застыла в прежней позе.
Долгий путь очень утомил бабушку Минзифу. Сначала она ехала на лошади, затем на пароходе, в четвёртом классе, среди бочек. Она уже каялась, зачем поехала. Сейчас ей страсть как хотелось вздремнуть, но на Баламирову кровать она лечь не решалась. Старушка с удовольствием устроилась бы на полу, да постеснялась хозяев – не подумали бы, что Минзифа неряшлива. Правда, Ольга Александровна предложила ей полежать у них в большой комнате на диване, но как могла она осмелиться беспокоить совершенно незнакомых людей. А у Баламира в комнате, не считая кровати, кроме пары стульев да маленького столика, ничего больше не было. Правда, сама комнатка, хоть и очень невелика, сухая, чистая, светлая. И цветок есть на окне.
Бабушка Минзифа была не очень разговорчивой старухой. Она не расспрашивала Ольгу Александровну о Баламире. И свою душу не хотелось раскрывать перед незнакомыми людьми. Ещё неизвестно, что за люди. Возьмут да нажалуются на Баламира туда, где он работает.
Сейчас дети не больно-то о родных матерях заботятся – чего уж о бабушке говорить. Баламир, слава Аллаху, пока посылал ей деньги. Бывало, и сто и двести рублей пришлёт. Пусть Аллах Всевышний дарует ему красивую жизнь, пусть увидит он радости от внуков и правнуков своих, пусть руки-ноги его не знают болезней. Пусть сторицей вернутся Баламиру те деньги, что не пожалел он для бедной старухи Минзифы!
И всё же в душе Минзифы оставалась какая-то трещинка. Она ведь Баламиру за мать и за бабушку. Баламир был по счёту девятым ребёнком в семье, и потому рождение его никого не обрадовало. Бабушка Минзифа взяла его к себе. Сама и имя ему подобрала. Назвала его в честь древнего батыра, любимого героя легенд в их краях, Баламиром, сказав при этом: «Да будет дитя моё мужчиной»[8]. А забитая не знавшим жалости мужем мать, трудившаяся до одури, чтобы прокормить огромную семью, не имела свободной минуты, чтобы погрустить о своём последыше. Лишь проснувшись внезапно глухою ночной порой, скорбела она душой, что нет у груди малыша. «Ох, мама, – сказала она однажды бабушке Минзифе, вытирая слёзы концом грязного платка, – какой я страшный сон видела. Будто мой Баламир вышел поиграть на улицу. А я будто из окна смотрю и говорю: «Баламир, не ходи к цыплятам, глаза тебе наседка выклюет». И вдруг всё потемнело. На наш двор спустилась огромная чёрная птица, схватила когтями моего Баламира и взвилась в поднебесье. Я так испугалась, так закричала, что проснулась и долго лежала, вся тряслась, как лист…»
Бабушка Минзифа ума не могла приложить, как толковать этот сон, но только с того дня совсем потеряла она душевный покой, сердце её вечно томилось и ныло, как бы не случилось чего с её Баламиром. Это мучительное чувство, что вот-вот должна нагрянуть беда, осталось у неё на всю жизнь, оно и заставило её решиться, несмотря на болезнь, на такую дальнюю дорогу.
Больше года, почитай, будет, как не получала она от Баламира ни строчки. А ей, старухе, разве ж одни деньги нужны? Что за радость – деньги, коль не знаешь, как он там? Уж чего она, бедняга, не делала – и молитвы читала на сон грядущий в надежде, что наутро Аллах пошлёт ей письмо от Баламира, и милостыню подавала нищим. Увидит хороший сон – радуется: «Не иначе как письмо придёт от Баламира». Для неё не было бы большего счастья, как с конвертом в руках зайти к соседям: «Прочитайте, сделайте милость. Письмецо пришло от моего Баламира». Но нет, не навестило её счастье.
Этим летом бабушку Минзифу что-то часто тоска брала. «Верно, смерть моя приближается», – вздыхая, говорила она своим сверстницам-соседкам. Вероятно, по этой причине желание повидаться с Баламиром превратилось у неё чуть не в болезнь. Поначалу она ограничилась письмом Баламиру, в котором умоляла его приехать в деревню хотя бы на несколько дней. Не получив ответа, она попросила соседей написать Баламиру второе письмо, наконец, третье. Ответом было молчание. Тогда она, вверившись Аллаху, пустилась в дорогу, увязав в клетчатую домотканую скатерть свои скромные гостинцы. Спасибо, председатель колхоза дал лошадь до пристани. Ещё наказал ей: «Смотри, бабушка Минзифа, обязательно профессору покажись. Баламир теперь городской человек, пусть сводит!»
«Не рассердился бы Баламир, что притащилась, – думала бабушка Минзифа, упорно продолжая сидеть всё в той же позе в комнатке внука. – И домой проводить расход ему лишний будет. Не надо было мне, старой, трогаться с места, людей тревожить. Недаром говорится: старый, что малый. И какой злой дух вытолкнул мои кости из тёплого дома? О Аллах, умягчи сердца рабов твоих, ниспошли кротость и смирение…»
Легонько постучавшись в дверь, вошёл Матвей Яковлевич. Ласково поздоровался со старухой, расспросил вежливенько о здоровье. Бабушка Минзифа отвечала односложно, слово по-русски, слово по-татарски. Матвей Яковлевич с первого взгляда понял, что старуха сама не будет расспрашивать о внуке. Чтобы рассеять страхи бабушки Минзифы, Матвей Яковлевич сам принялся рассказывать ей о Баламире.
– У Баламира теперь специальность в руках. Вместе в одном цеху работаем. И зарплата у него неплохая. Одежонку кое-какую справил. Увидишь – не узнаешь… Вырос – под потолок. Разумный паренёк, не балует.
Матвей Яковлевич счёл за благо скрыть от старухи, что Баламир последнее время стал бегать за девушками, – и без того расстроена, зачем ещё больше расстраивать.
– Жену не собирается ли взять? – спросила старушка.
Матвей Яковлевич улыбнулся из-под седых усов своей доброй, приятной улыбкой, и бабушка Минзифа заключила про себя: «Хотя и не татарин, а, должно быть, хороший человек».
– Рановато ему, Минзифа-апа, прежде в армии надо отслужить. Пусть погуляет на свободе по молодому делу. А женится, сами понимаете… семья – хомут на шее. Да и жизнь начнёт прижимать.
Баламир всё не возвращался. Ольга Александровна опять стала приглашать бабушку Минзифу к чаю. В обычное время они в эту пору обедали, но, хотя обед был уже готов, Ольга Александровна поставила самовар, – бабушка Минзифа, по всему можно думать, не станет есть «пищу русских».
На этот раз Минзифа не заставила долго упрашивать себя. Не то Матвей Яковлевич больше понравился, чем старуха его, не то решила, что голова разболелась оттого, что давно чаю не пила. Выйдя на кухню, она вымыла руки и скромно села за стол.
«Плиточный чай заварила, аромат – на всю комнату… И молоко на столе. Смотри-ка, они, оказывается, совсем как мы, – обрадовавшись, подумала про себя старуха и пожелала мысленно: – Пусть снизойдёт на них счастье». Во время чая разговор вертелся больше вокруг Баламира, чем бабушка Минзифа была очень довольна. Она немало узнала про Баламира и теперь уже не раскаивалась, что приехала.
К концу чаепития она ещё больше освоилась с гостеприимными хозяевами и понемногу разговорилась. И Ольга Александровна и Матвей Яковлевич понимали по-татарски. Старики узнали, что у неё больной желудок. Ольга Александровна пообещала, что сама будет водить её к доктору, у них есть очень хороший знакомый врач. А у Баламира нет времени, он занят на работе. Минзифа очень обрадовалась и, сама не заметив как, посетовала, что Баламир давно уже не пишет ей.
– Неужели правда, Минзифа-апа? – поразилась Ольга Александровна. – А он ведь говорит, что на каждое письмо ваше отвечает. Старик вот мой не раз спрашивал у него…
Но бабушка Минзифа уже раскаивалась в душе, что сболтнула лишнее, и больше рта не раскрыла. На её сморщенном лице так явственно проступила скорбь, что старики угадали, какое горе гложет её сердце. Им стало неловко, точно и на них ложилась некоторая доля вины.
Баламир всё не возвращался, и, как ни крепилась бабушка Минзифа, усталость взяла своё – она задремала. Погорельцевы поставили в комнате Баламира раскладушку. Старушка тут же легла на неё и, свернувшись калачиком и подсунув под голову правую руку, уснула. Она казалась теперь такой маленькой, словно высохший лист.
Оставшись вдвоём, Ольга Александровна с Матвеем Яковлевичем занялись догадками, куда мог запропаститься Баламир.
– Нет, не за деньгами она приехала, по внуку соскучилась, бедняжка, – с горечью сказала Ольга Александровна. – Вот уж никак не предполагала, что Баламир так жесток со своими родными.
– Да-а, – задумчиво протянул Матвей Яковлевич. – Состарится человек, и начинают избегать его.
Вот как случилось, что Баламир пришёл жить к ним. Однажды, вернувшись с работы и увидев, что жена плачет, Матвей Яковлевич бросился к ней в тревоге:
– Что случилось, Оленька?
Вместо ответа она протянула ему извещение. Их приёмный сын Васятка погиб в боях за Берлин. У Матвея Яковлевича словно оборвалось что внутри. Он бессильно опустился на стул. После этого злосчастного дня Ольга Александровна затосковала.
– Конец нашей уютной жизни, Яковлич, – часто повторяла она. – Ушли навсегда из нашего дома радость, веселье, молодость.
Да Матвей Яковлевич и сам чувствовал это. Гибель Васятки состарила его сразу лет на десять.
Они стали подумывать о том, не взять ли опять сиротку на воспитание. Взять малыша? Пугала старость. И Матвей Яковлевич решил приглядеться к ребятам из ремесленного училища.
Был выходной день, когда Матвей Яковлевич собрался в ремесленное училище при заводе. Большинство учеников разошлось – кто в гости, кто к родным. В огромной пустой комнате общежития, облокотившись на подоконник, сидел в одиночестве мальчик лет тринадцати-четырнадцати. За окном лил дождь. Было холодно, неуютно, тоскливо.
Ткнув коменданта локтем в бок, Матвей Яковлевич спросил его шёпотом:
– Чего это мальчонка такой грустный?
Комендант, инвалид войны, рассказал, что мальчик-сирота, в городе близких у него никого нет.
– В будни, – сказал он, вздыхая, – среди товарищей он совсем другой, а как выходной – беда. Нахохлится, что выпавший из гнезда птенец. Смотрю на него – сердце кровью обливается. Сам рос сиротой. Знаю, как горьки слёзы сироты. Как-то пожалел его и взял к себе домой. На второй раз позвал – не пошёл. У меня жена… гм… как бы сказать… не любит она людей, Матвей Яковлич. Как придёт кто, сразу ощетинится…
Матвей Яковлевич увёл мальчика к себе.
Это был Баламир.
В день приезда бабушки Минзифы Баламир вернулся поздно – в первом часу ночи. Матвей Яковлевич уже спал. Когда Ольга Александровна, торопясь порадовать юношу приятной вестью, сообщила, что за гостья ждёт его, Баламир не проявил ни малейшего признака радости, даже шагу не прибавил. А она-то наивно полагала, что он опрометью бросится в свою комнату. Нахмурив брови, юноша холодно спросил:
– С какой это стати она притащилась?
– Иди, иди, поздоровайся сначала с бабушкой, – с упрёком сказала Ольга Александровна, легонько подталкивая его, – потом ужин подам, вместе поедите.
Баламир, не отвечая, молча разделся и пошёл мыть руки.
Глава третья
1Как ни старался Матвей Яковлевич, зная крутой нрав Сулеймана и его давние нелады с зятем, сохранить в тайне свою встречу с Хасаном Шакировичем, Сулейман каким-то образом сумел проведать о ней. Он был вне себя, рвал и метал, что называется. Директор, его зять, Хасан-джан, да чтоб проехал мимо, не признал Матвея Яковлевича!.. Вот тебе на!
Правда, за добрых двадцать лет, с тех пор как Хасан уехал из Казани, Матвей Яковлевич сильно изменился, и не удивительно, что кое у кого в голове не умещается, что сегодняшний Погорельцев с его белоснежной головой и усами и молодой русоволосый токарь Матвей – один и тот же человек. И всё же в чертах его лица, во взгляде и походке, во всём облике сохранилось что-то такое, что отличает лишь Матвея Яковлевича Погорельцева, и только его! Впрочем, недаром говорится, если у человека слепы глаза души, не помогут ему глаза на лбу. Непонятно, как можно не узнать человека, который приголубил, приютил тебя в трудную минуту, помог выйти на дорогу жизни, был тебе, собственно, за отца родного. Да как же это тебя угораздило, товарищ директор? Ведь это всё равно что плюнуть в колодец, из которого ты щедрой рукой черпал чистую родниковую воду. Как не отсох язык твой!
И без того взбешённый Ильмурзой, не посчитавшимся с отцовским словом, Сулейман, узнав вдобавок о неблагодарной выходке зятя, разбушевался, да так, что удержу на него не было. Разбередила эта несправедливость и старые душевные раны.
Сулейман-абзы, хотя при случае и не прочь был похвастать своим зятем, уже много лет таил в сердце своём горечь обиды на него. Не видел тесть от Хасана искреннего чувства уважения, почтительности, которым так дорожат старики татары.
Пока зять живал где-то на стороне и встречаться приходилось редко, это чувство угнетало Сулеймана, но как-то глухо и привычно.
Теперь же, когда Муртазин вернулся в Казань директором «Казмаша» и всякий, кому не лень, успел прослышать, что новый директор не изволил даже перешагнуть порог дома своего тестя, застарелая боль Сулеймановой обиды дала новую вспышку. Однако не идти же старику с повинной головой к зятю, раз он считал, что большая часть вины лежит всё же на Хасане.
С юных лет Сулейман не выносил никакой несправедливости. И взрывался он мгновенно, как пороховая бочка. Был такой случай ещё до революции: токари Сулейман и Матвей забежали мимоходом в литейную проведать своего дружка Артёма. Не успели они толком выкурить по папироске, в цехе появился сам хозяин завода Яриков. Был он какой-то усохший, костлявый, на одном ухе всегда болталось пенсне на серебряной цепочке, он то сдёргивал, то опять насаживал его на свой тонкий, хрящеватый, с хищной горбинкой нос. Губ совсем не видно было; в народе поговаривали, что он сжевал их от злости. Яриков напустился на рабочих:
– Эй вы, дармоеды, лодыри, почему простаиваете?! – И лихо подскочив к Погорельцеву, который попробовал возразить что-то, хлестнул его по щеке.
Погорельцев едва сдержал себя, хотя мог бы одним ударом прикончить Ярикова.
– Ты, хозяин, языком тренькать тренькай, а рукам воли не давай! – сказал он с угрюмой угрозой. – Запомни, – тебе же лучше будет; перед тобой люди, а не чурки стоят!..
Тонкие губы Ярикова презрительно передёрнулись. Смешно подпрыгнув, он ещё раз замахнулся на Матвея. Тут Сулейман не выдержал. Оттолкнув в сторону пузатого мастера, охранявшего хозяина, он схватил Ярикова одной рукой за воротник, другой за штанину, поднял в воздух и, не обращая внимания на визгливую брань его и вопли, зашагал к полыхавшим вагранкам, в которых клокотал расплавленный чугун.
Все оцепенели. Шляпа хозяина, его разбитое пенсне валялись на полу. Ещё мгновение, и разъярённый Сулейман бросил бы хозяина в вагранку. Багровые отсветы жаркого огня уже лежали на лице Ярикова. Он беспомощно сучил ногами, вереща, как боров под ножом.
– Сулейман, опомнись! – в один голос закричали Матвей и Артём.
– Уступать извергам?.. Уступать всякому негодяю, которому вздумается издеваться над нами, га? Нет, в вагранку их, всех в вагранку!..
Едва удалось остановить разъярившегося Сулеймана.
Когда за ним пришли жандармы, он, несмотря на настойчивые увещания товарищей, и не подумал прятаться. Сулейман схватил длинный железный прут и, рванув на себе ворот рубахи, закричал:
– Не подходи близко, в лепёшку расшибу! Стреляйте издали! – И, увидев, что жандармы растерялись, сам пошёл на них, высоко занеся железный прут над головой. Не так-то легко было жандармам связать и увести разъярённого Сулеймана.
С той давней поры за ним и осталось прозвище – «Сулейман – два сердца, две головы». С годами Сулейман, ясное дело, поутих. Но всё же лучше было его не сердить. Сегодня после смены, не помывшись как следует, Сулейман заспешил в заводоуправление, но директора в кабинете не застал. И неизвестно было, когда он вернётся. Перепугав секретаршу с крашеными лимонно-жёлтыми волосами и столь тонкой талией, что, казалось, достаточно порыва ветра, чтобы она переломилась надвое, Сулейман, поминутно чертыхаясь, прождал в приёмной около часа и наконец, махнув рукой: «Э, да провались он ко всем чертям!», решил отправиться домой.
Не разбираясь, где яма, где лужа, летел он, как стрела, выпущенная из туго натянутого лука. И вдруг остановился точно вкопанный. На дворе голосила старуха заводского вахтёра Айнуллы:
– Ой, мамочки, смотрите-ка на него, старого дурака! Куда забрался людям на посмешище?.. На сарай вместе с уразметовским ахутником… и гоняет себе голубей, негодник! Слазь, говорю, пока шею не сломал, старьё проклятое! Вот я тебе повыдеру волосы-то, мужлан!
Сулейману сразу всё понятно стало. «Уразметовский ахутник» – это его младшая дочь Нурия, «старьё проклятое» – дед Айнулла.
Сулейман вошёл во двор. В голубом небе, словно купаясь в розоватых лучах вечернего солнца, парили голуби. Щуплый дедушка Айнулла, сменив рабочий костюм на стёганый камзол-безрукавку, из-под которого виднелась длинная белая рубаха, стоял на крыше сарая и, откинув голову и приложив ладонь козырьком ко лбу, следил за полётом голубей. А Нурия в лыжных брюках и светлой кофточке, забросив на спину тяжёлые чёрные косы, стояла ещё выше, на самой голубятне, и, помахивая длинным шестом с тряпицами на конце, лихо свистела, ничем не хуже любого мальчишки.
Они были так поглощены своим занятием, что даже не оглядывались на исходившую криком старуху. А та, выскочив как была на кухне, – с засученными выше локтя рукавами и подоткнутым подолом, – в бессильном гневе трясла иссохшей, как липовая кора, рукой, хрипло пища, словно голодный галчонок в гнезде. Её движения со стороны были так потешны, что Сулейман, несмотря на дурное настроение, расхохотался.
– Камнем, камнем запусти в них, проклятущих, Абыз Чичи! – басовито прогудел он.
Настоящее имя старухи было Гайниджамал, но все, и даже Айнулла, проживший с ней жизнь, звали её Абыз Чичи. Как-то, это было очень давно, к молодому ещё тогда Айнулле приехала родственница с ребёнком. Она-то и научила своего малыша называть его жену, как это принято было на родине Айнуллы, Абыз Чичи, что означало: «Тётя, дающая игрушки». С тех пор и прилипло к старухе это прозвище.
– Ай, осрамилась!.. – ахнула Абыз Чичи, увидев Сулеймана, и, прикрыв лицо концом платка, засеменила прочь.
– Нурия! – окликнул Сулейман дочь. Очень похожие на отцовские, большие чёрные и лучистые глаза девушки сверкали, смуглые щёки разрумянились, ноздри трепетали.
– Марш домой! – хмуро приказал Сулейман.
Никогда Сулейман так сердито не разговаривал со своей младшей дочкой, любимицей. Нурия тотчас смекнула, что отец не в духе, и, бросив шест, одним махом спрыгнула на крышу сарая. Второй прыжок перенёс её с довольно высокого сарая прямо на землю. Перебежав двор, она исчезла в подъезде.
– И ты, Вахтёрулла, пожалуй-ка сюда, – сказал Сулейман тем же сердитым тоном. – Слово есть к тебе.
Но дедушка Айнулла не торопился исполнять его приказание. Улыбаясь, он подошёл к краю крыши и присел на корточки.
– Мне очень тяжело лазить бесплатно, я не так прыток, как ты, крылышко моё, Сулейман. Дух спирает. Если твоя просьба не очень велика, скажи оттуда. По крайней мере, хоть один раз в жизни поговорю сверху с человеком, который выше меня. Хе-хе-хе!
Сверкнув чёрными глазами, Сулейман нетерпеливо шагнул к сараю.
– Зачем опозорил Матвея Яковлича в проходной, га? Ну, отвечай!
С круглого морщинистого лица дедушки Айнуллы мигом слетела добродушная улыбка. Он выпятил грудь, словно петух, готовый вступить в бой.
– Попробуй-ка сам, – ткнул старик указательным пальцем в Сулеймана, – прийти завтра без пропуска. Так я тебя и испугался… Воображаешь, если ты Сулейман – отчаянная голова, так я сразу и распахну тебе все двери!.. Если хочешь знать, Сулей, Айнулла такое не только что другим, самому себе не позволит!
Правда ли, нет ли, но заводские старожилы рассказывали, будто Айнулла, забыв однажды дома пропуск, приказал своему сменщику не допускать вахтёра Айнуллу к вахте, а вызвав караульного начальника, попросил его отправить Айнуллу домой за пропуском.
Сулейман зло усмехнулся.
– Можешь сколько угодно не допускать на завод вахтёра Айнуллу – небольшая шишка. А Матвея Яковлича обязан был пропустить.
– Почему это? – удивился Айнулла. – Меченый он, что ли? Пустое говоришь, Сулей, и слушать не желаю.
Старик с неожиданной лёгкостью поднялся с корточек и показался вдруг Сулейману недосягаемым. Пока Уразметов собирался с мыслями, Айнулла зарядил:
– Я тебе, Сулей, – по-детски короткой рукой показал он на сапоги Сулеймана, – разве говорил когда-нибудь: не обувай сапоги, а надевай ичиги? Твоё дело резать железо, моё – у дверей стоять. Что поделаешь, коли великий Аллах втёмную, без разбора, приложил такую печать на мою судьбу. Попробовал бы я со своей бестолковой головой сунуться в твоё дело, разве ты не выпроводил бы меня, разлюбезно пнув в мягкое место? И правильно бы сделал.
Он поднял брошенный Нуриёй шест и замахал им, словно хотел показать, что разговор закончен.
Увидев, что не столковаться ему с этим тощим, словно осенний цыплёнок, старичишкой, а главное – почувствовав свою неправоту, Сулейман, больше злясь на самого себя, погрозил пальцем: «Погоди, проучу я когда-нибудь тебя!», резко повернулся и ушёл.
Обычно Сулейман, возвращаясь с работы, вносил весёлое оживление в дом Уразметовых. Жизнерадостный, неугомонный, он любил шутку и смех. Этот старый рабочий притягивал к себе сердца, даже когда гневался. И потому вспышки его проходили без ущерба для семейного мира. Но сегодня он вернулся в свирепом раздражении, как горе-батыр, с позором побеждённый на Сабантуе и способный с тяжкой обиды выкинуть что угодно.
– Эй, кто там есть? – подал он голос ещё с порога. – Нурия, Гульчира!.. Куда пропали? Готовьте тёплую воду и чистое бельё. Иду к новоиспечённому директору.
Он с силой рванул с себя короткий пиджак, казалось, вот-вот оторвёт рукава.
– Небось, узнает меня… А нет, так заставлю узнать!
Едва он успел высвободить из пиджака одну руку, как услышал, что кто-то шарит ключом в замке двери. На пороге, насмешливо улыбаясь, стоял смуглый красивый молодой человек с серой шляпой в руках. Это был Ильмурза.
– Что случилось, отец? Кого опять собираешься песочить?
Чуть не всякий раз при виде Ильмурзы Сулейману вспоминалась собственная молодость: этот взгляд уголком глаз, насмешливый перекос красиво очерченного, твёрдого рта, даже его свободная манера держать себя. И несмотря на нелады последних дней между ними, Сулейман не мог не залюбоваться сыном.
– А ты что скалишь зубы, га? Хоть ты и мурза[9], а всё же молод ещё смеяться над отцом.
– Никто и не смеётся, отец, – сказал Ильмурза, расстёгивая макинтош. – На зятя, как я понимаю, взъелся… Да, это действительно птица высокого полёта. И со мной поздоровался ни так ни сяк.
Стащив наконец с себя пиджак, Сулейман с раздражением повесил его на крючок.
– С тебя и этого предостаточно, – бросил он. – Я на его месте, может, и руки такому не протянул бы.



