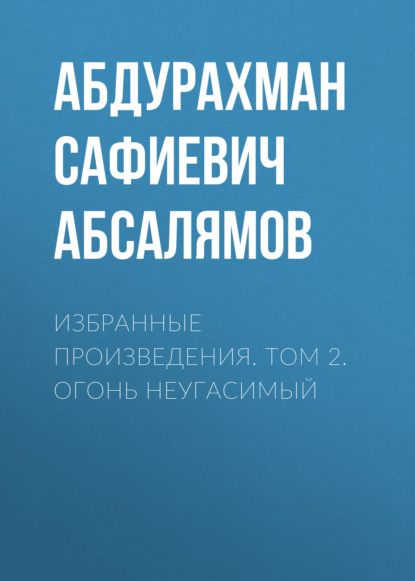
Полная версия:
Избранные произведения. Том 2
Впрочем, о своём внутреннем беспокойстве он никому не заикнулся ни словом – не любил раньше времени языком молоть. Наоборот, поддерживал у своих самые радужные настроения. Смеялся сам, других смешил. И, конечно уж, заблаговременно позаботился о «горючем». Этого дела он никому не доверял. Нурия была школьницей, Гульчира комсомолкой, Марьям на сносях, а Иштуган с Ильмурзой хозяйственными делами вообще не занимались.
Гульчира, как и Иштуган, хотя и рада была, как всегда, принять дома гостя, особого расположения к своему зятю не питала. Сдержанность Гульчиры объяснялась не столько её характером, сколько другими, одной ей известными причинами. Она всего лишь раз была у Муртазиных, и то проездом на курорт. Сколько ни допытывалась потом младшая сестра, как понравился ей Хасан-джизни, она толкового ответа от Гульчиры – ни хорошего, ни плохого – не добилась. Тогда Нурия выпалила:
– Значит, не имеешь собственного мнения, а ещё техник, замсекретаря заводского комитета комсомола!.. – Она пренебрежительно сморщила носик. – Зачем только тебя выбирали?..
– Затем, вероятно, что тебя там не было, – холодно бросила Гульчира.
– Ой, не сердись, апа[5]. Когда ты сердишься, мне хочется выть семиголовым железным дивом.
– Дивы железные не бывают. И вообще… пора бы тебе перейти от сказок к жизни.
Нурия не любила, когда ей намекали на её юный возраст. Десятиклассница уже. Пора бы и оставить эти намёки. Она, бедная, и так последние месяцы своей вольной жизни доживает.
– А своё мнение, апа, всё-таки не мешало бы иметь! Технику-конструктору это особенно необходимо, – старалась побольнее кольнуть Гульчиру Нурия. Но та по-прежнему оставалась холодно-неприступной.
Марьям, та никогда не видела Муртазина в глаза, но наслышалась о нём в семье много. Из этих рассказов в её воображении сложился постепенно образ большого, умного, волевого человека. И она заочно прониклась к нему уважением. Как женщина мягкого и доброго сердца, Марьям ждала гостя с тем тайным волнением, от которого как-то праздничнее и светлее делается гостю, и он забывает, что находится в чужом доме. Она только очень стеснялась своей беременности. Её тонкая талия безобразно раздалась, кожа лица поблёкла, потускнела, сошёл свежий румянец, который придавал ей вид совсем юной девушки. Если она при госте и выйдет к столу, то с одним условием – что сядет, как дореволюционная татарская сноха, за самовар.
Для Ильмурзы, который жил в семье как чужой, приезд зятя ничего не значил. Бесконечные разговоры о Муртазине его не трогали и как бы совершенно не касались.
Полы просохли, и Нурия с Гульчирой принялись расстилать дорожки. В комнатах сразу стало уютнее и даже будто теплее. Сулейман, мягко ступая своими кривыми, кавалерийскими ногами по дорожкам, прошёл в столовую – «залу», как они её громко называли, – самую большую комнату в квартире Уразметовых. Она была полна разлапистых цветов в кадушках и горшках. В ней веяло прохладой – все окна были распахнуты. С улицы доносился шум – гудки автомашин, трезвон трамваев, людские голоса, а из парка напротив – лёгкая музыка. Большой стол был накрыт новой розовой скатертью и празднично сервирован.
«Тут всё в порядке», – подумал Сулейман и прошёл в свою комнату, она была крайней и самой тихой в квартире. Здесь тоже прибрались. Чистотой и свежестью дышали белоснежные наволочки и новое кружевное покрывало, собственноручно связанное Гульчирой, большой мастерицей на такие дела. От пышного букета на маленьком круглом столике тоже веяло свежестью. Сулейман подошёл к нему и, касаясь атласно-белых, нежно-розовых, ярко-красных, светло-голубых, оранжевых лепестков своими огрубевшими от металла пальцами, прошептал:
– Красота-то какая!.. А аромат… Даже чуть голова кружится.
Перевёл взгляд на старинные стенные часы, высунулся за окно. Там уже стемнело, горели, мигая, уличные фонари.
«Да, здорово задержался зять», – подумал Сулейман, и снова ёкнуло его «двойное» сердце. На душе стало муторно, подымалась обида. Но тут вошла Нурия, весело прощебетав, что рабочему народу кушать подано.
Сулейман с Иштуганом, успевшие повидаться друг с другом ещё на заводе, пристроившись с краю стола, ели дымящийся эчпочмак – пирожок в виде треугольника, начинённый мясом, луком и картошкой. С аппетитом отправляя в рот куски, они обменивались новостями. Женщины не стали садиться за стол, решили дождаться гостя.
Занятый своими мыслями и точившим без конца внутренним беспокойством, Сулейман поначалу слушал сына рассеянно, одним ухом. Но постепенно разговор увлёк его, и, когда Иштуган во всех подробностях передал ему, чем коротко поделился с Матвеем Яковлевичем на улице, Сулейман, ударив по привычке тыльной стороной одной руки о ладонь другой, воскликнул:
– Дельно говоришь! Учить других – особого ума не надо. А вот нам самим ой как надобно умом раскидывать. Ты знаешь, что творится на заводе, га?
– А что? – встревожился Иштуган.
– Ага, не знаешь! Всё по чужим краям катаешься, где ж тебе знать дела родного завода. А у меня все наши неполадки вот где сидят. Возьми хотя бы эту распроклятую вибрацию… В крови моей она гуляет. Словно горячая стружка… забралась под самое сердце и шебаршит там, не даёт покоя. Зажать бы её, эту самую вибрацию, вот так!.. – И, вытянув свою могучую руку, он стиснул её в кулак.
– Чего ж не зажмёшь, почему медлишь? – подзадорил Иштуган. И увидел, как расширились глаза у отца, как задышал он часто, прерывисто, неспокойно.
– Не даётся, ведьма!..
– А ты с инженером советовался?
– Как не советоваться… Только знаешь, что для них твоя вибрация? Пёрышко, которое во сне чуть щекочет ноздри… И ничего больше… Они заняты переоборудованием цеха вообще, поточными линиями, автоматикой.
– А это как раз неплохо, по-моему, отец.
– Кто говорит, что плохо. Но для нас, станочников, и вибрация тоже не пёрышко. Она не пощекотывает нас, а бьёт прямо по этому самому месту. – И он хлопнул себя ладонью по короткому загривку. – Хоть караул кричи… Сколько раз наш брат – станочник – кидался в смертный бой против неё, – ничего путного пока не получается.
– Ты, отец, как я посмотрю, здорово загибаешь, – усмехнулся Иштуган. – Чем уж так мешает тебе вибрация?
– Как это чем? – взвился Сулейман. – С меня валы спрашивают, га?.. Спрашивают. Давай-давай!.. А как их дашь, коли чуть увеличишь оборот станка – и станок и деталь дрожат, как… Тьфу!
– А других резервов у тебя нет?
– В том-то и дело, что нет! Что было, всё использовано. До микрона…
Иштуган снова улыбнулся одним уголком рта и отодвинул тарелку. Он уже насытился и теперь принялся за чай.
– Валы, наверное, скоро закончатся, вот и ваша проблема вибрации решится. У нас же серийное производство…
– Ты шутки не шути! – строго оборвал его Сулейман. – Тут дело такое… Не до смеха. «Ваша», «наша» – это не рабочий разговор. Ты лучше помоги отцу. У тебя голова посвежее.
– Ну нет, куда мне против тебя, отец… Молод ещё. Бороду надо сперва отрастить.
– Ну, ну, не скромничай. У козла с рождения борода, а ума до старости нет. Так что помогай-ка отцу – и никаких гвоздей… Поможешь, га? – Сулейман скосил чёрные блестящие глаза на сына. Сколько лукавства, хитрости, чувства гордости за сына, сколько неуёмного желания добиться своего было в этих уразметовских, подобных чёрной искре глазах!
– Подумаю, коли просишь, – сказал сын на этот раз серьёзно и тоже с достоинством, – хоть я занят сейчас стержнями.
– Вот это молодец! – воскликнул Сулейман. – Не даёшь отцу погибать.
Часы пробили восемь. Потом девять, Сулейман и не заметил, как шло время. А спохватившись, заволновался, вскочил из-за стола.
– Так! – обхватил он ладонью бритый подбородок. – Значит… не пришёл. Ну что ж! – Он взглянул на своих домочадцев: они стояли понурившись у дверей. На их лицах он прочёл ту неловкость, которая охватывает обычно людей, когда, обманув их ожидания, к ним не приходит желанный гость. – Что ж! – повторил он. – Не будем из-за этого портить себе настроение. Давайте садитесь и несите всё, что только есть самого вкусного.
Но шутка не получилась. Наоборот, она усилила неловкость. Однако Гульчира и Марьям пошли исполнять просьбу отца, а Нурия осталась, прислонившись к углу книжного шкафа. Сулейман подошёл к ней и молча погладил по голове.
Часы пробили десять. И прозвучали эти десять ударов так, будто десять раскалённых гвоздей забили в самое сердце старого Сулеймана. Но даже тут он не показал своего горя близким людям. Громко расхваливал он каждое кушанье, дочерей и сноху за умение кухарить, сыпал шутками и хохотал, как самый беззаботный человек на свете.
Глава вторая
1– Ладно, Оленька, я пошёл. Ты уж будь того… готова. Если что – с работы прямо гуртом…
Смахивая маленьким камышовым веничком пыль с костюма мужа, Ольга Александровна говорила:
– Не волнуйся, Мотенька. Не впервой ведь привечать мне гостей. Только вот солёных грибков нет у меня. Сегодня ночью вспомнила, – Хасан, бывало, очень их любил. Ну, да на колхозный базар сбегаю…
Матвей Яковлевич поцеловал свою старуху в лоб и по-молодому, лёгким шагом спустился с крыльца.
Стояло прекрасное солнечное утро. Асфальтовые тротуары ещё не совсем просохли от прошедшего ночью дождя. Воздух чистый, ни пылинки. Матвей Яковлевич глубоко-глубоко вздохнул. И его натруженная грудь, показалось ему, вобрала в себя с этим вздохом не прохладный чистый воздух, а блаженное чувство бездумной радости. Он весь приободрился. В суставах не чувствовалось никакой скованности. Он словно помолодел. И захотелось ему поскорее увидеть Хасана… Хасана Шакировича… увидеть и обнять вот на этой солнечной улице, на виду у всех.
Поглядывая по сторонам, он шагал легко, точно окрылённый, и вдруг заметил посередине чистого, залитого солнцем тротуара багряный дубовый лист. Матвей Яковлевич остановился, поднял лист, на котором бисеринками блестели капельки росы, и тотчас вспомнилось ему детство, слепой скрипач Хайретдин, дед Сулеймана, любивший распевать удивительные баиты[6] о рубщиках дуба – лашманах.
На босоногого русоголового парнишку, понимавшего немного по-татарски, производили впечатление не столько слова, сколько леденящий сердце напев, который лился из полураскрытых уст слепца, напоминая бесконечное завывание осеннего ветра. И мальчику начинало казаться, что дедушка Хайретдин не поёт, а плачет, но только без слёз. А в груди старика гудят, шумят, как дубы в ветреный день, гнев и ропот сотен тысяч обойдённых жизнью, обездоленных людей, чьи кости гниют в тех дремучих лесах, о которых поётся в баитах.
На ярмарке Ташаяк и без дедушки Хайретдина было много калек-татар, распевавших песни о старине. Но они пели баиты про бог весть когда живших турецких султанов да ещё про какие-то балканские войны. А дедушка Хайредтин пел о местах, которые ребятишки знали как свои пять пальцев и на которых они жили сами. Поэтому, сбившись в тесный кружок, они часами простаивали возле дедушки Хайретдина, что сидел, поджав под себя ноги, в замасленной приплюснутой тюбетейке и чёрном, надетом поверх длинной белой рубахи камзоле. Они бережно опускали в его кружку гроши, что бросали ему сердобольные прохожие.
…Когда-то вокруг Казани шумели столетние дубы. Но вот по указу царя Петра в Казани было учреждено Адмиралтейство. Решено было строить свои корабли. Народ погнали валить столетние дубравы. За каждое клеймённое царскими «вальдмейстерами» дерево лесорубы отвечали головой. Если такой клеймёный кряж пропадал или повреждался, виновным отрезали носы, уши, нещадно били палками, а то и казнили. Так был казнён дед Хайретдина, батыр Рамай. Чтобы спасти жизнь другу, которого придавило дубом, он осмелился перерубить пополам клеймёное дерево. Говорили, что после смерти Рамая друзья в память о нём посадили на берегу Волги на самой высокой горе молодой дуб. Говорили, что дуб этот по сию пору стоит цел и невредим там, на берегу. Будто вершина его ушла под самые небеса, и будет он стоять вечно, потому как нет такой пилы, которой можно бы спилить его…
Сколько мечтали Матвейка с Сулейманом разыскать этот дуб! Дедушка Хайретдин говорил детям: «Кабы не был я убогим слепцом, показал бы я вам этот дуб… Не дал мне Аллах такого счастья. Об одном жалею: умру я скоро, а ведь, кроме меня, никто не знает места, где стоит тот дуб-великан!..»
Матвей Яковлевич ещё некоторое время рассматривал поднятый с дороги лист, потом, смахнув концом рукава росинки, положил в карман. «Покажу Сулейману», – мелькнуло у него.
Этот багряно-жёлтый лист сверкнувшей молнией осветил далёкое детство, и внезапно всплывшие из бездонного омута памяти воспоминания разбередили старику душу. Вдруг как-то удивительно свежо вспомнилось, что в то время всем в Заречной слободе – чесальными, прядильными, ткацкими фабриками, кожевенными, металлообрабатывающими заводами, шорными, обувными мастерскими, даже баней, даже жилыми домами – всем распоряжались хозяева или их спесивые управители. Рабочий люд и воздухом-то дышал вроде как с опаской, потому что, казалось, сам воздух в Заречной слободе принадлежит баям. Улицы, переулки, лавчонки, парки носили имена баев или уродливые, наводящие грусть названия, рождённые безрадостным существованием под их безграничной властью. Единственный в слободке сад и тот назывался «Садом горя».
Когда Матвею исполнилось тринадцать лет, он пошёл работать на завод Ярикова, что стоял тогда на краю зловонного болота. Ему повезло. Его приставили учеником к отцу, который работал там токарем.
Из рассказов старых рабочих и отца Матвей Яковлевич узнал позднее, что завод этот, нынешний «Казмаш», начали строить ещё во времена Севастопольской кампании. Принадлежал он тогда то ли деду, то ли прадеду Ярикова, а может, кому другому. Разное говорили.
Матвей Яковлевич пришёл сюда приблизительно спустя пятьдесят лет со дня основания завода, а он всё ещё походил на небольшую мастерскую. Всё его оборудование состояло из единственной паровой машины в шестнадцать лошадиных сил, трёх вагранок да двух-трёх десятков станков.
В то время завод строил небольшие суда, производил ремонт на них, выполнял заказы казанских промышленников на литьё и металлообработку. К концу девятнадцатого и началу двадцатого века его уже стали называть «Меднолитейный», затем «Кузнечно-котельный». Завод много раз переходил из рук в руки. Хозяева менялись, но ни один из них не интересовался расширением завода, тем более никому из них не приходило в голову позаботиться об улучшении положения рабочих.
Нахлынувшие воспоминания не могли, однако, целиком захватить Матвея Яковлевича, – мысли его были заняты близкой встречей с Хасаном.
В небольших садиках в глубине дворов и сегодня можно было увидеть яблони в цвету. Под розовыми лучами утреннего солнца они выглядели сегодня уж не такими жалкими, поникшими, как вчера. Казалось, каждый листочек, каждая веточка трепещут от наслаждения, приветствуя солнце и разливаемое им тепло.
Девушки из заводского общежития, взявшись за руки, с песней шли посередине мостовой. В кудрях нарядчицы Шафики, шагавшей в центре, – за рыжие волосы молодёжь прозвала её пламенной Шафикой – торчал белый цветок. «Ох, опалит ещё, чего доброго, своим пламенем бедный цветочек, – улыбнулся себе в усы Погорельцев и, покачав головой, подумал: – Уж не из-за этой ли девушки вошёл бес любви в Баламира?»
Дойдя до угла, Матвей Яковлевич остановился. Здесь уже было многолюдно, шли поодиночке и группами все в одну сторону – к заводу. Троллейбусы и автобусы были набиты битком.
– Матвею Яковлевичу салям! – долетел до его ушей радостно-возбуждённый голос.
Старик вздрогнул: «Неужели?» Нет, не он… С той стороны улицы Матвею Яковлевичу, приветствуя его, махали рукой начальник механического цеха Назиров и старший мастер Надежда Николаевна Яснова… Старик поздоровался с ними, приподняв кепку. Вскоре его окликнули вторично, старик опять вздрогнул. На сей раз был вахтёр Айнулла. Поглядывая снизу вверх, он протянул Погорельцеву обе руки и, сказав, что торопится, засеменил вперёд.
Вдруг раздалась полупьяная песня. Матвей Яковлевич обернулся на голос и увидел в толпе наладчика Ахбара Аухадиева. Тот шёл в одной майке, засунув руки в карманы залепленных грязью брюк. Всё лицо у него было в синяках, давно не чёсанные волосы торчали во все стороны, глаза налиты кровью.
– Матвею Яковлевичу моё почтение, – проговорил, подойдя ближе, Аухадиев и, кривляясь и гримасничая, склонил голову.
– Кто это тебя так разукрасил, Ахбар? – спросил Погорельцев, недовольный тем, что этот пьяница портит своим безобразным видом такое прекрасное утро.
– Бутылка! – зло посмеиваясь, ответил Аухадиев. – А что… Всё равно не ценят. Слышал, как вчера начальник цеха… Кому они нужны, золотые руки Аухадиева… всё на свете меняется, а правда, она всегда остаётся правдой.
Эту фразу Аухадиев любил повторять и в цехе, и на собраниях, и на улице. Но трудно было уразуметь, что он хочет сказать этим. Не раз допытывался Матвей Яковлевич у Аухадиева: «О какой это правде ты всё толкуешь, Ахбар Валиевич?» Но Аухадиев отделывался неопределённым: «Правда у рабочего человека одна».
Аухадиев был одним из лучших наладчиков механического цеха. Вчера только он наладил и пустил на полный ход шлифовальный станок новой, незнакомой конструкции, над которым молодые наладчики безуспешно бились чуть не целую неделю. В другое время Погорельцев не отпустил бы от себя Аухадиева в таком виде, но сегодня он почувствовал облегчение, когда тот смешался с толпой.
Сейчас рядом с ним шагал долговязый Баламир. Хотя он вышел из дому гораздо позднее, легко догнал Матвея Яковлевича.
– Давно пора выгнать с завода этого пьяницу, – потянув носом воздух и морщась, сказал Баламир. – Позорит весь коллектив.
Погорельцев пошевелил кончиками усов, посмотрел на Баламира.
– Выгнать недолго… А дальше что?
– Насчёт этого пусть сам думает. Зачем пьёт? – отрезал парень.
И опять Матвей Яковлевич шагал молча, заложив руки за спину, зорко посматривая по сторонам – не покажется ли среди народа Хасан Шакирович.
– Здравствуйте, Матвей Яковлевич, – раздался чуть не под самым ухом Погорельцева звонкий девичий голос. Он увидел в группе школьников Нурию, младшую дочь Сулеймана. Как и все Уразметовы, Нурия с её иссиня-чёрными волосами и смуглым лицом походила на цыганочку. Матвей Яковлевич любил эту шуструю смуглянку. Приветливо поздоровавшись с ней, он спросил:
– Отец что, ещё дома задержался?
– Нет, сзади идёт, – показала Нурия рукой на переулок.
Матвей Яковлевич решил дождаться приятеля. Ещё издали заметил он в толпе кривоногого, широкоплечего, приземистого Сулеймана, его чёрные густые усы. Во взгляде, в движениях его сквозили сила и весёлая бодрость, хитрость, и гордость, и, несмотря на возраст, какая-то бесшабашность. Сулейман тоже заметил Матвея Яковлевича и, ускорив шаг, заспешил к нему.
– Жив-здоров? – густым баском крикнул он ещё издали. – Сегодня раньше обычного, га?
– Утро-то какое чудесное! – проговорил в ответ Матвей Яковлевич, пожимая его твёрдую, как железо, руку.
Сулейман покосился на Погорельцева: «Был у них Хасан или нет?»
Матвей Яковлевич, в свою очередь, с той же целью некоторое время приглядывался к нему. Не сделав никакого определённого вывода, он вынул из кармана дубовый лист и протянул его Сулейману.
– На тротуаре нашёл… Помнишь баиты твоего деда?
У этих двух стариков, совершенно не схожих характером, была одинаково свойственная обоим привычка. Они никогда не торопились делиться новостями или происшедшими в их жизни важными событиями. Они, прежде исподтишка понаблюдав друг за другом, разведывали настроение и только после того, посмеиваясь и по-мальчишески похлопывая один другого по плечу, говорили: «Ну, ну, рассказывай, не морочь голову, уж вижу, вижу, что невтерпёж».
А если ничего заслуживающего внимания не происходило, то шагали молча, зря слов не бросали.
– Вовек не забуду дедушкиных песен, – прошептал Сулейман, как-то сразу притихнув.
«Ясно, и у них не побывал Хасан Шакирович», – подумал Погорельцев. Какое-то неясное чувство, близкое к тоскливому разочарованию, шевельнулось в сердце, но он отогнал его.
– Успел поговорить с Иштуганом? Что-то он того… недоволен командировкой… Остыл.
Сулейман кинул искоса быстрый взгляд на Погорельцева. «Нет, зять у них не был», – в свою очередь заключил он и, расстроившись, сразу перешёл чуть не на крик:
– Да как тут не остыть! Железо и то остывает, когда его передержат на наковальне. Остынешь, коль тебя чуть не каждую неделю гоняют то туда, то сюда… У самих дел по горло, невпроворот, так нет – на сторону ездим людей учить. Вот мы, дескать, умники какие, га! У других-то нехватка его, ума-то, зато у нас в избытке!.. Пожалуйте, сколько вам угодно?.. Нет у нас государственного подхода к новаторам. Вот в чём беда. Серьёзное дело превращаем в чехарду.
Матвей Яковлевич усмехнулся:
– Не ты ли совсем ещё недавно хвастался командировками Иштугана? Вот у меня парень так парень… И такой и сякой… С министрами разъезжает… Неправда, скажешь, а?
Сулейман пробурчал что-то себе под нос. Жилы на его шее набухли.
– Ладно, не береди больного места, – бросил он сердито. – Не зря говорят: ум к татарину приходит после обеда. Дураком был, потому и хвастал…
Дорогу перекрыл красный огонь семафора. Передние машины остановились. Задние резко, с взвизгиванием, притормаживая, вплотную придвигались к ним. Люди тоже сбились кучкой. Кто-то потянул Матвея Яковлевича за рукав. Сулейман, не заметив этого, продолжал протискиваться вперёд, Матвей Яковлевич только собрался крикнуть ему, чтобы тот обождал, как в двух шагах от него остановилась «Победа». Узнав директорского шофёра, обрадованный Матвей Яковлевич заглянул на заднее сиденье и увидел Хасана. Откинувшись на спинку, он с задумчивой сосредоточенностью уставился куда-то перед собой. Лицо невесёлое, губы плотно сжаты, широкий раздвоенный подбородок словно высечен из голубоватого мрамора. В этом хмуром человеке с резковатыми чертами лица с трудом можно было узнать прежнего розовощёкого Хасана.
Старик даже немного растерялся от этой неожиданной, хотя и долгожданной встречи. Горячая волна радости нервным комком застряла в горле. Он хотел крикнуть: «Хасан, сынок!», хотел броситься к машине, но не смог и сдвинуться с места.
От резкого торможения Муртазин поднял голову. Из-за стекла на Матвея Яковлевича уставились равнодушные, холодные глаза. В этих глазах Матвей Яковлевич не прочёл ничего, кроме усталости и недовольства. На одну секунду он усомнился: Хасан ли это? Но Муртазин, увидев седого старика и группу любопытных вокруг него, опустил стекло.
– Что так смотрите, дедушка, или знавали раньше? – спросил он.
Матвей Яковлевич подумал, что Хасан Шакирович просто шутит, а может, и вправду не признал с налёту-то, и, слегка улыбнувшись, с растроганной ласковостью ответил:
– Да вроде того.
Старик ждал, что после этих слов Хасан Шакирович, всмотревшись повнимательнее, распахнёт дверцу и выскочит, чтобы обнять его. Но дверца не раскрылась, Муртазин даже не пошевельнулся.
– Я тоже, кажется, где-то видел вас, – сказал он. Но тут машина тронулась.
Матвей Яковлевич, ошеломлённый случившимся, застыл на месте. Он даже не слышал извинений прохожих, то и дело в спешке отчаянно толкавших его.
– «Я тоже, кажется, где-то видел вас…» – шептал он про себя. – Вот так встреча!..
– Матвей Яковлевич, что с вами? – подхватила старика под руку средняя дочь Сулеймана Гульчира.
Погорельцев пробормотал что-то. Похоже – выругался. Они подошли к проходной. Успевший встать на свой пост Айнулла кричал проходящим:
– Пропуска! Пропуска!
Погорельцев сунул руку в карман, в другой – пропуска не было.
– Ну, к чему вам его пропуск, Айнулла-абзы, разве вы не знаете Матвея Яковлевича, – удивилась Гульчира.
Но Айнулла ничего слышать не хотел.
– Порядок, дочка… У порядка нет ни родных, ни знакомых. Матви Яклич, милый, отойди в сторонку и не мешай, народу проходить надо. Товарищи, готовьте пропуска! Раскрывайте, раскрывайте!.. Ты, браток, мне фокусы не показывай, – одёрнул Айнулла парня в кургузой кепке, который ловко хлопнул своим пропуском перед самым носом вахтёра. – Хранил бы получше! А то ишь, непутёвый, излохматил свой пропуск, что жёваный лист! Это ведь документ…
Нырявшие в проходную рабочие бросали удивлённые взгляды на красного Матвея Яковлевича, что-то растерянно искавшего по карманам. Гульчира, не в силах больше видеть этого, заспорила с Айнуллой. Наконец, подойдя к Матвею Яковлевичу, сама ощупала его карманы.
– Да вот же он, Матвей Яковлевич!..
Старик, не произнеся ни слова, досадливо махнул рукой. Айнулла, словно ничего не произошло, взял из его рук пропуск и, пробежав глазами, вернул с обычной приветливой миной.
– Пожалуйста, Матви Яклич. Только вот срок пропуска выходит, не забудь продлить.

