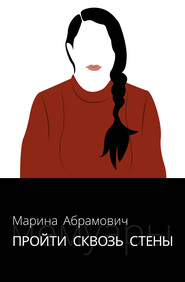скачать книгу бесплатно
Пройти сквозь стены. Автобиография
Марина Абрамович
Автобиография Марины Абрамович – это вербальное высказывание, дышащее такой же силой и бесстрашием, как и ее в основном невербальные художественные перформансы. Она с присущим ей сухим юмором рассказывает о детстве и юности, которые прошли под жестким контролем авторитарной матери, о своем искусстве, пронизанном неисчерпаемым любопытством и желанием познать людей. Центральная часть книги посвящена ее отношениям и коллаборации с художником Улаем – отношениям, которые после 12 лет завершились совместным зрелищным перформансом на Великой Китайской стене.
Марина Абрамович
Пройти сквозь стены. Автобиография. В новой редакции
Я посвящаю эту книгу
ДРУЗЬЯМ и ВРАГАМ
Marina Abramovic
WALK THROUGH WALLS
© Marina Abramovic, 2016
© Катя Ганюшина, перевод
© Яна Овруцкая, составление
© Roberto Atzeni (Florence 2018), «Женщина в красном» («Woman in red»), изображение на обложке
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Благодарность
Я бы не смогла пройти сквозь стены одна.
Прежде всего я бы хотела выразить глубочайшую благодарность Джеймсу Каплану. Он выслушивал меня несчетное количество часов и помог рассказать мою историю. Его желание понять мою жизнь тронуло меня до глубины души.
Я сердечно благодарю Дэвида Куна, убедившего меня, что пришло время написать мемуары, и ставшего моим неустанным гидом в литературном мире, а также благодарю Николь Туртелот.
Спасибо моему издателю Молли Штерн за то, что она открыла свое сердце моей истории и увидела в ней потенциал.
Я более чем признательна моему редактору Тришии Боцковски за ее блестящие комментарии, постоянную поддержку и за понимание моего славянского чувства юмора.
Мне было отрадно работать с высокопрофессиональной, полностью посвящающей себя делу командой Краун Аркетайп: Дэвид Дрейк, Пенни Симон, Джесси Айлен, Джули Кеплер, Мэтью Мартин, Кристофер Брэнд, Элизабет Рендфлиш, Роберт Сик, Кевин Гарсиа, Аарон Блэнк и Уэйд Лукас.
Это благословение – работать с жизнерадостными и страстными членами моей команды в ООО «Абрамович»: Джулиано Аргенциано, Элисон Брейнард, Кэси Куцавлес, Поли Мукай-Хэйдт и Хьюго Хуэрта; и в Институте Марины Абрамович: Серж Ле Борнь, Танос Аргиропулос, Билли Жао, Паула Гарсиа и Линси Пейзинджер.
Я хочу поблагодарить галереи, которые поддерживают мое искусство, о котором вы читаете в этой книге: Галерея Шона Келли, Нью-Йорк; Галерея Лиссон, Лондон; Галерея Лиа Румма, Неаполь и Милан; Галерея Лучианы Брито, Сан-Паулу; Арт Берчи и Компания, Женева; Галерея Кринцингер, Вена; Галерея Брандструп, Осло.
Я надеюсь, что, читая строки этой книги, мой брат Велимир, его дочь Ивана и три моих крестника, Владка, Антонио и Немо, будут лучше понимать некоторые из принятых мной решений и сделанные в жизни выборы.
Спасибо Дэйву Гиббонсу за его неоценимую духовную поддержку в профессиональной и личной жизни, а также Рите Капаса за дружбу и сестринскую любовь.
Спасибо чудесным людям, которые помогали мне оставаться здоровой долгое время, в том числе и в ходе написания этой книги: доктор Дэвид Орентрих, доктор Линда Ланкастер, доктор Рада Гопалан, мой личный тренер Марк Дженкинс и мой массажист Сара Фолкнер.
Мои пути пересеклись со столькими важными для меня людьми – если бы только здесь было достаточно места, чтобы указать их всех.
И последнее: я надеюсь, что эта книга вдохновит и научит каждого, что не существует непреодолимых преград, если вы стремитесь к своей цели и любите то, что вы делаете.
– Булбон, Франция, 2016
Глава 1
Однажды утром мы с бабушкой пошли в лес. Было красиво и тихо. Мне было всего четыре года, я была совсем маленькой. Вдруг я увидела что-то очень странное – прямую линию поперек дороги. Мне стало любопытно, и я подошла поближе, мне захотелось до нее дотронуться. И в этот момент моя бабушка закричала, да так громко. Я очень четко это помню. То была огромная змея.
Впервые в жизни в тот момент я почувствовала страх, но понятия не имела, чего следовало бояться. На самом деле меня напугал голос бабушки. А змея быстро уползла.
Невероятно, как твои родители и окружение встраивают в тебя страх. А ты столь невинен вначале, что даже не подозреваешь об этом.
Я в Белграде. 1951
Я родом из мрачных мест. Послевоенная Югославия с середины 1940-х по середину 1970-х. У власти коммунистический диктатор маршал Тито. Постоянная нехватка всего и серость повсюду. Есть что-то в коммунизме и социализме – особая эстетика, основанная на уродливости. В Белграде моего детства не было даже монументальности московской Красной площади. Все было каким-то вторичным. Как будто лидеры страны посмотрели на чей-то коммунизм через линзу и построили что-то еще менее симпатичное и более провальное.
Я помню эти коммунальные пространства, выкрашенные в грязный зеленый цвет, голые лампочки, светящие серым светом, от которого под глазами образовывались тени. Этот свет вместе с цветом стен делал кожу каждого желто-зеленой, будто все были больны чем-то желудочным. Что бы ты ни делал, во всем присутствовало ощущение угнетения и депрессивности.
В этих массивных уродливых блочных домах жили целыми семьями. Молодым никогда не давали свое жилье, поэтому в каждой квартире жило несколько поколений – бабушка и дедушка, молодая пара, а потом их дети. Это создавало неизбежные сложности – все эти семьи, набитые в очень маленькие пространства. Молодые вынуждены были идти в кино или в парк, чтобы заняться сексом. А о том, чтобы купить что-то новое или красивое, и речи быть не могло.
Шутка тех коммунистических времен. Человек выходит на пенсию, и за выдающиеся трудовые достижения его награждают не часами, а новой машиной. Ему говорят: «Вы – счастливчик! Вы получите свою машину в такой-то день через двадцать лет!» Он спрашивает: «А утром или после обеда?» Официальный представитель удивляется: «А какая вам разница?» – «Ко мне сантехник должен прийти в этот день», – отвечает человек.
Моей семье не пришлось пройти через все это. Родители были героями войны, воевали против нацистов в составе югославских партизан-коммунистов под руководством Тито, поэтому после войны они стали членами партии и получили важные посты. Отец был назначен в элитную гвардию маршала, мать стала директором института, осуществлявшего надзор за историческими памятниками и приобретавшего произведения искусства для общественных зданий. Она также была директором Музея искусства и революции. Благодаря этому мы пользовались большим количеством привилегий. Мы жили в большой квартире в центре Белграда – улица Македонская, дом 32. Это был большой дом в старинном стиле, 1920 года постройки, с элегантными железными конструкциями и стеклами, как в парижских квартирах. Мы занимали целый этаж, восемь комнат на четверых – мои родители, мой брат и я, в то время это было неслыханно. Четыре спальни, столовая, огромный салон (так мы называли гостиную), кухня, две ванные комнаты и комната для прислуги. В салоне стояли шкафы, полные книг, большой черный рояль, а стены были завешаны картинами. Из-за того, что мама была директором Музея революции, она могла посещать студии художников и покупать их холсты – картины, написанные под влиянием Сезанна, Боннара, Виллара, а также много абстрактных работ.
В молодости я считала, что наша квартира была верхом роскоши. Потом я узнала, что она принадлежала богатой еврейской семье и была конфискована во время нацистской оккупации. Позже я также поняла, что картины, развешанные мамой по стенам нашей квартиры, были не очень хорошими. Оглядываясь назад, я думаю, что наш дом был ужасным местом по этой и по другим причинам.
Мои родители Даница и Войин Абрамович. 1945
У моей матери Даницы и отца Войина, известного как Войо, был невероятный роман во время Второй мировой войны. Изумительная история: она была прекрасна, он был красив, и каждый спас жизнь другого. Мама была майором и командовала отрядом на передовой, который находил раненых партизан и доставлял их в безопасное место. Но однажды во время немецкого наступления она заболела тифом. Она была в бессознательном состоянии, у нее был жар, почти полностью накрытая простынкой, она лежала среди тяжелораненых.
Она могла бы легко умереть там, если бы мой отец не был любителем женщин. Увидев длинные волосы, торчащие из-под простынки, он приподнял ткань, чтобы взглянуть на ее лицо. Когда он увидел, как красива она была, то отнес ее в безопасное место в деревню неподалеку, где ее выходили крестьяне.
Спустя шесть месяцев она вернулась на фронт снова доставлять раненых солдат в госпиталь. Там в одном из смертельно раненных она мгновенно узнала человека, спасшего ее. Мой отец умирал от кровопотери, крови для переливания не было. Выяснилось, что у них с мамой одна группа крови, она стала его донором и так спасла ему жизнь.
Как в сказке. Потом война вновь их разлучила.
Но они снова нашли друг друга и, когда война закончилась, поженились. В следующем году родилась я – 30 ноября 1946 года.
Накануне ночью маме приснилось, что она родила гигантскую змею. На следующий день во время заседания ячейки партии у нее отошли воды. Она отказалась прерывать совещание и поехала в больницу, только когда встреча завершилась.
Я родилась раньше срока, роды были тяжелыми. Плацента вышла не до конца, и у матери начался сепсис. Она снова чуть не умерла и пролежала в больнице почти год. Еще долго после этого ей было сложно продолжать работать и воспитывать меня.
Первое время обо мне заботилась горничная, работавшая в нашем доме. У меня было плохое здоровье, я мало ела и была кожа да кости. У горничной был сын того же возраста, что и я, которому она скармливала все, что я не съела. Мальчик стал большим и толстым. Когда к нам в гости пришла моя бабушка Милица, мать моей матери, и увидела, какой тощей я была, она ужаснулась. Она тут же забрала меня к себе, я прожила у нее шесть лет, пока не родился мой брат. Родители навещали меня только по выходным. Для меня они были незнакомцами, появлявшимися раз в неделю с подарками, которые мне не нравились.
Говорят, ходить я не любила. Бабушка сажала меня на стул за кухонный стол, уходила на рынок, а когда возвращалась, я сидела на том же месте. Не знаю, почему я отказывалась ходить. Мне кажется, это могло объясняться тем, что меня все время передавали из одних рук в другие. Я ощущала себя лишней, может быть, мне казалось, если я пойду, то снова лишусь обретенного места.
Проблемы в отношениях родителей начались практически сразу, возможно, еще до моего рождения. Их свела невероятная история любви и привлекательная внешность – их свел вместе секс, – но много всего остального развело их. Мама была интеллектуалкой из состоятельной семьи, училась в Швейцарии. Бабушка рассказывала, что, когда моя мама ушла из дома, чтобы примкнуть к партизанам, она оставила шестьдесят пар обуви, взяв с собой только крестьянские ботинки.
Семья моего отца была бедной, но они были героическими военными. Его отец, майор, был отмечен наградами. А сам папа до войны сидел в тюрьме за коммунистические идеи.
Для мамы же коммунизм был абстрактной идеей, чем-то, о чем она узнала в Швейцарии, изучая Маркса и Энгельса. Стать партизанкой было для нее идеологическим и даже модным выбором. А для отца это был единственный путь, потому что он вышел из бедной, к тому же военной семьи. Он был настоящим коммунистом. Он верил, что коммунизм может изменить классовую систему.
Мама любила ходить на балет, в оперу, на концерты классической музыки. Папа любил жарить поросят и пить со своими товарищами из партизанского движения. То есть общего у них не было практически ничего. Это привело к очень несчастливому браку. Они все время ругались.
Неравнодушие отца к женщинам, когда-то сведшее их с матерью, тоже сыграло в этом свою роль.
С самого начала их брака он изменял ей. Мать ненавидела это, а вскоре возненавидела и его самого. Естественно, я об этом ничего не знала, пока жила с бабушкой. Но когда мне исполнилось шесть и родился мой брат Велимир, меня забрали обратно. Новые родители, новый дом, новый брат, и все одновременно. И практически сразу моя жизнь стала хуже.
Я помню, мне так хотелось назад к бабушке, потому что там я чувствовала себя в безопасности. Там было так спокойно. Все эти ее утренние и вечерние ритуалы придавали дню особый ритм. Бабушка была очень религиозной, и вся ее жизнь строилась вокруг церкви. Каждое утро в шесть часов она зажигала свечку и молилась. А в шесть вечера она зажигала другую свечку и снова молилась. Я ходила с ней в церковь каждый день, пока жила с ней, и выучила всех святых. В ее доме всегда пахло ладаном и свежесваренным кофе. Она жарила зеленые кофейные зерна и потом вручную молола их. Я ощущала глубокое чувство умиротворения в ее доме.
Когда я начала снова жить с родителями, мне стало не хватать этих ритуалов. Мать с отцом работали весь день, оставляя меня с горничными. К тому же я очень ревновала к брату. Он был мальчиком, первым сыном, он мгновенно стал фаворитом. Так заведено на Балканах. У родителей моего отца было семнадцать детей, но его мать держала при себе только фотографии сыновей, дочерей – никогда. Рождение моего брата было воспринято как великое событие. Позже я узнала, что, когда родилась я, отец даже не сказал об этом никому, когда же родился Велимир, Войо гулял с друзьями, выпивал, палил в воздух и потратил много денег.
И что еще хуже, вскоре у брата развилась форма детской эпилепсии – у него начались приступы, и все стали порхать вокруг него и уделять ему еще больше внимания. Однажды, когда никто не следил (мне было тогда шесть или семь), я попыталась помыть его и чуть не утопила; я положила его в ванну, а он бултыхнулся и ушел под воду. Если бы бабушка его не вытащила, я была бы единственным ребенком в семье.
Я, моя тетя Ксения, бабушка Милица и мой брат Велимир. 1953
Конечно, меня наказали. Наказывали меня часто, за малейшие провинности, и наказывали, применяя физическую силу, – били и давали пощечины. Наказывали меня мать и ее сестра Ксения, которая одно время жила с нами, отец – никогда. Они избивали меня до посинения, у меня были повсюду синяки. Иногда они применяли и другие методы. В нашей квартире был потайной гардероб, глубокая и темная кладовка – на сербскохорватском «плакар». Поверхность двери была вровень с поверхностью стены, и не было ручки, чтобы ее открыть, нужно было толкать. Я была очарована этой кладовкой и одновременно боялась ее. Ходить туда было запрещено. Но когда я вела себя плохо или когда тетя и мама говорили, что я вела себя плохо, меня запирали в этой кладовке.
Я очень боялась темноты. Но этот плакар был наполнен привидениями и духами – светящимися созданиями, бесформенными, тихими и совсем нестрашными. Я разговаривала с ними. Для меня их присутствие не было сверхъестественным. Они просто были частью моей реальности, моей жизни. И как только я включала свет, они исчезали.
~
Мой отец, как я уже говорила, был очень симпатичным мужчиной с сильными, суровыми чертами и густой гривой, придающей ему властный вид. Героическое лицо. На военных фотографиях он практически всегда заснят на белом коне. Он сражался в составе 13-й Черногорской дивизии, отряда головорезов, осуществлявших молниеносные рейды к немцам, – это требовало неимоверной отваги. Многие его друзья были убиты на его глазах.
Войо в день освобождения. Белград, 1944
Его младший брат был взят нацистами в плен и замучен до смерти. Головорезы моего отца схватили солдата, убившего его брата, и привели к нему. Мой отец не застрелил его. Он сказал: «Никто не может вернуть моего брата к жизни» – и отпустил того солдата. Он был воином и глубоко этически относился к сражению.
Мой отец никогда не наказывал меня ни за что, никогда не бил, и я полюбила его за это. И несмотря на то что он много времени проводил в военных командировках, пока мой брат был маленьким, постепенно мы с Войо стали друзьями. Он всегда делал для меня приятные вещи. Я помню, как он водил меня на карнавалы и покупал конфеты.
В такие выходы мы редко бывали с ним наедине, его обычно сопровождала одна из подружек. Подружка покупала мне чудесные подарки, которые я, счастливая, приносила домой, говоря: «О, прекрасная дама со светлыми волосами купила мне все это». Моя мама выбрасывала всё в окно.
Папа и я. 1950
Брак моих родителей был похож на войну – я никогда не видела их целующимися, обнимающимися или выказывающими друг другу симпатию. Может быть, эта привычка осталась с партизанских времен, но они спали с пистолетами на прикроватных тумбочках! Я помню, как однажды, в тот редкий период, когда они разговаривали друг с другом, отец пришел домой на обед, и мама спросила его: «Будешь суп?» И когда он ответил утвердительно, она подошла сзади и вылила горячий суп ему на голову. Он закричал, оттолкнул стол, перебил всю посуду и выбежал. Это напряжение было всегда. Они никогда не разговаривали. У нас никогда не было рождественских праздников, когда бы все были счастливы.
Мы вообще не праздновали Рождество, потому что были коммунистами. Но моя бабушка была очень религиозной и отмечала православное Рождество 7 января. Это было чудесно и ужасно. Чудесно, потому что она готовилась к нему во всех деталях в течение трех дней – специальная еда, украшения, все. Но она была вынуждена завешивать окна черными шторами, потому что праздновать Рождество в те дни в Югославии было опасно. Шпионы составляли списки семей, собирающихся по праздникам, потому что правительство награждало за доносы. Мы по одному приезжали к бабушке и отмечали Рождество за закрытыми шторами. Бабушка была единственной, кто был способен собрать и объединить мою семью. Это было прекрасно.
И традиции были красивы. Каждый год бабушка пекла сырный пирог и запекала в нем серебряную монету. Если тебе попадалась монета и зуб не ломался, это означало удачу. Монету нужно было хранить до следующего года. Бабушка также посыпала нас рисом – считалось, кому достанется больше риса, тому достанется больше процветания в следующем году.
Ужаснее всего было то, что родители не разговаривали друг с другом даже в Рождество. И каждый год я получала в подарок что-то полезное, но что мне совсем не нравилось. Шерстяные носки, или какие-то книжки, которые мне надо было прочитать, или фланелевую пижаму. Пижама всегда была на два размера больше – мама говорила, она сядет после стирки, но этого никогда не происходило.
Я никогда не играла в куклы. Мне никогда и не хотелось кукол. Я вообще не любила игрушки. Я предпочитала играть с тенями машин на стене или лучом света из окна. Свет делал видимыми частички пыли в воздухе, и я воображала, что это маленькие планеты с галактическими пришельцами, прилетевшими к нам в гости. А в плакаре жили светящиеся существа. Мое детство было наполнено духами и невидимками. Я могла видеть тени и мертвых людей.
~
Одним из моих самых больших страхов был страх крови – моей собственной. Когда я была маленькой и мать с тетей били меня, у меня повсюду были синяки, а из носа постоянно текла кровь. А когда у меня выпал первый молочный зуб, кровотечение не прекращалось три месяца. Мне приходилось спать сидя, чтобы не захлебнуться. В конце концов родители отвели меня к врачу, и выяснилось, что у меня заболевание крови. Сначала подозревали лейкемию. Отец с матерью положили меня в больницу, где я провела почти год. Мне было шесть лет. Это был самый счастливый период моего детства.
Мои родственники были добры ко мне. Они приносили мне хорошие подарки, желали, чтобы я поправлялась. Все в больнице тоже были милы. Это был рай. Врачи продолжали брать анализы и выяснили, что у меня была не лейкемия, но что-то мистическое – возможно, психосоматическая реакция на побои мамы и тети. Меня сначала лечили, а потом отправили домой, где побои продолжились, ну, может быть, стали немного реже.
От меня ожидалось безропотное принятие наказания. Я думаю, что в каком-то смысле мама делала из меня солдата, как она сама. Она могла быть неоднозначным коммунистом, но в жестокости ей не откажешь. Настоящие коммунисты обладали решимостью, позволяющей им проходить сквозь стены, – спартанской решимостью. «Боль, я могу терпеть боль, – сказала Даница мне впоследствии в интервью. – Никто никогда не слышал и не услышит, как я кричу». В кабинете стоматолога она настаивала, чтобы зуб ей тащили без анестезии.
Самодисциплине я научилась у нее и всегда ее боялась.
Мать была одержима порядком и чистотой, отчасти благодаря своему военному прошлому, а с другой стороны, возможно, так она реагировала на хаос в ее браке. Она могла разбудить меня посреди ночи, если считала, что у меня простыни в беспорядке. Я до сих пор сплю на одной половине кровати, абсолютно неподвижно. Когда я просыпаюсь утром, мне остается только накрыть постель покрывалом. Когда я сплю в отеле, мое присутствие там даже незаметно.
Я также узнала, что имя мне дал папа, и назвал он меня в честь девушки-солдата, в которую был влюблен на войне. Ее разорвало гранатой у него на глазах. Маму эта привязанность возмущала и обижала до глубины души, и, по ассоциации, я думаю, она испытывала такие же чувства ко мне.
Моя мать во время визита болгарской делегации. Белград, 1966
Зацикленность Даницы на порядке проникла в мое бессознательное. Меня постоянно мучил кошмар про симметрию, очень тревожный сон. В этом сне я была генералом, инспектирующим длинную линию идеальных солдат. Потом я убирала пуговицу с формы одного солдата, и весь порядок рушился. Я просыпалась в абсолютной панике. Я так боялась нарушить симметрию.
В другом повторяющемся сне я входила в салон самолета, в котором не было ни одного пассажира. Все ремни безопасности были аккуратно уложены, за исключением одного. И при виде его меня охватывала паника, как будто в этом была моя вина. В том сне я всегда была виноватой в нарушении симметрии, что было непозволительно, и некая высшая сила наказывала меня за это.
Я считала, что мое рождение нарушило симметрию родительского брака – их отношения стали ужасными и жестокими после моего рождения. И мать всю мою жизнь говорила, что я такая же, как отец, который ушел. Симметрией и порядком мать была одержима так же сильно, как и искусством.
С шести или семи лет я уже знала, что хочу быть художницей. Мать наказывала меня за многое, но в этом отношении вдохновляла. Искусство было для нее святым. И поэтому в нашей огромной квартире у меня была не только своя комната, но и своя студия. И в то время как вся остальная квартира была захламлена разными вещами, картинами, книгами, мебелью, свои комнаты я с ранних лет содержала в спартанских условиях. Настолько пустыми, насколько было возможно. В спальне были только кровать, стул и стол. В студии – только мольберт и краски.
Мои первые картины были о моих снах. Они были для меня реалистичнее, чем реальность, в которой я жила, – реальность мне не была симпатична. Я помню, как просыпалась, а воспоминания о снах были такими явными, что я сначала их записывала, а потом рисовала. Рисовала я двумя определенными цветами – темно-зеленым и темно-синим. Другими – никогда.
Эти цвета меня особенно привлекали – не знаю почему. Сны для меня были зелено-синими. Из старых штор я сделала себе длинное платье ровно этих цветов, цветов моих снов.
Одежда, которую я сделала из штор. 1960
Такая жизнь кажется привилегированной, и в каком-то смысле она была такой – в коммунистическом мире серости и лишений я жила в роскоши. Я никогда не стирала свою одежду. Я никогда не гладила. Никогда не готовила. Мне в жизни не приходилось убирать комнату. Все делали за меня. И все, что требовалось от меня, – учиться и быть лучшей.
Я брала уроки фортепьяно, английского, французского. Моя мама была фанаткой французской культуры – все французское было прекрасным. Мне очень повезло. Но посреди этой роскоши я была совсем одна. Единственная моя свобода была в свободе выражения. На рисование деньги были, на одежду – нет. На то, чего мне действительно так хотелось в юном возрасте, денег не было.
Тем не менее, если мне хотелось книгу, я ее получала. Если я хотела пойти в театр, я получала билет. Если я хотела послушать классическую музыку, мне предоставлялись записи. И вся эта культура не просто предлагалась мне, а впихивалась в меня. Мать, уходя на работу, оставляла записки, сколько предложений на французском мне нужно выучить, какие книжки прочитать, – все было спланировано.
По приказу матери я должна была прочитать всего Пруста от начала до конца, всего Камю, Андре Жида; отец хотел, чтобы я прочитала всех русских писателей. Но даже по принуждению книги были моим спасением. Как и со снами, реальность книг была сильнее реальности вокруг.
Когда я читала, все вокруг переставало существовать. Все несчастья моей семьи – горечь родительских распрей, глубокая бабушкина печаль по поводу того, что у нее все отняли, – исчезали. Я сливалась с персонажами воедино.
Мне нравились экстремальные истории. Я любила читать про Распутина, которого не могла убить ни одна пуля; коммунизм, замешенный на мистицизме, был у меня в генах. Никогда не забуду странный рассказ Камю «Ренегат» – про миссионера, собиравшегося обратить в свою веру племя, которое в итоге обратило его в свою. Когда он нарушил одно из их правил, они отрезали ему язык.
Меня неимоверно увлекал Кафка. Я просто проглотила «Замок» – я на самом деле чувствовала, как живу внутри этой книги. Кафка каким-то сверхъестественным образом вовлекал в бюрократический лабиринт, по которому пытался пройти главный персонаж К. Это было агонизирование: выхода не было. Я страдала вместе с К.
Читать Рильке, напротив, было как дышать чистым поэтическим кислородом. Он говорил о жизни так, как я и не могла помыслить до этого. Его выражение космических страданий и универсального знания было связано с идеями дзен-буддизма и суфизма, которые я раскрыла для себя позже. Впервые наткнувшись на них, я уже была пропитана ими насквозь:
«Не этого ли, земля, ты хочешь? Невидимой в нас
Воскреснуть? Не это ли было
Мечтой твоей давней? Невидимость! Если не преображенья,
То чего же ты хочешь от нас?»[1 - Р.-М. Рильке. Элегия девятая. Перевод В. Микушевича.]
Единственным хорошим подарком, который подарила мне мать, была книжка «Письма 1926 года» – переписка Рильке, русской поэтессы Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, автора «Доктора Живаго». Эти трое никогда не встречались, но восхищались произведениями друг друга и в течение четырех лет писали и отсылали друг другу сонеты. По этой переписке они страстно влюбились друг в друга.