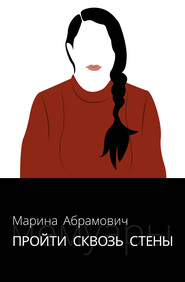скачать книгу бесплатно
Можете ли вы представить, что означало для одинокой пятнадцатилетней девочки наткнуться на такую историю? (А тот факт, что мое имя совпадало с именем Цветаевой, казалось мне, был космически значимым.) В любом случае дальше произошло то, что Цветаева стала больше влюбляться в Рильке, чем в Пастернака, и написала Рильке, что хочет приехать в Германию для встречи с ним. «Вам нельзя, – написал в ответ Рильке. – Вам нельзя встречаться со мной».
Это лишь распалило ее страсть. Она продолжила писать, настаивая на встрече. В конце концов он написал: «Вам нельзя встречаться со мной – я умираю».
«Я запрещаю вам умирать», – ответила она. Но он все равно умер, и треугольник распался.
Цветаева и Пастернак продолжили писать сонеты друг другу, она – в Москве, он – в Париже. Потом она была вынуждена покинуть Россию – из-за того, что была замужем за белым офицером, которого коммунисты хотели посадить за решетку. Она уехала на юг Франции, но когда деньги закончились, была вынуждена вернуться в Россию. С Пастернаком они решили, что она сделает остановку на Лионском вокзале в Париже по пути домой и они наконец-то встретятся, впервые после четырех или пяти лет этой страстной переписки.
Оба невероятно нервничали, когда наконец-то встретились. У нее был старый русский чемодан, настолько набитый вещами, что постоянно открывался. Видя, как она пытается его закрыть, Пастернак бросился за веревкой, нашел ее и связал чемодан.
Они сидели там, практически не в силах говорить – письма завели их так далеко, что, когда они оказались рядом, эмоции захлестнули. Пастернак сказал, что пойдет за сигаретами, ушел и уже больше не вернулся. Цветаева осталась ждать и ждала, пока не пришел ее поезд. Она взяла чемодан, который починил Пастернак, и уехала в Россию.
Она вернулась в Москву. Ее муж сидел в тюрьме, денег у нее не было. Поэтому она отправилась в Одессу и там в отчаянных попытках выжить написала письмо в литературное общество с просьбой взять ее в уборщицы. Ей ответили, что в ее услугах не нуждаются. И она, воспользовавшись той же веревкой, которой Пастернак скрепил ее чемодан, повесилась.[2 - Эта история запомнилась Марине Абрамович не совсем верно. На самом деле Марина Цветаева вернулась в СССР в 1939 году вслед за мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной, которые вскоре были арестованы. Сама Цветаева в начале войны была эвакуирована в Елабугу и пыталась найти работу судомойки в столовой Литфонда в Чистополе. Повесилась она 31 августа 1941 года в Елабуге, в том самом доме, куда была определена на постой. (Прим. ред.)]
Когда мне попадались такие книги, я не выходила из дома, пока не дочитывала до конца. Я доходила до кухни, ела, возвращалась в комнату и продолжала читать, позже снова шла есть и возвращалась обратно. Только так. Целыми днями.
~
Когда мне было двенадцать или около того, моя мама обзавелась швейцарской стиральной машиной. Это было целое событие – мы были одной из первых семей в Белграде, у кого появилась такая машина. Прибыла она однажды утром, сияющая, новая и таинственная, и ее поставили в ванную. Бабушка ей не доверяла. Она стирала в ней, а потом доставала оттуда белье и просила горничную постирать его вручную еще раз.
Как-то утром, когда не нужно было идти в школу, я просто сидела в ванной, уставившись на эту пленительную машину, перемешивающую одежду с монотонным звуком – ДЫН-ДЫН-ДЫН-ДЫН. Я была загипнотизирована. У машины был автоматический отжим и два резиновых валика, медленно крутившихся в противоположных направлениях, пока белье перемешивалось в машинке. Я начала баловаться с этим механизмом – вставлять палец между валиками и быстро отдергивать.
В какой-то момент я не успела выдернуть палец, и валики начали затягивать его, сжимая. Боль была невыносимой, и я закричала. Бабушка была на кухне, услышав меня, она прибежала в ванную, но, мало зная про технику, она не догадалась просто выдернуть шнур из розетки. Вместо этого она решила искать помощи на улице. А тем временем валики затягивали мою руку дальше.
Мы жили на третьем этаже, бабушка была женщиной тучной, спуск и обратный подъем заняли у нее какое-то время. Она вернулась с молодым мускулистым мужчиной, а к тому времени медленно крутившиеся валики уже затянули мое предплечье.
Парень тоже плохо был знаком с техникой, и выдернуть шнур ему в голову тоже не пришло – чтобы спасти меня, он решил применить силу. Используя всю свою мощь, он разжал валики и получил такой невероятный электрический шок, что его отбросило на другой край ванной комнаты, где он упал без сознания. Я тоже упала на пол, моя рука была синей и распухла.
В это время домой пришла мать, она сразу все поняла; вызвала «Скорую», а потом отвесила мне огромную оплеуху.
~
Изучение партизанской истории было очень важным предметом в школе во времена моего детства. Мы были обязаны знать имя каждого участника битвы, каждую речку и мост, которые пересекали солдаты. Ну и конечно, мы должны были знать про Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса. В каждом общественном пространстве в Белграде висел огромный портрет маршала Тито, а слева и справа от него – портреты Маркса и Энгельса.
В возрасте семи лет ты вступал в пионеры, становясь таким образом частью партии. Тебе давали красный галстук, который должен был быть всегда выглажен, а когда ты его снимал, лежать он должен был у изголовья твоей кровати. Мы учились маршировать, петь коммунистические песни, верить в будущее нашей страны и т. д. Я помню, как гордилась этим галстуком и тем, что была пионером и частью партии. Я была в ужасе, когда однажды узнала, что отец, у которого волосы всегда были хорошо уложены, использовал мой пионерский галстук в качестве банданы для придания формы прическе.
Большое значение имели парады, и дети тоже были обязаны в них участвовать. Мы праздновали 1 Мая – это был международный праздник всех коммунистов – и 29 ноября – день, когда Югославия стала республикой. Все дети, родившиеся 29 ноября, могли встретиться с Тито и получить от него в подарок конфеты. Мама сказала мне, что я родилась 29-го, но не разрешала ходить за конфетами. Она говорила, что я недостаточно хорошо себя веду для такой привилегии. Это был еще один метод наказания. Спустя несколько лет, когда мне было десять, я узнала, что родилась 30 ноября, а не 29-го.
~
Месячные у меня начались, когда мне было двенадцать, и длились десять дней – было столько крови. Кровь текла и текла – красная жидкость, выливающаяся из моего тела без остановки. Я была этим так напугана, при всех моих детских воспоминаниях о неконтролируемых кровотечениях и лежании в больнице. Я думала, я умираю.
Что такое менструация, мне объяснила наша горничная Мара, а не моя мать. Мара была доброй округлой женщиной с большой грудью и пухлыми губами. Когда она тепло обняла меня, чтобы рассказать, что происходило с моим телом, я вдруг странным образом очень сильно захотела поцеловать ее в губы. Поцелуя не случилось, случился конфуз – желание не было взаимным. Но мое тело вдруг наполнилось противоречивыми ощущениями. Тогда же я начала мастурбировать, часто и всегда с глубоким ощущением стыда.
С половой зрелостью ко мне пришли первые мигрени. Моя мать тоже от них страдала. Раз или два в неделю она приходила с работы рано и запиралась в своей комнате в темноте. Бабушка клала ей на голову что-то холодное – замороженный кусок мяса, картошку или огурец, – и всем было запрещено производить какие-либо звуки в квартире. Даница, конечно, никогда не жаловалась – такова была ее спартанская решимость.
Я не могла проверить, насколько болезненными были мои мигрени, – мать никогда не рассказывала про свои и никогда не проявляла сочувствия ко мне. Приступы длились целые сутки. Я лежала в постели, изредка выбегая в ванную, чтобы поблевать и опорожнить кишечник одновременно. От этого боль только усиливалась. Я приучала себя лежать неподвижно в определенной позе – рука на лбу, ноги полностью вытянуты, голова наклонена определенным образом. Казалось, это немного облегчало агонию. Так я начала учиться принимать и преодолевать боль и страх.
Примерно в то же время в шкафу под простынями я обнаружила документы о разводе родителей. Но еще три года они продолжали жить вместе, в аду, продолжая спать в одной спальне с пистолетами у изголовья. Ужаснее всего было, когда отец возвращался домой посреди ночи, мать приходила в бешенство, и они начинали лупить друг друга. Потом она прибегала в мою спальню, выдергивала меня из постели и держала перед собой как щит, чтобы он прекратил ее бить. Она никогда не выволакивала моего брата, всегда только меня.
Мой брат Велимир. 1962
Даже сейчас я не переношу, когда кто-то повышает голос со злости. Когда это происходит, я просто столбенею. Как будто от инъекции – я просто не могу пошевелиться. Это автоматическая реакция. Я могу разозлиться и сама, но на то, чтобы начать кричать от злости, мне нужно время. Это требует огромных затрат энергии. Я иногда кричу в своих работах, это один из способов избавиться от собственных демонов. Но это не то же самое, что кричать на кого-то.
Мой отец продолжал быть мне другом, а мать все больше становилась врагом. Когда мне было четырнадцать, она стала югославским послом ЮНЕСКО в Париже, и ей приходилось оставаться там месяцами. Когда она уехала в первый раз, отец принес в гостиную большие гвозди, взобрался на стремянку и забил их в потолок. Штукатурка была везде! На гвозди он повесил качели для нас с братом – мы были в восторге. Мы были на небесах – это была абсолютная свобода. Мать вернулась и взорвалась, увидев это. Качели сняли.
На мой четырнадцатый день рождения отец подарил мне оружие. Это был красивый маленький пистолет с рукояткой цвета слоновой кости и серебряным стволом с гравировкой. «Чтобы носить в твоей сумочке», – объяснил он. Я так никогда и не поняла, шутил он или нет. Он хотел, чтобы я научилась стрелять, поэтому я пошла в лес и пару раз выстрелила, потом случайно уронила пистолет в глубокий снег. Найти его я уже не смогла.
Еще, когда мне было четырнадцать, отец взял меня с собой в стрип-клуб. Это было дико непозволительно, но я не задавала вопросов.
Я хотела нейлоновые чулки, запретную вещь, по понятиям моей матери, – только проститутки носили такие. Отец купил мне чулки. Мать выбросила их в окно. Я знала, что с его стороны это была взятка, чтобы я любила его и не рассказывала матери о его выходках, но мать и так знала обо всем.
Она запрещала нам с братом приводить домой друзей, потому что до смерти боялась микробов. Мы были такими стеснительными, другие дети дразнили нас.
Однажды моя школа участвовала в программе обмена учениками с Хорватией. Я жила у хорватской девочки в Загребе – у нее была самая замечательная семья. Ее родители любили друг друга и своих детей, во время еды они вместе садились за стол, разговаривали и много смеялись. Потом девочка приехала в мою семью – и я была в ужасе. Мы не разговаривали. Мы не смеялись. Мы даже не собирались вместе. Мне было так стыдно за себя, за свою семью, за полное отсутствие любви в моем доме – это чувство стыда было сжигающим, словно ад.
В четырнадцать я позвала домой одного мальчика из школы, с которым дружила, сыграть в русскую рулетку. Дома никого не было. Мы сели в библиотеке за стол напротив друг друга. Я взяла из тумбочки папин револьвер, вынула все пули, кроме одной, прокрутила барабан и передала другу. Он приставил дуло к виску и нажал на курок. Мы услышали лишь щелчок. Он передал револьвер мне. Я прижала его к виску и нажала на курок. Снова лишь щелчок. Потом я направила револьвер на книжный шкаф и нажала на курок. Раздался сильный взрыв, пуля пролетела через всю комнату и воткнулась в корешок «Идиота» Достоевского. Через минуту я почувствовала холодный пот и тряслась не переставая.
~
Подростковый период моей жизни был несчастным и неловким до отчаяния. Я была самым гадким ребенком в школе, экстраординарно некрасивым. Худая и высокая, дети звали меня Жирафой. Я была вынуждена сидеть за последней партой из-за своего роста, но ничего не могла оттуда увидеть и получала плохие оценки. В итоге стало понятно, что мне нужны очки. И речь не о нормальных очках. То были отвратительные очки производства коммунистической страны, с толстыми стеклами и тяжелой оправой. Поэтому я пыталась их сломать – клала на стул и садилась на них. Или я оставляла очки на подоконнике и «случайно» захлопывала окно.
Мать никогда не покупала мне одежду, как у других детей. Одно время были популярны нижние юбки, и мне до смерти хотелось иметь такую, но она мне ее не купила. И не потому, что не было денег. Деньги были. У родителей было больше денег, чем у кого бы то ни было, потому что они были партизанами, коммунистами, красной буржуазией. Чтобы создать впечатление, что на мне нижняя юбка, я надевала шесть-семь обычных юбок. Но всегда что-то было не так – то какая-нибудь юбка торчала из-под другой, то юбки падали.
С отцом, в импровизированной нижней юбке. 1962
Еще были ортопедические туфли. Из-за плоскостопия я была вынуждена носить специальную обувь – не просто какие-то корректирующие туфли, а ужасные социалистические ботинки из тяжелой желтой кожи, закрывающие лодыжку. Уродства и тяжести этих ботинок было недостаточно для моей матери, и она сделала у сапожника две железные набойки на них, как у лошади, – чтобы ботинки дольше служили. Когда я в них шла, они издавали такой звук – клип-клоп.
Боже, в этих ботинках «клип-клоп» меня было слышно везде. Мне даже пройти по улице в них было страшно. Если кто-то шел позади меня, я останавливалась у какой-нибудь двери, чтобы пропустить этого человека, – так стыдно мне было. Мне особенно запомнился один первомайский парад, когда моей школе выпала честь маршировать перед самим Тито. Все должно было быть идеально – мы целый месяц оттачивали точность наших движений в школьном дворе. Утром 1 Мая мы собрались перед началом парада, и почти сразу после его начала одна из металлических набоек на моих ботинках слетела, я уже не могла хорошо шагать. Меня тут же вывели из парадной колонны. Я рыдала от стыда и злости.
Итак, представьте, у меня были худые ноги, я носила ортопедические ботинки и отвратительные очки. Мать стригла меня коротко, выше ушей, закалывая волосы невидимками, и одевала в тяжелые шерстяные платья. У меня было детское личико и невероятно большой нос. Нос был размером как у взрослого человека, а лицо – нет. Я чувствовала себя ужасно некрасивой.
Я постоянно спрашивала маму, можно ли подкорректировать мой нос, и каждый раз, когда я спрашивала ее об этом, она давала мне пощечину. И я придумала секретный план.
В то время Брижит Бардо была суперзвездой, а для меня она была идеалом сексуальности и красоты. Мне казалось, что стоит мне сделать такой же нос, как у нее, и все будет хорошо. Я разработала план, который казался мне верхом совершенства. Я вырезала фото Брижит Бардо, снятые со всех ракурсов – анфас, справа, слева, – на которых был виден ее красивый нос, и сложила их в карман.
У моих родителей была огромная деревянная супружеская кровать. Утром, когда отец по обыкновению играл в шахматы в городе, а мать пила кофе с друзьями, я была дома одна. Я пошла в их спальню и закружилась так быстро, как только могла. Я хотела упасть на острый край кровати и сломать себе нос, чтобы меня отвезли в больницу. Фото Брижит Бардо были у меня в кармане, и мне казалось, что врачам не составит труда сделать мне нос, как у нее. По моему мнению, это был идеальный план.
Итак, я закружилась, упала и ударилась о кровать, но не носом. Вместо этого я очень сильно порезала щеку. Я долго лежала на полу, истекая кровью. В итоге домой вернулась мать. Она просканировала ситуацию своим суровым взглядом, выбросила фотографии в унитаз и отвесила мне пощечину. Оглядываясь назад, я так счастлива, что не сломала нос, мое лицо с носом Брижит Бардо было бы катастрофой. К тому же постарела она не очень красиво.
~
Мои дни рождения всегда были грустными, а не счастливыми праздниками. Во-первых, я всегда получала не тот подарок, а потом, моя семья никогда по-настоящему не собиралась вместе и никогда не радовалась. Я помню, в свой шестнадцатый день рождения я так долго плакала, осознав впервые, что умру. Я чувствовала себя такой нелюбимой, брошенной всеми. Я снова и снова слушала Концерт № 21 для фортепиано Моцарта – эта музыка заставляла мою душу кровоточить. И в какой-то момент я перерезала вены. Крови было так много – я думала, что умру. Выяснилось, что порез был глубоким, но не задел жизненно важных артерий. Бабушка отвезла меня в больницу, мне наложили четыре шва; матери она так никогда ничего и не сказала.
Я писала грустные стихи о смерти. Но в моей семье об этом никогда не говорили, особенно в присутствии бабушки. Мы вообще не обсуждали ничего неприятного в ее присутствии. Спустя годы, когда разразилась боснийская война, брат залез на крышу дома, где была квартира бабушки, и начал трясти телевизионную антенну, чтобы бабушка подумала, что с ее телевизором что-то не так, и отдала его в ремонт. Поэтому (а еще потому, что она не выходила из дома) она так никогда и не узнала о войне.
Когда мне было семнадцать, родители устроили вечеринку в честь восемнадцати лет их счастливого брака. Они приготовили ужин и позвали друзей. Когда гости разошлись, снова началась драма.
Отец пошел на кухню, чтобы что-то убрать, что само по себе было странным, так как он никогда ничего не делал по хозяйству. По какой-то необъяснимой причине он сказал мне: «Давай помоем бокалы для шампанского. Ты вытираешь».
Я взяла полотенце и приготовилась вытирать. Но он случайно разбил первый же бокал, а в этот момент в кухню зашла мама и, увидев на полу осколки, взбесилась. Они только что несколько часов притворялись счастливыми, и все это время она копила злость, горечь и ярость. Увидев на полу бокал, она начала вопить на отца по поводу всего: что он был неуклюжим, что их брак катастрофа, что он изменял ей со столькими женщинами. Он просто стоял, а я просто держала маленькое полотенце в руке.
Она кричала и кричала, а отец молчал. И даже не двигался. Словно в пьесе Беккета. Спустя много минут, оплакивая все дерьмо в их браке, она остановилась, потому что он не отвечал. В конце концов он сказал: «Ты закончила?» И когда она ответила «да», он взял бокал и начал бить их один за другим. Он разбил об пол все одиннадцать бокалов. Потом сказал: «Я не в силах выслушивать это еще одиннадцать раз», – и вышел из дома.
Это было началом конца. Чуть позже он съехал из квартиры. В ту ночь он зашел ко мне в спальню попрощаться и сказал: «Я ухожу и больше не вернусь, но мы с тобой будем видеться». Он переехал в отель и больше не вернулся.
На следующий день я рыдала так, что у меня случилось что-то вроде нервного срыва. Вызвали врача, чтобы он мне что-то вколол – сама я не могла остановиться. Я сошла с ума от горя, потому что я всегда чувствовала, что отец любил и поддерживал меня. Я знала, что с его уходом мне будет еще более одиноко и грустно.
Но потом к нам переехала бабушка.
~
Кухня стала центром моего мира – все происходило на кухне. У нас была горничная, но бабушка Милица не доверяла ей и первым делом с утра шла на кухню и перенимала дела. На кухне были печка и большой стол, за который я садилась и болтала с бабушкой о своих снах. Это в основном все, что мы делали вместе. Ее очень интересовали значения снов, она читала их как знаки. Если тебе снилось, что у тебя выпадают зубы, но боли ты не чувствовал, это означало, что знакомый тебе человек умрет. Но если боль ты ощущал, это означало, что умрет кто-то из твоей семьи. Видеть кровь во сне означало скоро получить добрые вести. Если тебе снилась твоя смерть, это означало, что жить ты будешь долго.
Мать уходила на работу в 7.15 утра, и все расслаблялись. Когда после обеда (ровно в 2.15) она возвращалась, было ощущение, что снова ввели военный порядок. Я всегда боялась сделать что-то не так, боялась, что она заметит, что я сдвинула книжку или нарушила какой-то порядок в доме.
Как-то, когда мы сидели за кухонным столом, бабушка рассказала мне свою историю – мне кажется, со мной она была более открытой, чем с кем-либо.
Мама бабушки была из богатой семьи, но влюбилась в прислугу. Это, конечно, было запрещено, и семья от нее отреклась. Прабабушка со своим возлюбленным уехала в его деревню, и они жили в нищете. Она родила ему семерых детей и, чтобы их прокормить, работала прачкой. Она даже стирала для семьи своих родителей. Те платили ей и иногда давали поесть. Но в доме все равно не хватало еды. Бабушка говорит, что из-за гордыни прабабка всегда ставила на печку четыре горшка. Все это было для вида, на случай, если соседи зайдут в дом. В них она кипятила воду, потому что продуктов не было.
Бабушка была младшей и самой красивой в семье. Однажды, когда ей было пятнадцать, по дороге в школу она заметила мужчину, который смотрел на нее. Когда она пришла домой, мать велела ей сварить кофе, потому что к ней пришли свататься. Так дела делались в то время.
Для семьи бабушки интерес того мужчины был благословением – у них ничего не было, а с замужеством дочери на один рот становилось меньше. И что еще лучше, жених был из городских и богатых, но также был и значительно старше ее – ей было пятнадцать, а ему тридцать пять. Она помнила тот день, когда готовила и несла ему кофе по-турецки, это был первый реальный шанс увидеть лицо будущего мужа. Но она постеснялась даже взглянуть на него. Он обсудил с родителями свадьбу и ушел.
Через три месяца ее отвезли к месту, где должно было пройти венчание. В пятнадцать лет она вышла замуж и стала жить в доме того человека. Она была еще ребенком, девственницей. Никто никогда не говорил ей о сексе.
Она рассказала, что случилось в первую ночь, когда он попытался заняться с ней любовью. Она закричала «чертов убийца» и бросилась в комнату его матери – они жили все вместе, – там она спряталась в ее постели со словами: «Он хочет убить меня! Он хочет убить меня!» Его мать обнимала ее всю ночь и говорила: «Нет, он не хочет убить тебя, это другое». Она потеряла девственность только три месяца спустя.
У мужа бабушки было два брата. Один служил священником в православной церкви, другой вел бизнес вместе с моим дедом. Они были купцами, импортировали специи, шелк и другие товары с Ближнего Востока. У них были магазины, дома, земельные участки, и они были очень богаты.
Брат дедушки, священник, в итоге стал патриархом югославской православной церкви, вторым по могуществу человеком в стране после короля. В начале 1930-х, когда Югославия была еще монархией, король Александр попросил патриарха объединить православную и католическую церкви. Патриарх отказался.
Король пригласил патриарха и двух его богатых братьев на обед. Они пришли, но изменить свое решение патриарх отказывался.
Тогда им подали еду, в которую была подмешана алмазная крошка. В течение месяца или трех патриарх, мой дедушка и их брат умирали ужасной смертью от внутренних кровотечений. Так моя бабушка овдовела в очень раннем возрасте.
Отношения бабушки и моей матери были странными – плохими. Бабушка сердилась на маму все время, по многим причинам. Перед войной бабушке, богатой вдове, пришлось сесть в тюрьму из-за того, что ее дочь была отъявленной коммунисткой; от тюрьмы ей пришлось откупаться золотом, оставленным ей в наследство. После войны, когда к власти пришли коммунисты, мать, дабы показать свою приверженность партии, отвергла свои притязания на все, чем владели она и ее мать. На самом деле она составила список всего, что принадлежало бабушке, и передала его в коммунистическую партию, потому что была ярой коммунисткой и это было во благо страны. Так моя бабушка лишилась всех своих магазинов, земель и домов. Она потеряла все. Она чувствовала себя глубоко преданной своей собственной дочерью.
А теперь, когда отец ушел, бабушка жила с нами. Это было трудно и для нее, и для моей матери, но так важно для меня.
У меня до сих пор сохранились живые воспоминания, связанные с ней. С тридцати лет бабушка начала откладывать вещи, в которых хотела быть похоронена. Каждые десять лет с изменением моды она меняла набор этой одежды. Вначале это было что-то в бежевых тонах. Потом – в горошек. После этого – темно-синяя одежда в тонкую полоску и так далее. Она дожила до ста трех лет.
Когда я спросила ее, что она помнит о Первой и Второй мировых войнах, она ответила: «Немцы очень корректны. Итальянцы всегда пытаются найти пианино и устроить вечеринку. Когда приходят русские, все разбегаются, потому что они насилуют всех женщин, и молодых, и старых». А еще я помню, когда бабушка впервые летела на самолете, она попросила стюардессу не сажать ее у окна, потому что она только что уложила волосы и не хотела, чтобы они спутались от ветра.
Как многие люди нашей культуры того времени, бабушка была очень суеверной. Она верила, что, если, выходя из дома, встретишь беременную или вдову, нужно обязательно оторвать от своей одежды пуговицу и выбросить ее, иначе будет несчастье. Но если птичка накакает на тебя, тебе несказанно повезет.
Чтобы я хорошо сдавала экзамены, бабушка выливала на меня стакан воды, когда я выходила из дома. Иногда в середине зимы я могла идти в школу с полностью мокрой спиной!
Милица предсказывала судьбу по кофейной гуще или горсти белых фасолин, которые она выбрасывала определенным образом, а потом толковала абстрактный рисунок, сложившийся из них.
Эти приметы и ритуалы были для меня по-своему духовными. Они соединяли меня с моей внутренней жизнью и снами. Когда много лет спустя я приехала в Бразилию, чтобы изучать шаманизм, шаманы обращали внимание на схожие знаки. Если у тебя дергается левое плечо, это что-то означает. У каждой части тела свои знаки, позволяющие понять, что происходит у тебя внутри на духовном уровне, а также и на физическом, и на ментальном.
В подростковом возрасте это лишь начинало пробуждаться во мне. А мое нескладное тело было для меня только источником смущения.
Я была президентом школьного шахматного клуба, я хорошо играла. Как-то школа победила в соревновании, и я была выбрана для получения награды. Мать не захотела покупать мне новое платье для церемонии награждения, и я вышла на сцену в своих ортопедических ботинках и фальшивой нижней юбке. Официальные лица вручили мне награду – пять новых шахматных досок, и когда я спускалась со сцены, мой огромный ботинок за что-то зацепился, и я упала, а доски разлетелись повсюду. Все смеялись. После этого меня не могли вытащить из дома несколько дней. В шахматы я больше не играла.
Глубокий стыд, максимальная осознанность. В молодости мне было сложно даже просто заговорить с другим человеком. Теперь я могу выступать перед трехтысячной аудиторией без заметок, не имея представления о том, о чем буду говорить, даже без визуального сопровождения. Я могу смотреть на каждого и говорить в течение двух часов, легко.
Что случилось?
Случилось искусство.
Когда мне было четырнадцать, я попросила у отца масляные краски. Он купил мне набор и договорился об уроках рисования со своим старым другом времен партизанства, художником Фило Филиповичем. Фило Филипович, участник группы «Информель», рисовал, как он говорил, абстрактные пейзажи. Он пришел в мою студию с красками, холстами и другими материалами и дал мне первый урок.
Он отрезал кусок холста и положил на пол. Открыл банку с клеем и вылил ее на холст, добавил немного песка, желтого пигмента и черного. Потом он вылил на все это около полулитра бензина, бросил зажженную спичку, и все загорелось. «Это закат», – сказал он. И ушел.
Это произвело на меня очень сильное впечатление. Я дождалась, пока обуглившееся месиво высохнет, и потом очень осторожно приколола его к стене. Потом мы с семьей уехали в отпуск. Когда мы вернулись, августовское солнце все иссушило. Краски выцвели, а песок осыпался. Не осталось ничего, кроме кучки пепла и песка на полу. Заката больше не существовало.
Позже я поняла, почему этот опыт был так важен. Он научил меня, что процесс важнее результата, так же как и перформанс для меня важнее объекта. Я видела процесс его создания и его исчезновение. У этого не было ни определенной длительности (как у спектакля. – Прим. пер.), ни стабильности. Это был чистый процесс. Позже я прочла и полюбила высказывание Ива Кляйна: «Мои картины не что иное, как пепел моего искусства».
Я продолжала рисовать дома, в своей студии. Однажды я лежала на траве и просто смотрела на безоблачное небо и вдруг увидела, как пролетели двенадцать военных самолетов, оставив после себя белые следы. Очарованная, я смотрела, как следы медленно растворялись и небо снова становилось совершенно голубым. И тут меня осенило: зачем рисовать? Зачем ограничивать себя двумерным пространством, когда я могу делать искусство из огня, воды, человеческого тела? Из чего угодно! В моем мозгу будто что-то щелкнуло – я вдруг поняла, что быть художником означало иметь огромную свободу. Если мне хотелось создать что-то из пыли или мусора, я могла сделать это. Это было невероятно освобождающее чувство, особенно для того, кто вырос в доме, где свободы практически не было.
Я пришла на военную базу в Белграде и спросила, не могли бы они отправить в полет дюжину самолетов. Я собиралась дать им инструкции, в каком направлении лететь, чтобы их следы образовывали в небе рисунок. Военный с базы позвонил моему отцу и сказал: «Забери свою дочь отсюда. Она вообще не понимает, насколько это дорого – послать самолеты, чтобы рисунок в небе сделать».
Тем не менее сразу рисовать я не перестала. В семнадцать лет я начала готовиться к поступлению в Академию художеств в Белграде – нужно было посещать вечерние курсы и брать уроки рисования, чтобы собрать портфолио для поступления. Я помню, все друзья говорили: «О чем ты вообще беспокоишься? Тебе ничего делать не надо – твоя мать сделает один звонок, и ты будешь зачислена». Это так меня злило, хотя на самом деле я просто стеснялась. Все, что они говорили, было правдой. Но это придало мне особую решимость обрести свою собственную идентичность.
На вечерних курсах мы рисовали с натуры, модели – мужчины и женщины – были обнажены. А я никогда не видела обнаженного мужчину. Один натурщик был цыганом, он был маленького роста, но его фаллос свешивался до колен. Я даже взглянуть на него не могла. В общем, я рисовала всех, кроме него. И каждый раз, подходя ко мне, преподаватель говорил: «Это незаконченный рисунок».
Однажды, лет в одиннадцать или двенадцать, я сидела на диване, читая какую-то книжку, которая мне очень нравилась, и ела шоколад – редкий момент абсолютного счастья. И вот я сидела и ела, полностью расслабленная, разбросав ноги по диванным подушкам. Вдруг из ниоткуда появилась мать и отвесила мне такую оплеуху, что из носа потекла кровь. «За что?» – спросила я. «Не раздвигай ноги, если сидишь на диване».
Я в Ровине. Истрия, 1961
У матери было довольно странное отношение к сексу. Она очень переживала, что я потеряю девственность до замужества. Если мне звонили и это был мужской голос, она говорила: «Что вам нужно от моей дочери?» – и с силой вешала трубку. Она даже почту всю мою вскрывала. Она говорила, что секс – это грязно и что он нужен, только если хочешь родить ребенка. Я боялась секса, потому что не хотела иметь детей, мне казалось, дети были ужасной ловушкой. А все, чего я когда-либо хотела, это быть свободной. Когда я поступила в академию, на моем курсе все уже потеряли девственность. Они развлекались на вечеринках и разных мероприятиях, но моя мать всегда требовала, чтобы я была дома к десяти, даже когда мне уже исполнилось двадцать, поэтому я никуда не ходила. У меня не было парня, и я думала, что со мной что-то не так. Когда я сейчас смотрю на свои фотографии, я вижу, со мной все было в порядке, но тогда мне казалось, что я выгляжу совершенно ужасно.
Однажды, в четырнадцать лет, я поцеловалась, но это не считается. Мы отдыхали на хорватском побережье, мальчика звали Бруно. Это был даже не поцелуй в губы, просто поцелуй в щеку. Но нас увидела моя мать и за волосы оттащила меня от него. Настоящий первый поцелуй случился позже. У меня была подруга Беба, очень красивая, вокруг нее всегда собирались мальчики. Ее часто приглашали на свидания, но из-за того, что приглашений было так много, она не могла пойти на все и посылала меня вместо себя. Однажды у нее была назначена встреча с мальчиком, который жил через дорогу от меня, но она не могла пойти и попросила меня сходить в кино, где они договорились увидеться, и передать ему это. Я пошла в кино, нашла его и сказала: «Мне очень жаль, но она не сможет прийти». А он ответил: «У меня два билета. Хочешь пойти?» Мы посмотрели кино, вышли на улицу, пили водку, которую он принес с собой. Все закончилось тем, что мы оказались лежащими в снегу, и он поцеловал меня. Это был мой настоящий первый поцелуй. Мальчик мне нравился, но я с ним не спала. Его звали Предраг Стоянович.
Моя первая любовь. 1962
Я не хотела терять девственность с тем, кто мне нравился, потому что я боялась влюбиться в первого человека, с которым пересплю. Я хотела сделать это с тем, на кого мне было наплевать.
Я знала, что когда девушка в первый раз спит с парнем, она в него обычно влюбляется, потом он бросает ее, и она страдает. Я не хотела, чтобы что-либо из этого произошло со мной, поэтому придумала план: я найду парня, который известен тем, что спит с большим количеством девушек, и просто использую его, чтобы потерять девственность. И тогда я буду нормальной, как все. Но нужно, чтобы это случилось в воскресенье, в 10 утра, чтобы я могла сказать матери, что пошла на утренний сеанс в кино, потому что на вечерний она бы меня не отпустила. Я пошла в академию, выбрала парня, любителя вечеринок и выпивки. Идеально. Я знала, что ему нравится музыка, поэтому подошла к нему и сказала: «У меня есть новая запись Перри Комо. Хочешь как-нибудь послушать? Я не могу дать ее тебе, но можем послушать вместе». (В то время я на самом деле слушала только классическую музыку и специально для этого одолжила запись у подруги. Про рок-н-ролл я тогда не знала ровным счетом ничего.)
Парень говорит: «Хорошо, когда?» Я говорю: «Как насчет воскресенья?» Он отвечает: «Давай, во сколько?» Я: «В десять утра». Он: «Да ты с ума сошла!» – «Тогда в одиннадцать?»
Я подготовилась, купила албанский коньяк. Это худший алкоголь, который вы только можете себе представить, – его делают утром, чтобы выпить вечером. Шутка. В то время албанцы приезжали в Югославию за белым хлебом, потому что у них был ужасный коричневый хлеб. Это не тот полезный хлеб, который вы можете купить в Штатах. Он был коричневого цвета, потому что был сделан из плохой пшеницы. На вкус он был похож на песок. Албанцы клали кусок белого хлеба между двумя кусками своего коричневого и ели как сэндвич с сыром.
Теперь вы можете представить, каким на вкус был албанский коньяк, который делали из такого хлеба. Да и я, в общем-то, не пила тогда, но подумала, что коньяк может быть хорошим анестетиком. Я пришла к его дому в одиннадцать, постучала в дверь. Никто не ответил. Я постучала еще, и наконец он вышел, заспанный, будто вчера был на вечеринке и вернулся поздно ночью. Он сказал: «А… ты уже пришла. Окей. Я пойду приму душ. Сделай кофе».
Пока он принимал душ, я сварила кофе, добавив туда существенное количество албанского коньяка. Мы выпили кофе, и я включила Перри Комо, мы сели на диван, и я буквально вскочила на него. Мы даже раздеться не успели, а когда случился секс, я закричала. Он тогда понял, что я девственница, и так разозлился, что вышвырнул меня из своего дома. Еще только через год я сделала это по-нормальному, и произошло это с Предрагом Стояновичем, ставшим моей первой любовью. Я гордилась тем, что больше для меня это не проблема.
Мне было двадцать четыре. Я все еще жила с матерью, все еще должна была приходить домой до десяти вечера. Все еще полностью была под ее контролем.