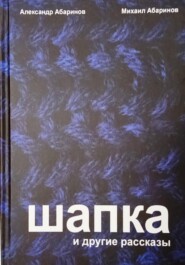
Полная версия:
Шапка и другие рассказы
Лил пот. Но вагон пустел!
VIЗакончили мы где-то в два ночи. Раскидали! Сердце какой-то кусочек времени постучало 150 ударов в минуту и вернулось к обычному пульсу, молодость!
Галя позвонила диспетчеру насчёт внутризаводского локомотива, чтобы тот забрал рефрижераторный вагон.
Городской транспорт не ходил, нам нужно коротать время до пяти утра. И вот тут началось представление!
Василий Иванович наш достал из-под топчана топор с широким лезвием и коротким замызганным топорищем, передал Феликсу и бросил коротко: «Ребро!» Феликс кивнул, а мне сказал: «Пошли!» Пройдя мимо что-то вяжущей в своей будке Гали, мы оттащили под лампу одну полутушу и Феликс ловко, мощными ударами, отсёк два плоских куска – нам и, поменьше, кладовщице.
Стало понятно, почему она ждала и вязала в условиях низких температур!
Дефицит!
VIIК тому времени компания наша уже отдышалась и валялась на топчанах вроде как в безразличном состоянии, но это с виду. На самодельной мощной плитке гудело ключом эмалированное ведро с водой. «Ну что – давай!», – Феликс опустил в ведро приличный кусман изумительной говядины, в которой искрящаяся на месте отруба алая мякоть на ребре была с белым новозеландским жирком.
Бригадир дал мне черпак и приказал снимать мутную пену при первом появлении. Я добился прозрачности. Тогда Иванович бросил в ведро пять больших луковиц в шелухе, сыпанул пакет перца горошком и несколько листов лаврушки. Сидеть возле ведра с ароматным бульоном было лучше, чем таскать полутуши, однозначно.
Я поймал взгляд Калинина – он как-то необычно кромсал на ящике, укрытом «Правдой», четыре, а может пять батонов, и подмигнул мне, странно улыбаясь при этом…
VIII«Ну что, давай, консерватория!» – сказал Василий Иванович, убедившись, что бульон будет. Феликс и ещё один парень, с виду тщедушный, но полутуши он таскал лихо, уже сдали фартуки и были в своей одежде – Феликс в куртке, а Веня, так звали паренька, в тёмном пальто. Ребята встали рядом, Феликс откинул свои кудри и произнёс высоким голосом будто конферансье: «Джузеппе Верди. «Дон Карлос». Dio, che nell’alma infondere».
И вот это infondere он сказал так, будто перед ним был не Калиныч с батоном на газете, а партер Ла Скала, весь в смокингах, декольте и бриллиантах, ну, и за спиной сидел в напряжении огромный симфонический оркестр.
«Дон Карлос – Виргиниюс Петрашкявичюс, будущий народный артист Литовской ССР», улыбнулся Феликс. Виргиниюс подхватил: «Родриго – прославленный баритон Социалистической оперы Феликс Балогов».
Они запели, да как! Я обомлел.
IXСидя у ведра с булькающим наваристым бульоном, я не ожидал от этой ночи на хладокомбинате более ничего, но, чтобы услышать роскошный дуэт, созданный гениальным Верди сто лет назад, который потом, годы спустя, я слушал в оперном зале – это не укладывалось в голове!
Голоса ребят были чисты и стройны:
«Дадим мы клятву:и жизнь, и смертьразделим вместе!»Веня брал невероятной высоты чистые ноты и делал это спокойно и естественно, безо всякого надрыва и фальши. Глаза его сияли. Феликс украсил свою контр-партию баритональным густым тембром, которому, казалось бы, откуда было взяться в этом помещении, но это было наяву, и это было волшебно.
Я бы зааплодировал, но мешал черпак, и я лишь громко и искренне сказал: «Браво!» Меня поддержали.
Они ещё что-то исполнили, кажется, из русской классики, строгое, красивое и патетическое, потом ещё…
Венчал наш праздничный концерт Виргиниюс – «О соле, о соле мио!» звенело под высоким потолком комнаты грузчиков, оставляя в душе удивительное чувство радости и покоя, южного моря, залитого солнцем; вроде бы даже лампа в мутном плафоне стала сиять ярко и празднично.
XУже скоро каждый участник ночной операции получил из щедрых рук Василия Ивановича по здоровому ломтю разварной парующей говядины на ребре, подставив разрезанные Калинычем в виде подноса полбатона. Крупная соль и очищенные луковицы лежали горкой на газете.
У Ивановича в арсенале была большая алюминиевая кружка. Он знал толк не только в разгрузке, а мы дожидались, пока он хлопнет крепчайшего бульона и даст попользоваться кружкой.
Вот это первобытное состояние мне после этого никогда более не довелось пережить! Мы, будто в некой доисторической пещере, делили добычу, и не было враждебности, зависти, не было царей, величия одного и никчемности другого – все были равны.
Кто-то будет иронизировать, но той ночью у нас получился настоящий пролетарский праздник – с изматывающим трудом, за который нам честно и без обмана заплатили, с потрясающим ночным ужином и даже культурной программой!
XI«Отнеси Галине!» – старший бережно передал мне двойной «бутерброд».
Я вышел наружу. Луна выкатилась поглядеть на наш пакгауз, отразившись на рельсах. Где-то далеко гудела вытяжка или лента конвейера. На краю рампы сидел огромный пёс. Он, как и я, молча смотрел вдаль, на кирпичное здание соседнего корпуса, на ночное небо, на высокий тополь, росший здесь с довоенных времён.
«Держи!» – сказал я, и бросил ему небольшой кусочек. Пёс обернулся, пригнул голову, на полусогнутых добрался до меня, за долю секунды съел порцию и добрым взглядом посмотрел на то, что у меня осталось. «Вкусно?» – спросил я. «Это Галине!»
Волкодав понял и потрусил впереди меня к Галиной будке.
XIIЯ вдруг ощутил, что собранные судьбой воедино археолог Калинин, яркий тенор Виргиниюс, Феликс и я, студент исторического факультета, не выглядим чем-то инопланетным или сюрреалистическим среди выбеленных известью стен служебного помещения на окраине, напротив! Это была наша страна. Мы все говорили на одном языке. Мы читали одни книги и ходили в одни замечательные театры. Мы были одинаково небогаты, но знали цену деньгам и понимали прекрасное. Хотя, если подумать, новозеландские замороженные коровы, аврал, суета с разгрузкой, топор, 7 Ноября, ночь, ведро супа и оперная ария – где такое увидишь и услышишь, в какой ещё стране? Я много раз пытался представить на месте Вени, скажем, Лучано Паваротти или Пласидо Доминго – но у меня ничего не выходило!
Мы не сопротивлялись этой встрече, мы спешили на неё; мы впивались молодыми зубами в разваренные волокна и грызли лук, не задумываясь особо над тем, чем нас встретит завтрашний день.
И ещё я понял, чему таинственно улыбался Вова Калинин – он знал, коварный, что последует за разгрузкой, он предвкушал не двадцатку, нет! Он ждал это действо, это изумительное представление, которое, пусть и в странных условиях, для него было привычным и даже желанным.
Спасибо ему за то, что подарил мне тогда лишний билетик на этот праздник!
XIIIВпуская ночной холод, отворилась выкрашенная густой коричневой краской дверь в нашу филармонию – пёс, виляя хвостом, мгновенно уселся в ногах своего дружка Василия Ивановича и смотрел на него неотрывно и радостно, запрокидывая мохнатую голову – в поисках ответной ласки или кусочка чего-нибудь. Галина вошла, торжественно неся перед собой поднос. «Ну, парни, спасибо за угощение! И вот от соседей, с праздником, так сказать!»
На подносе лежали, украшенные инеем, двадцать эскимо.
* * *Наутро мы станем манерными, будем дремать на лекции по истории КПСС или на репетиции, потратим на себя и подруг честно заработанные деньги, забывая постепенно о полутушах и неказистом ночном пакгаузе, спрятанном подальше от мира.
Закурили.
Трамвай уже тренькнул.

Околокулинарное
У меня до вчерашнего дня не было сомнений в пользе, изобретательности и своеобразии украинской кухни; было времечко, даже писал об этом: «Украинская хозяйка такое создаст на обыкновенной сковороде из хорошего ошейка! Да что говорить – без зажарки овощей, идущих в борщи или во вторые блюда, она жить не может и не станет! («Смачна подорож», 2014, № 6).
А тут читаю: «У них там жрут что попало. У нас хазяйка писля капусняка каструлю ополосне – оце в них щи называється! В нас – «идальня», тому, что там їдять, а в них «столовая», столы какие-то…» И т. п. урапатриотический бред.
Брезгливый и непросвещённый критик, скорее всего, даже не догадывается, что слово «стол», а также престол, стольный град, застолье несут в себе иной, многовековой, смысл, который далёк от убогого представления значения слова нынешними словоблудами в этой стране.
Но – тем более зацепило, возмутило и взволновало!
Ну, или ещё одна «супер-идея» – памятник борщу как воплощенному гению, как венцу успешной кулинарии. Не подумайте, что я против борща – уважаю! Он всё ещё доступен не только олигарху, но и нищеброду, сидящему без работы в золотой неоплаченной советской квартире. Но ставить памятники еде всё же абсурдно – это чтобы не забыли и «пам’ятали», по логике автора выше изложенной сентенции? Скорее всего, да.
Ну, и о «столовых» там. Или о русских трактирах…
«…в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста.
Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом – огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом, – пишет В. Гиляровский, пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой[…]
– У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим – зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся».
* * *Кулинария – часть культуры, отрицать это нельзя. Для украинцев жизнь на перекрестье путей и в окружении других народов не прошла даром: в кулинарных традициях всех регионов переплелись мотивы венгерской, турецкой, бессарабской, словацкой, балканской, татарской, гуцульской, бойковской, польской, еврейской, русской, австрийской кухонь.
Но почему поощряется и ныне считается правильным порочить, воротить нос от т. н. нематериальной культуры соседней страны, отрицать сегодня существование не польской, венгерской – исключительно русской кухни, для меня остаётся загадкой!
Гречку, картофель и сало из страны презренных щей, правда, импортируем – скорее всего, с ненавистью…

Апельсины с сахаром
В любом сельском магазине сегодня – помимо хлеба и подсолнечного масла, сметаны, сахара, кефира, стирального порошка, вермишели и мужских носков, можно купить апельсины, мандарины, киви и картошку. Традиционный набор сельмага!
Но, как ни странно, граждане, как и тридцать с лишним лет назад, чаще покупают водку…
IНас с товарищем году примерно в 1988-м надумали послать в командировку в Москву, на конференцию. Не успели мы выйти с совещания, как на нас накинулись коллеги из других отделов. «Витя, Новый год всё-таки – привези хоть кило мандаринов!» – слёзно просили седые подполковники и красавцы-старлеи. «Сань, на тебя можно рассчитывать? На вот десятку – на апельсины, и ещё одну – на мандарины! Ждём, две внучки, Сань!»
«Витя, бежим, – сказал я. – И закрываем двери, а то нам точно не дадут собраться!»
И правда – посыпались звонки. Те, кто не мог достучаться/в дверь до наших сердец, звонили в сердцах. И все, как один, хотели цитрусовых. Со стороны выходило, что Кремль утопал в тени апельсиновых и мандариновых деревьев!
К тому времени мы успели собрать рублей сто пятьдесят, большие деньги! Получалось, что для каждого из нас обратный путь становился тяжелее примерно на 10 килограммов цитрусовых, которые мы должны будем доставить на берега Днепра и на себе!
Мы остановили приём заказов…
IIТе, кто думает, что я пересказываю сон, ошибаются. Горбачёвские перестройка и ускорение в конце 80-х привели к тотальному дефициту. В Киеве можно было совершенно беспрепятственно купить только берёзовый сок и коровье вымя. Ну, ещё синее или коричневое, будто деревянное, пальто, чёрные гантели и чёрные полуботинки «Скороход» одинакового с гантелями веса. По какой-то древней традиции дети ещё получали по инерции в новогоднем шуршащем целлофане с конфетами и печеньем две грузинские мандаринки; родители как дети радовались этому зимнему и оттого яркому аромату и спешили затолкать мандариновые корочки в водку, приобретённую по талонам, а семечки – в цветочный горшок с алоэ, который стоял на подоконнике в каждой семье – от всяких болезней.
«На местах», как тогда говорили, было несколько проще, потому что номенклатуры меньше, чем в столице. Поэтому порой «столичные» прибегали к помощи подчинённых: «Николай Васильевич! Тут делегацию нужно встретить – выручай, водка нужна! И чай со слоном, хотя бы пачка! А коньяк есть?»
Николай Васильевич выдерживал театрально паузу и величаво отвечал: «Алексеич, нема! Но для вас есть!»
Чай индийский с изображённым на пачке слоном, узнаваемый символ той эпохи – как и коньяк с заснеженной горой Арарат на этикетке.
Радости не было предела.
IIIЧто характерно – ни одна собака не попросила узнать там, в Москве, почему международное положение страны при Горбачёве вроде как улучшилось, а внутреннее – ухудшилось до безобразия! Размножился только плюрализм, но его на хлеб не намажешь!
…На следующий день нам объявили, что конференцию передвинули на январь. Мы попытались возвратить личному составу деньги, но почти все были единодушны: «Не отменили ведь, перенесли! Подождём, что делать!»
Ну, а перед самым Новым годом горбачёвская экономика в очередной раз продемонстрировала мощь и непредсказуемость – нас завалили апельсинами, шампанским и венгерскими курами; наши просители смущённо забирали назад свои слова и деньги.
Все успокоились. Так всегда бывает в новогодние дни – может, оттого их и ждут с нетерпением.
* * *В январе конференция состоялась, съехались наши старые друзья со всей страны, и мы забыли на какое-то время о невзгодах.
Правда, когда возвращались домой, руки у нас вытянулись до колен – выполняя заказы товарищей, везли килограммов по десять сахара, у нас не было. Не верите? Виктор Иванович не даст соврать!
Не зря мы всё же ходили в спортзал «Динамо» дважды в неделю и были крепкими как пассатижи!

На моём столе
В прежние времена с продуктами было, прямо скажем, не очень – это я возвращаюсь к тем вопросам, которые были подняты моими читателями немного выше, в рассказе о свадьбе. Они справедливо спрашивают – что там ели и пили в 70-е, когда садились за праздничные столы и прочее? Отгулять юбилей, должность, рождение сына, свадьбу – во что это обходилось обычному гражданину, и огласите, типа, весь список, пожалуйста!
Да не вопрос!
IВо-первых, как и сегодня, все мероприятия, были угадываемы и предсказуемы; ну, скажем, сосед Иван уходит в армию в мае, понятно, что гуляем; или мама вдобавок к боевым наградам получила орден Октябрьской революции; или у тестя 60 в апреле – вот она, дорожная карта кухонной плиты, так сказать!
Во-вторых, 99 % процентов мероприятий были позитивными с точки зрения, в основном, предсказуемого и безудержного веселья – это вам не то, что теперь, не буду перечислять грустные события.
В-третьих, подготовка к празднику всегда была сопряжена с поиском дефицита и изменением рейтингов родственников – каждый/ая гордился/ась тем, что именно он/она достал/а пять баночек майонеза или коричневую банку растворимого индийского кофе на свято.
А кто ничего не мог доставать, даже коробку конфет «Метеорит», скатывался в самый низ списка и от него все на какое-то время отворачивались, всё же оставляя шанс на исправление. Шучу, конечно)).
IIМеню всех праздников не содержало изысков и сводилось к традиционным блюдам. В моей семье это были пять салатов – оливье, «шуба», «мимоза», винегрет, плавленый сырок с чесноком. Разве что в летний период они усиливались шестым – из свежих огурцов и помидоров с луком, измельчёнными петрушкой и укропом.
Рецепты салатов уже никто не сохранял, потому что это было равносильно тому, как бережно записать, что после декабря будет январь; они были на столе 4 сезона; разбуди хозяйку среди ночи и спроси: «Тётя Настя, надо ли в оливье класть солёные огурцы?», а она, нимало не озаботясь, скажет разбудившему, что можно, но немного, и то срезав шкурку.
И уснёт дальше с улыбкой на устах.
IIIГоворя об основных блюдах в моём доме, следует прежде всего отметить вершину. Речь о печёном картофеле. Он был особенным у нас, содержание крахмала в нём было запредельным; он лопался аппетитно при варке, а при запекании в духовке становился особенно вкусным и расхватывался гостями мгновенно.
Соль и подсолнечное нерафинированное масло прилагалось, и все с большим удовольствием наслаждались этим простецким блюдом, хрустели корочкой, дули на разваренные белоснежные ломти, совершенно не думая о том изобилии, что последует за этим блюдом.
Традиционно готовились голубцы, котлеты, тефтели. Из чего – честно, не знаю, некий фарш можно было купить в «Кулинарии». Мясо было в огромном дефиците.
Кстати, в те годы не было зазорным выставить на праздничный стол консервы – шпроты, сайру в масле, лосось в собственном соку, ветчину и даже «Завтрак туриста», ммммм! Всё это было в дефиците.
IVКартошка, реально, была № 1 в основной массе блюд нашей скромной кухни. И не только на праздники. Картофельные зразы, деруны с грибной подливой, картофельное рагу с тушёной говядиной, различные запеканки из картошки; отварная в мундире и без, и ещё десятки блюд из неё.
Нам с братом в обычные дни мама традиционно оставляла макароны – они тогда были, в основном, в виде длинных тонких трубочек и продавались на развес, картофельное пюре или пшённую кашу, которые я, придя из школы, разогревал братану.
Немного позже открылись так называемые «Домовые кухни» и я туда ходил с судком и эмалированным бидончиком, чтобы получить литр супа за 8 копеек и 2 котлеты с картофельным пюре, благо рядом.
VЯ не могу не пропеть оду замечательному блюду, которое и сегодня будоражит меня в предпраздничные дни – речь о студне. О холодце. О заливном. Студень вносили с зимнего балкона под аплодисменты – даже в моей не очень эмоциональной семье. Он был толщиной с «Краткий очерк истории философии» – это только мои коллеги-историки помнят увесистый тысячестраничный фолиант.
Когда я сегодня берусь за приготовление студня, передо мной всегда тот дрожащий и вкусно-прозрачный образ, под знаком которого прошла моя юность.
Но получается волшебно.
VIЖивя какое-то время на Крайнем Севере, мы застали (середина 70-х) палтус холодного копчения, зубатку, треску г/к; они продавались абсолютно свободно в рыбном отделе городского гастронома; самый дорогой – палтус, стоил 4 рубля. Здесь же стоял судок с чёрной икрой по 16 руб./кг. Я на свою зарплату мог купить 20 кг этой самой икры, но не имел желания.
Уехав с Севера, я уже такого изобилия деликатесов не встречал даже в номенклатурных продуктовых точках.
Зато, поскольку мы жили на берегах великой русской реки, рыба у нас в рационе не переводилась – лещ, судак, щука, сырть, корюшка, язь. В сезон газетный кулёк с 0,5 кг свежей корюхи стоил на улице 30–40 копеек.
Рыба присутствовала и на праздничных столах. Она была традиционно либо жареной, либо тушёной, либо под вкусным маринадом; мой дядя Роман, живший на берегу Ладоги и имевший свой баркас, когда приезжал в гости, всегда привозил копчёных сигов. Они, конечно, украшали наш праздничный стол.
Когда мы возвращались от него домой, то всегда были затоварены судаками, щуками, а то и лососем.
Утренние наши с ним рейды на подъём сетей навсегда сохранились в моей памяти.
VIIИ всё же краеугольный камень русской кухни – это пироги. Их многообразию может позавидовать любая кухня мира. Это были не только многослойные кулебяки с начинкой из всевозможных субпродуктов, но и роскошные открытые и закрытые пироги как с солёной так и сладкой начинкой.
Мне очень нравился огромный закрытый пирог из маминой духовки с узорчатой косичкой по периметру с отварной треской, зелёным луком и варёным яйцом; мой брат как-то написал мне о том, что вкус нашего пирога с морошкой ему снится!
Только добрые слова я и мои однокурсники по университету могут сказать в адрес маминых румяных пирожков с капусточкой, с ливером, рисом и яйцом, горохом, забытым ныне саго, крупой из крахмала. Все пирожки были помечены особым вилочным знаком – одна, две, три дырочки – и были узнаваемы! Но особой любовью у всех пользовались ватрушки из тонкостенного теста (половина – ржаной муки, половина пшеничной) с картошкой, умащенные перед духовкой яичным желтком и оттого волшебные на вид и на вкус! Они разлетались с блюда, будучи только внесёнными с кухни – настолько они были предсказуемо-вкусны!!!
У нас их называли «калитки». Они известны в кухне карелов и финнов.
VIIIЯ ничего не сказал об овощах – их в рационе было немало. Речь о капусте, свёкле, огурцах, моркови, и пр. простецких овощах; помидоры и сладкий перец в тех краях появились позже, и только в парниках. О грибах тоже следует упомянуть – солёных рыжиках, груздях, волнушках, о маринованных, отварных и сохранённых в глиняном горшке под жиром подберёзовиках; сушёных белых, которые присутствуют в любой кухне. О соленьях – квашеной капусте, огурцах, мочёной морошке и бруснике тоже могу сказать только хорошее.
* * *С чего бы вдруг нахлынуло?
Сегодня упал очень хороший кус говядины – сварил наваристые щи с квашеной капустой, картошкой, морковью, сельдереем и обязательно репой.
Будьте здоровы! Пусть на вашем столе в Новом году будет то, что вам по душе, что вы хотите приготовить, а не то, что вам рекомендуют диетологи.
Будьте здоровы!

«Копчёная Скумбрия»
Дню телевидения посвящается.
I«Евгений Петрович, здрасьте! Это канал Пинтер. Вы вот думаете, что телевидение – это просто неправдоподобно богатейшая организация, но она не богатейшая. Она, может, и не бедная, но где-то там, вдали от нашего проекта. Он скромный и пока маловостребованный. Поэтому, извините, с выплатами пока увы, но мы рассчитываем на понимание».
Я дослушал до конца и сказал: «Ну, хорошо! Я понял. А почему вы мне-то звоните, я вообще Александр Алексеевич!»
«Ой! Это же ваш сюжет на Пинтер – по поводу устранения засорения унитазов? Ой! А вы кто?»
«Я же сказал!» – ответил я и положил слухалку.
II«Давай с тобой поговорим», – пропел телефон.
«Да!».
«Ой! Александр Алексеевич? Это «Копчёная Скумбрия»!
«Аааа! Что же вы сразу не сказали?»
Тут надо отвлечься… Месяц назад я прочёл объявление.
«Желающие предложить свой рецепт копчёной скумбрии и продемонстрировать приготовление в ТВстудии, прошу направить резюме. (Тел., адрес. Анна)».
Скажу, что я поучаствовал уже будучи на пенсии в кулинарных шоу типа «Пекельна кухня», поэтому и направил. А чего делать?
Девичий голос сказал: «Нужно, чтобы вы закоптили скумбрию, а мы снимем все стадии – от магазина до подачи на стол. Рыбу мы купим. Вы красиво приготовите, а мы пустим в эфир красивую программу. «Правила выживания» называется».
«Прекрасно! – сказал я. – У вас там, в Правилах, есть коптильня, дрова, вишнёвые опилки?»
«Я думаю, это всё можно приобрести», – неуверенно сказала «Копчёная Скумбрия». А как вы лично это видите?»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

