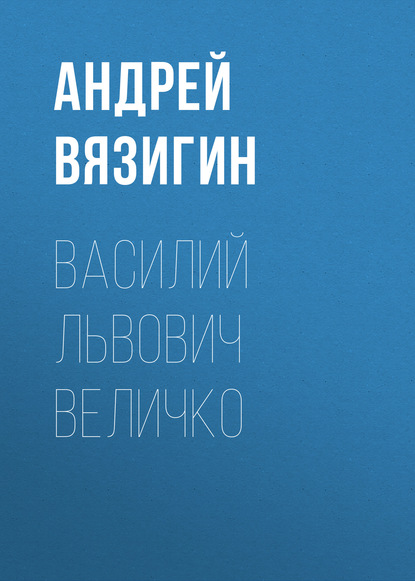 Полная версия
Полная версияВасилий Львович Величко
Рано ли, поздно ли, мы выйдем на настоящую дорогу и Василий Львович прозревал в грядущем неизбежное наступление «дней обновления», когда сделается невозможным такое возмутительное насилие над русской душой. Всю свою духовную мощь он положил на посильное содействие отрезвлению общества и его ознакомлению с воззрениями, не пользующимися признанием наших мнимо передовых людей. Будучи близок к такому выдающемуся мыслителю, как покойный Вл. Соловьев, Величко составил прекрасное обозрение его жизни и творений[6], нарисовал яркий образ «вселенского христианина», который взывал к русской «интеллигенции, вместо образа Божия все еще продолжающей носить образ и подобие обезьяны»: «мы должны же, наконец, увидать свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира из всякой узкой и ничтожной идейки».
Естественно, что мысль об открытии общества, преследующего такую же благородную цель, встретила самое пламенное сочувствие Величко. Он вошел в число учредителей «Русского Собрания», был избран в члены Совета и взял на себя устройство литературных заседаний, которые имели шумный успех и привлекали множество посетителей. Не раз Василий Львович выступал докладчиком по злободневным вопросам и тем поднимал общественный интерес к юному отпрыску русской национальной идеи. Клеветнические приемы были пущены в ход и против «Русского Собрания», но нашли сторонников лишь среди лиц, привыкших, как попугаи, повторять чужие слова, да непримиримых противников народного самосознания, грозящего разрушить все хитроумные ковы и тонко рассчитанные планы. Василий Львович своими откровенными, прямыми и правдивыми речами раскрыл глаза многим и указал надежный путь к лучшему будущему: «Общий подъем самоотверженного, вдумчивого патриотизма, дружная работа общества рука об руку с правительством, без доктринерской вражды или холопского фрондирования – вот что нужно теперь нашей родине, вот что должен ей дать, и непременно даст, подъем национального самосознания. Конечно, неизбежны при этом и борьба воззрений, и недоразумения, и ошибки, но главное течение должно направляться по этому руслу. В наши дни живется тяжело именно потому, что это течение не вошло еще в должную силу. Либерализм не удовлетворяет никого, топчется на месте, все более отставая от жизни; устарелая местами аргументация консерватизма требует обновления; босячество и иные формы общественной анархии имеют успех не как направление, а скорее как наркотическое развлечение общества, тоскующего именно от отсутствия определенных творческих идеалов».
Зарю нового, светлого дня Величко лишь прозревал в ряде вещих признаков, в особенности в мужественном исповедании верности русским началам нашей молодежью. Всем нам памятны его почти предсмертные стихи, посвященные «Юным витязям»… Василий Львович не имел счастья дожить до наших дней, когда всюду проявились, в одинаковых выражениях, искренние чувства беззаветной преданности нашему Царю, ясное сознание национального достоинства, оскорбленного дерзким врагом, и глубокая непоколебимая вера. Ведь всюду, по всему лицу нашей родины, раздавалось «Боже, Царя храни», чередуясь с пением молитв. Посрамлены делатели голов, хвалившиеся своими «успехами» перед целым светом! Вместо ожидаемого разлада, наша молодежь заговорила чисто по-русски, прямо, честно и открыто. Быстро слетела «космополитическая лжелиберальная» шелуха и обнаружилось здоровое, неповрежденное русское ядро. «Орлята прорвались сквозь вражеские сети, ушли от книжников, предателей, невежд».
В высшей степени важно, чтоб этот высокий порыв сказался не в мимолетном подъеме духа, но в постоянном и упорном труде на благо родины, в стремлении расширить свой кругозор сопоставлением избитых «либеральных» кличей с заветами таких людей, как покойный Величко. Внимательное чтение его «Русских речей» послужит для нашей молодежи началом вполне сознательного отношения ко многим явлениям современной действительности, но все должны проникнуться убеждением, что в университетах и институтах нет места политиканству: надо работать над выковкой собственных убеждений, а не выступать с проповедью взятых напрокат, надо готовиться к культурной борьбе за русские идеалы, а не ронять их дешевыми выходками и грубым насилием; недостаточно выдавать себя за верных носителей русских начал, но надо сделаться действительно сознательными борцами за русское дело, а для этого надо учиться надо изучать творения таких людей, как ныне поминаемый Величко.
Велико духовное наследие, оставленное русской молодежи горячо любившим ее, надежду России, Василием Львовичем. Пусть же она в его произведениях найдет ответ на свои запросы и сомнения, пусть она продолжит тот подвиг, который не дала завершить покойному преждевременная смерть.
Сноски
1
В. Величко. «Русские Речи». Русский Вестник. 1902 года № 5, стр. 121 и сл.
2
Апраксин и Бурнашев. Последние дни Велички. Стр. 2. Москва 1904 г.
3
Вот перечень «Русских речей»: I. «Интересное время» (Рус. Вест. 1902 г. май); II. «Отвлеченный и живой человек» (июнь); III. «Враг общественной нравственности»; IV. «Как делают голову» (июль); V. «Роковой вопрос» (сентябрь); VI. «Сионизм» (октябрь); VII. «Исход» (ноябрь); VIII. «Инородцы и окраины» (декабрь): IX. «Вопрос о рабочих» (1903 г. январь); X. «Самоуправление и самодеятельность» (февраль, март); XI. «Русское дело и междуплеменные интересы на Кавказе», (апрель, май, июнь); XII. «Русское дело и междуплеменные интересы на Кавказе» (октябрь, ноябрь); XIII. «Духовная сущность и свобода писателя» (1904 г. январь). По имеющимся у нас вполне точным сведениям «Русские речи» выйдут вскоре особой книгой и составят второй том сочинений В. Л. Величко, издаваемых его племянницей М. Д. Муретовой.
4
Исполняя предсмертную волю покойного, М. Д. Муретова довела печатание книги до конца, при участии лица, долго работавшего совместно с Василием Львовичем и основательно ознакомленного с его взглядами и планами. Эта книга представляет собой первый том сочинений В. Л. Величко и носит заглавие «Кавказ». Пб. 1904 г.
5
Русские Речи. Р.В. 1902. № 7. стр. 41 и след.
6
В. Л. Величко. Владимир Соловьев, жизнь и творения. Издание второе. С-Петербург, 1904.

