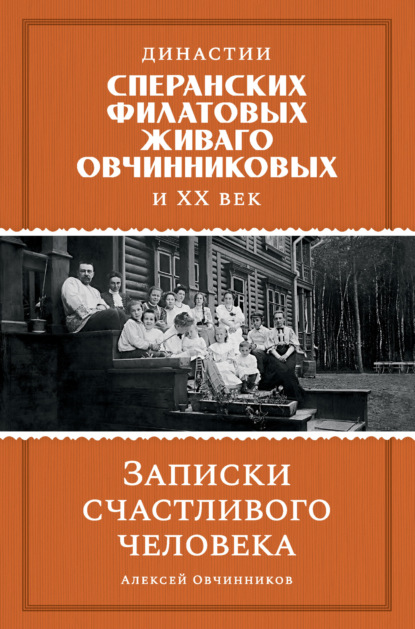
Полная версия:
Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека
«Музеем оказались счастливо востребованны еще в детстве проявившиеся разнообразные способности А.В. Живаго. С 1923 года он – лектор-руководитель в отделе Классического Востока. Будучи энциклопедически образованным специалистом по культуре Древнего Востока, со знанием немецкого, французского, греческого, латинского языков, он, обладая даром рассказчика и актерскими способностями, проявил себя как талантливый популяризатор, экскурсовод высшего класса, восхищавший даже крупных профессионалов. Сохранились его подробные записи экскурсий и методические разработки по лекторской и экскурсионной работе. Талант рисовальщика и каллиграфа использовал он для выполнения тысяч табличек этикетажа, экспликаций, географических карт, участвовал в оформлении постоянной и временной экспозиций. Каждую свободную минуту А.В. Живаго старался отдавать своей коллекции, хранившейся у него дома в двух маленьких комнатках, которые ему были оставлены советской властью после «уплотнения» в бывшем собственном доме на Большой Дмитровке[30]. Причем, буквально все послереволюционные годы, не без помощи Музея, он вел отчаянную борьбу с чиновниками за право не быть выселенным и оттуда, сохранить уникальную коллекцию»[31].
В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что с детского возраста, лет с 12–13, Александр Васильевич увлекался театром. В юности, как было сказано в предыдущей главе, они с братом Романом даже играли на любительских подмостках в Останкино. Его отец, Василий Иванович Живаго, бывший сам завзятым театралом, был Александру примером. Будучи гимназистом, а затем и студентом, а также всю свою последующую жизнь, за исключением своих путешествий, почти все свободные вечера Александр отдавал театру. В основном Большому и Малому, позже – Художественному. Он прослушал все оперы и пересмотрел все пьесы в этих театрах, и не по одному разу. Он был лично знаком со многими знаменитыми артистами, певцами, музыкантами и театральными критиками и описал встречи с ними в жизни и на сцене в своих дневниках. «Театр с детства был для него, – говорит в своей статье "Булгаков глазами доктора Живаго" историк-культуролог Владимир Бессонов, – тем миром, в котором отдыхала душа, миром, казавшимся вечным и незыблемым, что бы ни происходило вокруг… 1917 год быстро разрушил эти иллюзии».
В первые годы советской власти Большой театр, который Ленин считал «куском чисто помещичьей культуры» не был закрыт только благодаря Луначарскому, сумевшему убедить вождя мирового пролетариата, что новыми революционными операми можно вытеснить из Большого старый буржуазный репертуар. «В других театрах было не лучше, – продолжает автор статьи, – репертуарная политика большевиков была наступательной и бескомпромиссной, в статьях новых критиков все чаще звучали слова «бей» и «фронт». И вдруг… Поначалу поверить было невозможно, хотя говорили об этом на каждом углу. Шутка ли сказать – пьеса о белогвардейцах, и не где-нибудь, а в Художественном театре! Живаго, называвший пьесы современных драматургов дешевыми агитками, на сей раз заинтересовался чрезвычайно… Читая записки Живаго о "Днях Турбиных", видишь, что в вечер после спектакля он не торопится расстаться с увиденным: подробно записывает запомнившиеся фразы, анализирует игру актеров ("играют пьесу очень хорошо. Жизненно-правдиво, просто, но в то же время искусно"), работу драматурга и режиссера ("пьеса написана хорошим языком, спектакль слажен, хорошо поставлен… все последнее действие не лишено красок покойного А.П. Чехова"), не забывает декорации и костюмы… Но какое же общее впечатление от этой пьесы? Ответ один – тяжело. Живаго еще не раз повторит эти слова: "Снова на душе тяжело", "тяжел и финал пьесы", когда "надвигаются на город красные, слышны уже звуки «Интернационала», и для одних это эпилог, а для других – пролог".
Живаго понимал, что пьеса Булгакова – инородное тело на советской сцене, что такую правду не потерпят и "Дни Турбиных" разрешили лишь "на известный срок". Он не ошибся – к концу сезона последовало волевое изъятие спектакля из репертуара». Несмотря на разочарование Александра Васильевича другой пьесой Булгакова – «Зойкина квартира» в Вахтанговском театре, Булгаков до конца дней Живаго остался одним из самых любимых современных авторов.
Александр Васильевич прожил долгую и разнообразную жизнь. Первые сорок лет он прожил в XIX веке, родившись еще при крепостном праве, а вторые сорок лет его жизни приходятся на первую половину XX века с его войнами и революциями. По словам В.Гельмана: «Гимназистом, на лесах достраивавшегося храма Христа Спасителя, он с восторгом слушал рассказ учителя истории о славном прошлом Москвы, обозревая великолепную панораму города. А на восьмом десятке лет, в морозный зимний день 1931 года, находясь в стенах Музея изобразительных искусств, ощущал сотрясения здания, с ужасом ожидая новых взрывов, рушивших находившийся поблизости тот самый Храм». Жизнь А.В. Живаго оказалась как бы символически ограниченной этими двумя событиями.
Последние годы жизни он тяжело болел, с трудом передвигался, но не прекращал научной обработки своей коллекции – составления каталога, описания экспонатов, их собственноручных зарисовок, фиксации их возраста и даты приобретения и т. д. Умер Александр Васильевич в 1940 году, не дожив нескольких дней до своего восьмидесятилетия, и навсегда остался в памяти родственников и множества знавших его людей блестящим представителем русской интеллигенции и патриотом своей Родины. Его могила находится на Ваганьковском кладбище, первая дорожка слева от главного входа, 18-й участок. Там установлен старый металлический узорный крест. На кресте дощечка с надписью: «Александр Васильевич ЖИВАГО. 28.VIII.1860 г. – 9.VIII.1940 г.».
Наталья Романовна Живаго – художница, жена Алексея ОвчинниковаСвою бабушку Наталью Романовну Живаго, младшую дочку Романа Васильевича и его супруги Таисии Ивановны, в отличие от других моих предков со стороны отца, я мог видеть воочию, когда она за год до своей смерти приезжала к нам на дачу в Турист. Но, будучи годовалым ребенком, я ее, конечно, не запомнил и знаю о том, что мы встречались, лишь по фотографиям. Наташа Живаго была очень одаренным человеком – она прекрасно рисовала, обучаясь живописи у известного художника Константина Юона, и ее картины, главным образом великолепные акварели, до сих пор украшают стены нашей квартиры.
В доме Живаго на Никитском бульваре всегда было много молодежи, по праздникам там устраивались маскарады с танцами и угощением, и мой дед Алексей Овчинников был непременным их участником. Иногда по вечерам собирались за чайным столом и начинали сообща сочинять стихи, причем в этой игре нередко принимал участие и дядя Саша, Александр Васильевич Живаго, большой любитель молодежи.
Наталья Романовна ко времени своего замужества в 1911 году была очаровательной, изящной молодой женщиной, и вместе с высоким, крупным Алексеем, сохранившим детскую застенчивую улыбку, они смотрелись очень красивой парой. Венчались они в церкви Козьмы и Дамиана на Таганке. Было многолюдно: вся многочисленная родня Овчинниковых и Живаго, их друзья и знакомые. Владимир Попов вспоминает интересный момент: когда Алексей и Наталья должны были встать на атласный коврик перед аналоем, а присутствующих всегда интересует, кто первым ступит на него, так как, по распространенному мнению, первый вступивший на коврик будет «верховодить» в семейной жизни, Алексей первым подошел к ковру, дождался, когда Наталья наступит на атлас, и лишь потом опустил на него свою ногу.
После венчания в доме у Овчинниковых был устроен «открытый буфет», и гости рассеялись по всему дому… «Молодые тем временем переоделись, и через некоторое время мы все отправились провожать их на Николаевский вокзал. Они уезжали в Финляндию: Алеша ни за что не хотел делать обычного в таких случаях путешествия за границу»[32]. Финляндия в те годы была частью Российской империи.
В июне 1912 года у Алексея и Натальи родилась дочка Наташа, Туся, а через три года, в ноябре 1915 года, когда Алексей уже был курсантом авиационного училища, родился мой отец, которого назвали Адрианом, Адиком. Алексей Михайлович обожал дочку, с которой проводил много времени, катал ее на мотоцикле, и она уже в трехлетнем возрасте была просто влюблена в своего отца. Его отъезд в Петроград был для нее настоящей трагедией. Сына же своего Алексей видел очень мало, возвращаясь в Москву лишь во время коротких отпусков. Так, по свидетельству Попова, зимой 1916 года Алексей Михайлович приезжал в «Новое», подмосковное имение Романа Васильевича Живаго вблизи озера Сенеж в нескольких километрах от Солнечногорска, где жила в то время Наталья Романовна с детьми. Он был одет в морскую форму, которая, по словам Попова, очень ему шла. «Я помню, – пишет Попов, – меня удивила серьга в одном ухе у него: это был какой-то талисман морских летчиков. В этом талисмане-серьге так ясно отражалась молодая Алешина душа: он верил и не верил в этот „талисман“, и в то же время его потешало удивление других при виде этой серьги в его ухе…» Длительное пребывание Алексея вдали от семьи отдалило его от Натальи Романовны. После его возвращения в Москву в конце 1917 года и до отъезда в Брянск супруги жили врозь. Осталась короткая записка Натальи Романовны: «Помню, как в сентябре 19-го года Алеша приходил ко мне…» О чем говорили они, осталось неизвестным.
Пока был жив ее отец, Наталья Романовна и без мужа ни в чем не нуждалась. Но вскоре всё полетело в тартарары. Произошел Октябрьский переворот. В начале лета 1918 года местными советами было экспроприировано «Новое». Семья Живаго с малыми детьми и пожилыми женщинами были выселены оттуда в 24 часа. Старший сын Василия Романовича – Александр, двоюродный брат моего отца, всемирно известный ученый-геоморфолог, скончавшийся летом 2010 года, незадолго до своей смерти лично рассказывал мне, как его, четырехлетнего ребенка с беременной матерью, двухлетней сестрой и старушкой няней, а также его тетку Наталью с двумя малыми детьми выгоняли из их собственного дома, дав для вывоза детей и минимально необходимого имущества единственную лошадь с телегой. Имение было разграблено, и там был устроен сельсовет. Тем не менее, каменный дом пережил советское лихолетие, а затем и немецкую оккупацию во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы в нем был устроен военный санаторий. После экспроприации особняка Живаго на Никитском бульваре Наталье Романовне с детьми, «тетей Аней» – Анной Александровной, двоюродной сестрой Таисии Ивановны, жившей в доме Живаго, и няней Ксенией Леонидовной Голубевой, оставили три маленькие комнатки на первом этаже левого флигеля. Началась жизнь, полная нужды и забот… На фотографии 1922 года у Натальи Романовны изможденное постаревшее лицо, трагическое выражение глаз, ничего общего с прежними фотографиями молодой Натальи Романовны, светившейся радостью и счастьем. А ведь в 1922 году ей только что исполнился 31 год. Ужасные, непереносимые годы – голод, холод и постоянные опасения ареста.
После смерти Алексея Михайловича Наталья Романовна вышла замуж за друга их юности Дмитрия Ярошевского и в 1931 году родила сына Илью, сводного брата моего отца. Она умерла в 1939 году, как тогда говорили, от «грудной жабы». Меня показывали ей, когда она приезжала к Сперанским на дачу в 1938 году, но в моей памяти она не осталась. Туся Овчинникова, которой в ту пору было около 16 лет, со свойственным юности радикализмом, не захотела примириться с новым замужеством своей матери, считая это предательством по отношению к памяти горячо любимого ею отца. К этому времени ее тетка, старшая сестра Натальи Романовны Татьяна, вместе с их овдовевшей матерью Таисией Ивановной Живаго уже много лет жили в Неаполе, где муж Татьяны, ихтиолог Рейнхард Дорн, был директором знаменитой зоологической станции и морского аквариума. И Туся уехала в Италию к бабушке и тете. Всю жизнь она провела за границей, училась живописи, выходила замуж, разводилась… Последние тридцать лет работала редактором на радиостанции «Свобода» в Мюнхене и впервые посетила Россию и увидела своих московских родственников в возрасте 79 лет в начале «перестройки» в 1991 году. Спустя три года она скончалась.
Василий Романович Живаго – фотографЕдинственный брат Натальи Романовны, мой двоюродный дед Василий Романович Живаго, родился в 1889 году. Для меня это тоже лишь историческая личность, хотя его жену Надежду Леонидовну, урожденную Байдакову, и ее детей Александра, Татьяну и Никиту, двоюродных братьев моего отца, я хорошо помню и встречался с ними не один раз. Василий Романович был приятелем и сверстником моего деда Алексея Михайловича Овчинникова. Он также окончил Московскую практическую коммерческую академию и был последним из рода Живаго, кто занимался торгово-предпринимательской деятельностью: некоторое время служил в Московском торгово-промышленном товариществе. В молодости увлекался плаванием и лыжами, состоял членом нескольких спортивных обществ. Под влиянием своего дяди Александра Васильевича, путешественника-египтолога и фотографа, Василий Живаго серьезно занялся фотографией. В начале XX века, изучая хлопковое дело, несколько лет провел в Англии и в Соединенных Штатах Америки. В США он слушал лекции и посещал семинары в Гарвардском университете. Первая мировая война и Октябрьская революция резко изменили его жизнь. В 1920-е годы Василий Романович путешествовал в качестве фотографа на научно-исследовательском судне по Индийскому океану. Потом работал в Резинотресте, в Академии художеств и, наконец, возглавил Научно-исследовательский институт научной и прикладной фотографии при Литературном музее в Москве. С наступлением тридцатых годов над головой Василия Живаго стали сгущаться тучи. Его институт был упразднен и преобразован в «кабинет». Сам Василий, обладавший независимым характером, постоянно получал нарекания со стороны директора музея Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. «Не выпячивайте свое сепаративное существование, – увещевал он заведующего кабинетом, – это никуда не годится». Действительно, добром это не кончилось. В 1937 году Василий Романович Живаго был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Там ему припомнили его английские и американские командировки, и, по словам его старшего сына Александра, в декабре 1937 года он был расстрелян как иностранный шпион на печально известном полигоне НКВД в Южном Бутове и похоронен в общей могиле. Через много лет он был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».
Младший сын Василия Романовича, покойный Никита Васильевич, отличный спортсмен, дружил с Юрием Сергеевичем Преображенским, хорошо известным среди горнолыжников, близким знакомым нашей семьи. Много лет назад я услышал от него одну легенду, якобы по секрету рассказанную ему молодым Никитой Живаго, хотя подтвердить или отвергнуть эту историю пока невозможно. Всем известно, что в последние годы жизни Ленина, когда он безвыездно был заперт в «Горках», резко ухудшились его отношения со Сталиным. Сталин прекратил общаться со своим коллегой и учителем, путем которого он, по его словам, продолжал вести большевистскую партию. После смерти Ленина в газете «Правда» появилась известная фотография «Ленин и Сталин в Горках», по которой была позже нарисована не менее известная картина. Преображенский, со слов Никиты Живаго, утверждал, что фотография в газете – не что иное, как искусно сделанный монтаж и на месте Ленина рядом со Сталиным был сфотографирован другой человек, а Ленин был запечатлен раньше и сидел на этой скамье в одиночестве. Художником-фотографом, обладавшим великолепной аппаратурой и сделавшим эти фотографии и монтаж, и был Василий Романович Живаго. Он, абсолютно уверенный в своей неизбежной и скорой гибели, отдавая все фотоматериалы сотрудникам НКВД, якобы известил их, что копии он спрятал в надежном месте. При этом поставил условие, что если к членам его семьи будут приняты репрессивные меры, эти копии немедленно окажутся за границей. И, действительно, ни жена, ни дети Василия Романовича, «изменника родины» расстрелянного органами, не пострадали в сталинские времена. Случай совершенно не типичный для тех лет[33].
Можно верить и не верить этому рассказу, но, работая над этим материалом, я нашел в интернете выдержки из книги Елены Прудниковой[34] «Второе убийство Сталина». Опубликованный текст начинается с рассказа (который автор называет анекдотом) Юрия Борева, сотрудника журнала «Театр». «В 1952 году автор какой-то публикации принес мне фотографию: Сталин и Молотов сидят на скамейке в Горках. Фотография была удивительно похожа на знаменитую "Ленин и Сталин в Горках", та же скамейка, те же позы. Я отправился к Главному редактору, драматургу Николаю Погодину. Был закат сталинской эпохи, интенсивно шли аресты. Погодин хмуро и нехотя дал указание: "Странный монтаж. Надо написать в ЦК или в органы. Часто бывает, что где-то сидит какой-то наборщик и протаскивает вредительство". Причем тут наборщик, я не понял. Фотографию я печатать не стал и никуда ее не переслал. Сейчас я думаю, что это фото и было оригиналом политической фальсификации: в знак великой дружбы вождей… Молотова в свое время заменили на Ленина. А автор статьи просто наткнулся на редкий снимок и, ничего не подозревая, приволок его в журнал».
Глава 3
Мой отец Адриан Алексеевич Овчинников
Теперь я хочу рассказать о моем отце, Адриане Алексеевиче Овчинникове, ярком и талантливом человеке, которого я очень любил, но с которым у нас были довольно сложные взаимоотношения. Он родился в 1915 году и, как я рассказывал, практически не знал своего отца. Он вырос в семье отчима – Дмитрия Адольфовича Ярошевского, бывшего сверстником юности его рано погибшего отца. Я думаю, что Митя Ярошевский всегда был влюблен в Наталью Романовну, но вынужден был уступить ее своему более счастливому приятелю. Когда Алексей уехал из Москвы и она осталась одна с двумя детьми, Дмитрий стал ее опорой и после смерти Алексея относился к Адриану как к родному сыну. Будучи специалистом по сельскому и лесному хозяйству, он был заядлым охотником и передал это увлечение пасынку. Я помню Дмитрия Адольфовича в последние годы его жизни уже после войны и вспоминаю увлекательные охотничьи байки, которые он рассказывал нам, когда мы с отцом навещали его в маленькой квартире в боковом флигеле бывшего особняка Живаго на Никитском (при советской власти на Суворовском) бульваре. К числу моих наиболее ярких детских воспоминаний могу отнести очень колоритного старика из этих рассказов – Бориса Михайловича Лазарева, лесничего то ли с Уральских гор, то ли из Западной Сибири, точно не помню. Он был приятелем Алексея Михайловича, и к нему мой отец в середине тридцатых годов несколько раз ездил охотиться. Борис Михайлович пару раз приезжал в Москву вскоре после войны, и от его охотничьих рассказов у меня просто захватывало дух. Он жил в сторожке в лесной глухомани и, по его словам, когда нужно было накормить нежданных гостей, стрелял тетеревов прямо с крыльца своего дома. Он звал нас с отцом в гости, и я страстно мечтал поехать к нему, но болезнь моего отца, а потом смерть Бориса Михайловича не позволили осуществиться моим мечтам.
Наверное, в детстве самым важным человеком для моего отца была его няня Ксения Афанасьевна Голубева, воспитавшая сначала Наталью Романовну Живаго, мою бабушку, а потом самого Адриана и Илью – его сводного брата. Я помню няню очень старенькой, небольшого роста женщиной с морщинистым лицом и добрыми, живыми глазами. Она умерла в 1967 году и была похоронена на Введенском кладбище. Отец сам сделал для ее могилы большой деревянный крест, который стоит там и по сию пору.
Все детство и юность Адриана прошли на Никитском бульваре в доме № 11, который раньше принадлежал Роману Васильевичу Живаго. Дом этот в первые годы советской власти, естественно, отобрали, оставив многочисленной семье Живаго две небольшие комнаты в левом флигеле. Роман Васильевич умер в 1918 году, а его дети еще долго жили в этом флигеле. Затем там осталась только семья Натальи Романовны. Летние месяцы вместе с детьми Живаго Адриан проводил на даче в Дарьине по Белорусскому направлению. Там снимали дом, принадлежавший внебрачному сыну Льва Толстого, Гавриле Петровичу Бабкину и его дочери Марии Гавриловне. Добираться до Дарьина было довольно трудно: от станции Жаворонки приходилось идти пешком около 5–6 верст, и Адриан из разных деталей собрал себе велосипед с низким гоночным рулем. Этот руль, как он рассказывал мне, он купил в Торгсине – Торговле с иностранцами. Так назывались магазины, где продукты и товары продавали за валюту или меняли на драгоценности. На этом велосипеде, которым он очень гордился, отец ездил в Дарьино нередко и из самой Москвы. Дарьино в те далекие годы было малоизвестной деревней, окруженной глухими лесами, где было много дичи, и Адриан весной ходил там на тягу, принося иногда по нескольку вальдшнепов.
Адриан дружил со своими двоюродными братьями Александром и Никитой и их сестрой Таней – детьми Василия Романовича Живаго. Дружба отца с семьей Живаго, вероятно, способствовала его знакомству и с моей матерью, Налей Сперанской. Дело в том, что Василий Романович Живаго был женат на дочери от первого брака Ольги Петровны Постниковой Надежде Леонидовне Байдаковой, урожденной Сорокоумовской. С Сорокоумовскими и Байдаковыми были издавна знакомы семьи Живаго и Овчинниковых. После развода с Леонидом Александровичем Байдаковым Ольга Петровна вышла замуж за известного в Москве хирурга Петра Ивановича Постникова. Последний был совладельцем частной лечебницы Постникова и Сумарокова, располагавшейся на Спиридоновке. С Петром Ивановичем Постниковым был близко знаком мой дед по материнской линии, детский доктор Георгий Несторович Сперанский. Семьи Сперанских и Постниковых вскоре породнились: в 1931 году старший брат моей матери Сергей Сперанский женился на дочери Петра Ивановича и Ольги Петровны, Кире, сводной сестре Надежды Леонидовны Живаго. Естественно, что Сперанские вошли в число друзей Постниковых и Живаго и много времени проводили вместе. Вместе ездили в Дарьино и в Турист, вместе ходили в походы по Подмосковью. Летом 1935 года Адриан Овчинников и Наля Сперанская поехали вдвоем на Черноморское побережье Кавказа в поселок Махинджаури вблизи Батуми. Там 14 июля 1935 года они расписались в местном ЗАГСе.
Еще будучи школьником старших классов, Адриан увлекся спортом, и прежде всего горными лыжами. В конце двадцатых годов в Москве оказались несколько австрийцев, приехавших на работу сюда по приглашению советского правительства. Они привезли с собой горные лыжи, окантованные металлом, и лихо катались на них с Воробьевых гор. Адриан, глядя на них, сам окантовал простые деревянные лыжи металлическими пластинками, закрепив их заклепками, и стал регулярно ходить на «Воробьевку». Я помню его рассказы о том, как много снега выпадало в те годы в Москве, и как он на лыжах ходил с Никитского бульвара до Лужников, где не было ничего, кроме огородов, и, перейдя по льду Москву-реку, поднимался на Воробьевы горы.
В те далекие годы экипировка и техника поворотов на лыжах сильно отличались от современной. Основным поворотом был «телемарк», для которого было нужно сильно выдвинуть вперед наружную к повороту ногу и присесть на внутреннюю. Этот поворот позволяли выполнить ременные крепления с поднимающейся пяткой. Несколько позже появился и был освоен Адрианом поворот «христиания», требующий более прочного крепления «кандахар», которое туго притягивало пятку пружинами. В начале 30-х годов Адриан стал заниматься в горнолыжной секции Центрального дома Красной армии (ЦДКА) и вскоре стал одним из сильнейших горнолыжников нашей страны. Он одним из первых получил звание мастера спорта по горным лыжам.
В книге воспоминаний многократного чемпиона страны и известного тренера Дмитрия Ефимовича Ростовцева «Зеркало скорости»[35] среди корифеев горнолыжного спорта много хороших слов посвящено и Адриану Овчинникову. На спуске отца всегда отличали склонность к риску и бесстрашие. Другой чемпион Советского Союза по горным лыжам того времени, Владимир Преображенский, который был еще мальчишкой, когда мой отец встретил его на подмосковной Шуколовке, и который всегда считал отца своим первым тренером, вспоминал: «Когда многих на вершине имеретинских склонов или Кохты (гора в Бакуриани) в тренировке страх прижимал к земле и они спускались, круто поворачивая вправо-влево, сбавляя скорость, Овчинников наперекор всему толкался энергично палками и мчался по искрящемуся снегу с вершины напрямую вниз, пересекая те следы как по линейке. Его швыряло и кидало. Фонтаны снега били в грудь. Казалось, сейчас не устоит, закувыркается по склону, но он не падал, мелькал внизу между стволами елей и серебристых чинар!»
В 1934 году отец, с детства имевший большие способности к рисованию, поощряемые и развиваемые его матерью-художницей, поступил в Московский архитектурный институт. Там он продолжал заниматься в горнолыжной секции, которую тренировал Вадим Гиппенрейтер, чемпион страны по слалому, ставший впоследствии известнейшим фотохудожником. Кроме горных лыж, Адриан, будучи очень сильным и атлетически развитым человеком, занимался беговыми лыжами, прыжками с трамплина и двоеборьем, легкой атлетикой и плаваньем, велосипедом и теннисом, неоднократно выступая за Архитектурный институт на студенческих спартакиадах. Он был чемпионом института по семи видам спорта.



