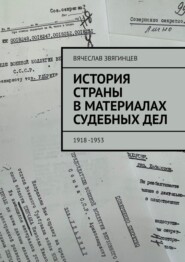скачать книгу бесплатно
«Обычно будущий ученый узнает о своей науке из уст другого ученого, более опытного и старшего – своего учителя. Ландау не мог ни у кого учиться квантовой механике. Не потому, что не было хороших учителей, а потому что самой квантовой механики тогда еще не существовало. Он до всего должен был доходить сам»[10 - Ландау Л. Д., Румер Ю. Б. Что такое теория относительности. Советская Россия. 1975.].
В 1924 году Ландау говорил Румеру на коллоквиуме по теоретической физике:
– Подобно тому, как все хорошие девушки уже разобраны и замужем, так и все хорошие задачи уже решены. И вряд ли я найду что-нибудь среди оставшихся.
Но он нашел свою, последнюю, по его словам, хорошую задачу – «квантование движения электрона в постоянном магнитном поле» (диамагнетизм Ландау). Произошло это на рубеже 20-30-х годов прошлого столетия, в период своей полуторагодичной научной командировки в Европу, где Ландау общался с родоначальниками квантовой механики В. Гейзенбергом, В. Паули и Н. Бором. Последнего всю жизнь называл своим единственным учителем.
Талант Ландау в полную силу проявился в стенах Украинского физтеха в Харькове, где он возглавил теоретический отдел. При Ландау УФТИ превратился в элитный мировой центр теоретической физики. В 1934 году Академия наук СССР приняла решение о присуждении Ландау без защиты диссертации ученой степени доктора физико-математических наук. В следующем году он стал профессором… И тогда же впервые попал в поле зрения НКВД.
Круг научных интересов Ландау в УФТИ многогранен – происхождение энергии звезд, дисперсия звука, передача энергии при столкновениях, рассеяние света, магнитные свойства материалов, сверхпроводимость, фазовые переходы веществ из одной формы в другую и движение потоков электрически заряженных частиц.
За свою недолгую жизнь Ландау успел сделать много. Но даже если бы его расстреляли в 38-м, что вполне могло произойти, то и тогда бы его имя осталось в истории. Ведь до своего ареста он успел разработать несколько теорий – уже упомянутую теорию диамагнетизма свободных электронов, теорию фазовых переходов второго рода, а также теорию доменной структуры ферромагнетиков, получив вместе с Е. М. Лифшицем уравнение движения магнитного момента (уравнение Ландау-Лифщица). Кроме того, он ввел понятие антиферромагнетизма как особой фазы магнетика, вывел кинетическое уравнение для плазмы в случае кулоновского взаимодействия, впервые получил соотношение между плотностью уровней в ядре и энергией возбуждения…
По мнению Г. Горелика, биографа Ландау, тот был очень необычным человеком, сочетавшим глубину и мастерство экстра-класса в мире науки с чертами подростка в делах мирских. На самом деле такое сочетание, – научная мудрость и беспомощность, дилетантизм в жизненных вопросах, – не редкость среди крупных ученых. В то же время, вряд ли соответствуют действительности утверждения о том, что, полностью отдаваясь науке, Ландау не обращал внимания на дела мирские. На первых порах он активно участвовал в общественной жизни страны и тех институтов, в которых работал, горячо поддерживал Советскую власть. Трансформация его отношения к власти произошла в середине 30-х годов, после того как начался разгром Харьковского физтеха.
Архивные документы НКВД показывают, что тучи над Ландау сгустились вскоре после того как по его приглашению в УФТИ приехал из Свердловского института физики талантливый ученый Моисей Абрамович Корец. 28 ноября 1935 года он был арестован как участник контрреволюционной подпольной группы, проводивший «разложенческую» работу среди сотрудников УФТИ.
Показания на Кореца, как наиболее активного участника этой группы, дали несколько человек. Один из них, институтский чекист П. Кравченко утверждал, что, по заявлениям Кореца, уровень УФТИ в связи с переходом на оборонную тематику «теоретически снижается», а потому необходимо «бороться против оборонной тематики». В «контрреволюционную группу», по словам Кравченко, входили Шубников, Ландау, Розенкевич, Обреимов[11 - Подробнее см.: Павленко Ю. В., Ранюк Ю. Н., Храмов Ю. А. «Дело» УФТИ. 1935—1938, Киев. Феникс. 1998. с.183—184.].
Через три месяца Корец был приговорен спецколлегией Харьковского областного суда по обвинению в агитации за срыв оборонных заказов к полутора годам лишения свободы. Освободили его досрочно, дело было прекращено «в связи с недостатком материалов обвинения».
Однако в секретном послании харьковских чекистов своим воронежским коллегам отмечалось‚ что прибывший на их территорию Корец вскоре вновь будет арестован, поскольку «является одним из активных участников контрреволюционной группы и ближайшим другом руководителя этой группы троцкиста профессора Ландау».
В этом документе Ландау, пожалуй, впервые был назван главным заговорщиком.
Почему же «троцкиста» Ландау не арестовали уже тогда? Точно неизвестно. Возможно, потому, что Ландау был человеком известным. И не только у нас в стране. Позже, в день его ареста, Капица писал Сталину, что утрата Ландау для мировой науки, «не пройдёт незаметно и будет сильно чувствоваться». Похоже, что «органы», а значит и Сталин, хорошо знали об этом и без Капицы. Чашу терпения Вождя переполнит лишь сообщение НКВД о листовке, в которой Ландау, принимавший участие в ее составлении, сравнил Сталина с Гитлером и Муссолини. Но это произойдет в 38-м. А в декабре 1936 года ограничились его увольнением из института. Ландау перебрался в Москву, где возглавил отдел теоретической физики во вновь созданном Институте физических проблем. Там он работал над теоретическим обоснованием сверхтекучести жидкого гелия. А в это время НКВД уже раскручивало новые дела – «Ландау-Румера-Кореца» и «Шубникова-Розенкевича-Горского»…
Лев Васильевич Шубников, руководитель лаборатории низких температур УФТИ, был арестован 5 августа 1937 года. В тот же день задержали руководителя лаборатории радиоактивных измерений Льва Викторовича Розенкевича, а 21 сентября – руководителя рентгеновской лаборатории Вадима Сергеевича Горского. В ноябре их расстреляли на основании решения «высшей двойки». А перед этим «выбили» у Шубникова и Розенкевича показания на их «соучастников» – Ландау, Румера, Обреимова, а также физиков-иностранцев А. С. Вайсберга и Ф. Г. Хоутерманса. Все они также были арестованы.
Дело в отношении первого директора УФТИ Ивана Васильевича Обреимова прекратили незадолго до начала войны. В тюрьме он написал научный труд «О приложении френелевой дифракции для физических и технических измерений», за который в 1946 году был удостоен Сталинской премии. Вайсберг и Хоутерманс[12 - После того как в Германии к власти пришли фашисты, Фридрих Георг Хоутерманс перебрался в СССР, где возглавил в УФТИ ядерную лабораторию. Опубликовал семь научных работ, две из них в соавторстве с И. В. Курчатовым. Арестован 1 ноября 1937 г. На основании постановления ОСО при НКВД СССР от 25 апреля 1940 г. был выдворен из СССР как нежелательный иностранец. Сотрудничал с фашистским режимом, работал в Имперском физико-техническом управлении. В послевоенные годы трудился в Центре физических исследований при Бернском университете.] были выдворены за пределы СССР.
В апреле 1940 года Обреимов, обращаясь в письме из лагеря к академику С. И. Вавилову, просил его «озаботиться» о своем научном наследстве, в том числе о разработках совершенно новой темы «рентгенографического анализа и кинетики образования промежуточных фаз при образовании твердых растворов». Обреимов писал, что этой темой успешно занимался «В. С. Горский, которого я считаю исключительно сильным физиком, с признаками гениальности». Он не знал, что Горский к тому времени был уже расстрелян. Как и его «подельник» Шубников, создавший первую в СССР криогенную лабораторию, в которой удалось обнаружить сверхпроводники второго рода.
В связи с делом Шубникова, которого признали агентом немецкой разведки и обвинили в том, что он хотел уничтожить криогенную лабораторию, Ландау написал 15 августа 1956 года обращение в Главную военную прокуратуру: «Говорить о его вредительской деятельности в области физики низких температур совершенно абсурдно, учитывая, что он как раз является одним из создателей этой области у нас»[13 - Архив Военной коллегии, надзорное производство №44—024554/56.].
Между тем, в 1938 году Ландау сам оказался одним из действующих лиц «театра абсурда». Той же рукой он написал в тюремной камере совсем другое: «К началу 1937 года мы пришли к выводу, что партия переродилась, что советская власть действует не в интересах трудящихся, а в интересах узкой правящей группы, что в интересах страны свержение существующего правительства…»[14 - Цит. по: Горелик Г. Е. Физики и социализм в архиве КГБ, Свободная мысль, 1992. №1, с. 45—53.].
Таким признанием Ландау обрекал себя на смерть. И сделал он это, заметим, не под пытками, которые к нему не применялись, если не считать угроз и психологического прессинга. Причины, по которым были даны признательные показания, становятся понятны после изучения материалов его дела, согласно которым обвинение не было полностью сфальсифицированным (в отличие от большинства других так называемых «контрреволюционных» дел)…
Ландау был арестован 28 апреля 1938 года, как член антисоветской организации «Московский комитет Антифашистской рабочей партии». В те же часы в подвалы НКВД доставили М. А. Кореца и Ю. Б. Румера. Сотрудники НКВД стали «пасти» их задолго до ареста. Согласно агентурным донесениям, каждый шаг «участников контрреволюционной группы» фиксировался:
«Профессор Румер, 5.Ш-38 г. на вечере в Доме Ученых со своим приятелем профессором доктором Ландау, заявил мне: «Читали, что делается в правящих кругах, сплошь изменник на изменнике сидит, а ведь почти все были руководителями страны. Ничего себе, хорошенькое правительство, состоящее из агентов охранки, предателей, убийц. И сидящие на скамье подсудимых и оставшиеся один другого стоят».
«18.IV Корец у себя на квартире представил источника двум лицам, назвавшим себя Ландау и Румер. Из бесед Кореца с источником ясно, что Ландау и Румер полностью посвящены в проводимую подготовку к выпуску антисоветских листовок».
Через несколько дней эта листовка, приуроченная к первомаю, была готова:
«Товарищи! Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь… Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот?! Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет… Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны только избивать беззащитных заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах…».
Некоторые исследователи ставили под сомнение факт участия Ландау в написании этой листовки. Между тем, из материалов дела следует, что с идеей ее изготовления и распространения во время первомайской демонстрации Корец действительно обращался к Ландау. Последний согласился просмотреть текст и внести свои правки. Он поставил лишь одно условие – не называть ему имен участников этой акции, опасаясь, видимо, что не выдержит пыток.
Ландау продержался три месяца. «Сломали» его в августе, предъявив оригинал листовки, написанной рукой Кореца, а затем и его показания. Ландау тоже вынужден был «признаться» в том, что еще в 20-е годы встал на «антимарксистские позиции в области науки», а в УФТИ входил в состав антисоветской группы физиков.
Неминуемая смерть Ландау от меча революционного правосудия была предотвращена великими физиками Петром Капицей и Нильсом Бором. Осенью 1938 года последний отправил на имя Сталина вежливое письмо, в котором писал, что до него «дошли слухи» о «печальном недоразумении» – аресте профессора Ландау. А Капица добился его освобождения, написав на имя Л. Берии личное поручительство.
Л. Д. Ландау выпустили из заключения ровно через год после ареста. 28 апреля 1939 года было вынесено постановление о прекращении дела с передачей Ландау на поруки.
М. А. Корец был осужден за контрреволюционную пропаганду к десяти годам лагерей. В 1942 году ему прибавили еще «десятку» – по той же статье. В общей сложности он провел в лагерях 14 лет, затем до 1958 года находился в ссылке.
Ю. Б. Румер также был приговорен к десяти годам лишения свободы. Наказание отбывал в «шарашках», а после войны – в енисейской ссылке…
Ландау не поехал в Стокгольм за получением Нобелевской премии. Официально – по причине автокатастрофы. Но высказывается мнение, что его бы туда вряд ли отпустили бы, даже в случае если бы со здоровьем у него было все нормально. В МГБ, а затем и в КГБ СССР, его считали классическим антисоветчиком – регулярно слушал передачи заграничного радио, считал несчастьем для России, что Сталин оказался на вершине власти, а в связи с событиями в Венгрии заявлял, что «наши решили забрызгать себя кровью».
Вот лишь две выдержки из опубликованных агентурных донесений и данных «прослушки» за декабрь 1956 года:
«Наша система – это диктатура класса чиновников, класса бюрократов. Я отвергаю, что наша система является социалистической, потому что средства производства принадлежат никак не народу, а бюрократии».
«Успех демократии будет одержан лишь тогда, когда класс бюрократии будет низвергнут. Если наша система мирным путём не может рухнуть, то третья мировая война неизбежна, со всеми ужасами, которые предстоят. Так что вопрос о мирной ликвидации нашей системы по существу есть вопрос судьбы человечества».
Этого было более чем достаточно для того, чтобы сделать Ландау «невыездным» и лишить его возможности участвовать в международных конференциях. Например, получив в 1956 году приглашение на Международный конгресс по теоретической физике в Сиэтл, он лично обратился к Н. С. Хрущеву за помощью, но получил отказ. Причины были изложены в «Справке КГБ СССР на академика Л. Д. Ландау», составленной в 1957 году по запросу Отдела науки ЦК КПСС, а опубликованной впервые в 1993 году[15 - Исторический архив, 1993, №3, с. 151—161.].
По поводу своей работы над атомным проектом Ландау не раз говорил, что эту работу ему навязали и что он был низведён до уровня «учёного раба». Тем не менее, вклад Ландау в создание ядерного оружия оказался очень весомым[16 - Подробнее в статье С. С. Илизарова «Я низведен до уровня «ученого раба…» (атомный проект – Ландау – ЦК КПСС) // Наука и общество: История советского атомного проекта (40-е – 50-е годы).]. Его группа «вручную» справилась с проблемой‚ за которую не взялись американцы (отложив ее до наступления компьютерной эры). Проблема эта – расчёт «слойки» для первой советской термоядерной бомбы‚ в которой чередовались слои с ядерной и термоядерной взрывчаткой. За эту работу Ландау был удостоен в 1954 году звания Героя Социалистического Труда. Но еще важнее, что участие в атомном проекте, возможно, спасло академика от новых репрессий.
Известно, что в период проведения послевоенной кампании по борьбе с космополитами, ее вдохновитель Ю. Жданов выдвинул против Ландау целый набор серьезных по тем временам обвинений. Тогда было принято решение отстранить Капицу, Ландау, Ландсберга и некоторых других «антипатриотов» от преподавания в МГУ. Сначала закрыли несколько кафедр на физико-техническом факультете, а затем и сам факультет. Петра Капицу, кроме того, сместили с поста директора Института физических проблем АН СССР. Но до арестов дело не дошло. Берии удалось убедить Сталина, что это нанесет ощутимый вред обороноспособности страны. А после смерти Сталина Ландау категорически отказался от своего дальнейшего участие в атомном проекте, заявив, что больше никогда заниматься этим делом не будет. И слово свое сдержал.
История освоения космоса в материалах судебных дел
Полеты в космос и создание ракетно-космического щита страны – результат напряженного труда сотен ученых, конструкторов и инженеров. Все работы проводились в обстановке строгой секретности и поэтому выполнять их должны были люди, облеченные высочайшим доверием партии и правительства. В реальности же многим из них довелось побывать в статусе «контрреволюционеров». И даже «врагов народа». Сегодня хорошо известно, что в числе таковых оказались даже генеральные конструкторы С. П. Королев и В. П. Глушко, не говоря уже о сотнях других инженеров и конструкторов ракетно-космических систем. Кто-то из них провел в лубянских подвалах всего несколько дней, кто-то – годы, немалое число было расстреляно.
Конструктор Роберто Людвигович Бартини, которого Королев называл своим учителем и говорил, что без него «не было бы спутника», был арестован в феврале 1938 года, обвинен в шпионаже в пользу Муссолини и приговорен «тройкой» к 10 годам лагерей. До 1947 года он трудился в «шарашке» – ЦКБ-29.
Юрий Васильевич Кондратюк (А. И. Шаргей), еще до революции рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне, в июле 1930 года был арестован по обвинению в контрреволюционном вредительстве и через год осужден на 3 года лагерей.
Лев Робертович Гонор, директор НИИ-88, в котором после войны работал Королев, был арестован в феврале 1953 года. Учитывая национальность Гонора, ему стали «шить» дело не только о вредительстве, но и о шпионаже в пользу израильской разведки. Но до конца дело не довели по причине смерти Сталина. Уже в апреле Гонор был освобожден…
А в 30-е годы, незадолго до начала войны, был практически разгромлен Реактивный институт, в котором работали многие ученые и инженеры, стоявшие у истоков космической программы. Директор института И. Т. Клейменов проходил руководителем сфабрикованного НКВД антисоветского заговора. Он, якобы, установил «контрреволюционную связь» со своим заместителем Г. Э. Лангемаком (оба расстреляны), а тот уже, по версии следствия, вовлек в организацию С. П. Королева и В. П. Глушко.
Рассказ о судебной эпопее конструктора космических кораблей №1 Сергея Павловича Королева – во второй части этой книги. А в этой главе упомянем других конструкторов. Прежде всего – это Валентин Петрович Глушко, основоположник отечественного жидкостного ракетного двигателестроения.
В. П. Глушко
Глушко был арестован 23 марта 1938 года. Допрашивали на Лубянке с применением физического насилия. В итоге он вынужден был подписать чистосердечное признание о том, что якобы участвовал в антисоветской организации и по заданию этой организации «проводил вредительскую подрывную работу в оборонной промышленности и занимался шпионской работой в пользу Германии».
Глушко осужден Особым совещанием при НКВД СССР по статьям 58—7 и 58—11 УК РСФСР к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет, но через некоторое время переведен в «шарашку» – конструкторскую группу 4-го Спецотдела НКВД при Тушинском авиамоторостроительном заводе. Здесь он трудился до 1940 года, потом был переведен на Казанское моторостроительное производственное объединение, где продолжил заниматься разработкой вспомогательных самолетных установок ЖРД с насосной подачей топлива. В 1942 году В. П. Глушко стал главным конструктором КБ-2. В июле 1944 года досрочно освобожден со снятием судимости – за выполнение работ, имеющих важное оборонное значение. Реабилитирован в 1956 году.
Судебная эпопея В. П. Глушко описана довольно подробно. Поэтому наш дальнейший рассказ о других соратниках С. П. Королева и В. П. Глушко, которые столкнулись с репрессивной машиной НКВД.
Ближайшим его соратником был Борис Викторович Раушенбах. В 30-е годы он увлекся планеризмом, не раз ездил испытывать планеры в Коктебель, где познакомился с Королевым и многие годы работал вместе с ним вместе в сфере космического ракетостроения.
Б. В. Раушенбах
Раушенбах занимался проектированием систем автоматического и ручного управления космическими кораблями, пилотируемыми человеком, систем ориентации и коррекции полета межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутников связи «Молния», сконструировал оборудование, с помощью которого впервые в истории человечества была сфотографирована обратная сторона Луны; готовил к полету Ю. А. Гагарина и первых космонавтов…
В 1942 году Раушенбах был репрессирован – выслан в Нижний Тагил, где занимался тяжелым принудительным трудом в отряде Тагиллага. Этот отряд биограф ученого Я. Голованов образно назвал «лагерем смерти»: «А как иначе назвать лагерь, в котором за сутки умирало десять человек?… Его ни в чем не обвиняли, никаких приговоров ему не выносили, никаких сроков заточения ему не определяли. Нет, впрочем, его обвиняли в том, что он немец…».
Лагерная эпопея ученого началась с повестки в военкомат, из которого он вместе с другими лицами немецкой национальности был отправлен в Тагильский лагерь.
Раушенбах так описывал свою жизнь за колючей проволокой: «Формально я считался мобилизованным в „трудармию“, в „стройотряд 18—74“, а фактически „трудармия“ была хуже лагерей, нас кормили скудней, чем заключенных, а сидели мы в таких же зонах, за той же колючей проволокой, с тем же конвоем и всем прочим. В самом начале попавшие в отряд жили под навесом без стен, а морозы на северном Урале 30—40 градусов! В иной день умирало по 10 человек… Я уцелел случайно, как случайно все на белом свете»[17 - Раушенбах Б. В., Постскриптум, М.: Пашков дом, 1999.].
Освободили его из заключения в январе 1946 года, переведя в категорию «спецпереселенцев». Это означало, что ему запрещалось удаляться от предписанного НКВД места жительства и надлежало в обязательном порядке ежемесячно отмечаться в райотделе милиции. Даже когда руководитель Ракетного НИИ М. В. Келдыш вызвал Раушенбаха в Москву и тот, будучи допущенным МГБ к секретной документации, сделал доклад на Научно-техническом совете оборонного института, нижнетагильская милиция приравняла эту поездку к побегу из-под стражи. Положение изменилось только в 1948 году, когда Раушенбах был зачислен в этот институт и занялся там разработкой теории вибрационного горения и акустических колебаний в прямоточных двигателях. А в 1955 году Раушенбах со своим коллективом перешел к Королеву. Тот очень ценил Бориса Раушенбаха. Достаточно сказать, что он был единственным человеком в институте, на которого Королев никогда не повышал голос.
Королев поставил Борису Викторовичу, по мнению многих ученых, невыполнимую задачу: срочно создать систему, которая позволила бы космическому аппарату сохранять строго определенное положение относительно Земли и других небесных тел. И Раушенбах взялся ее решить. Хотя ориентацией космических аппаратов до него никто в мире не занимался. Некоторые коллеги посчитали этот его шаг авантюристическим. Но он справился – буквально с нуля не только создал теорию управления космическим кораблем, но и воплотил ее в практику. Благодаря ему, мы увидели обратную сторону Луны, хотя астрономы считали, что это сделать невозможно.
7 октября 1959 года все сомнения астрономов были развеяны. Они увидели невидимое, а Раушенбах и его коллеги были удостоены Ленинской премии. Впрочем, сомнения были не только у астрономов. Говорят, что французский винодел А. Мэр, уверенный в том, что советским спутникам не удастся сфотографировать обратную сторону Луны и заключивший по этому поводу с советским консулом пари на тысячу бутылок шампанского, был вынужден признать поражение и выслать в адрес Академии наук СССР тысячу бутылок шипучего вина.
С начала 1960 годов Раушенбах активно участвовал в подготовке первого полета человека в космос, читал в отряде космонавтов курс по ракетной технике, обучал летчиков ручному и автоматическому управлению кораблем. Раушенбах вообще много времени уделял преподавательской деятельности. Он читал лекции на физтехе МГУ, на кафедре теоретической механики МФТИ, в университетах Америки и Европы. Борис Викторович был прекрасным оратором и уникальным специалистом не только в ракетостроении. Однажды, когда он начал читать для студентов физтеха двадцатичасовой цикл лекций «Иконы», в город Долгопрудный приезжали из столицы люди с записывающими устройствами…
Круг его научных интересов был чрезвычайно широк. Его называли последним энциклопедистом, сравнивали с философом Павлом Флоренским, с великими мудрецами эпохи Возрождения. В конце 90-х годов увидели свет его книги «Пристрастие» и «Постскриптум», диапазон которых весьма широк – от научных проблем, до философских обобщений, размышлений о нашем обществе и мироустройстве, о Петре I и его реформах, о Востоке древнем и современном, о нацизме и национализме и др. Есть в этой книге и такие строки: «Без конца слышу сейчас вопрос: как надо жить? Да так, чтобы, умирая, было не стыдно».
Имя Андроника Гевондовича Иосифьяна, выдающегося электротехника, замечательного ученого и изобретателя, до сих пор остается в тени. Между тем, он по праву считается основателем уникальной школы электромеханики. Королев называл его «Главным электриком всех ракет».
А. Г. Иосифьян
С 1930 году, после окончания электромеханического факультета Бакинского политехнического института, Иосифьян работал во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ), где создал и возглавил лабораторию военной электротехники. В 1937 году, как сын «врага народа» (в Ереване был арестован его отец), Иосифьян был исключен из партии, снят с должности, стал работать простым сотрудником в группе Д. В. Свечарника. Именно там он и совершил настоящий прорыв в науке, первым в мире, предложив оригинальный принцип построения бесконтактного сельсина – своеобразного синтеза электрической машины и трансформатора, – что дало мощный толчок развитию нового класса бесконтактных электрических машин. Во время Великой Отечественной войны бесконтактные сельсины применялись в системах управления артиллерийским огнем, в радиолокационных установках, авиации и др.
Результаты деятельности Иосифьяна многогранны: электровертолеты, радиолокационные установки, комбинированные источники питания и средства диверсионной борьбы, электромеханические системы автоматизации и информационные комплексы для АЭС, атомных ледоколов и подводных лодок, прокатных станов и других промышленных объектов. Но главным делом жизни Иосифьяна стало его участие в освоении космоса. После войны он был утвержден в должности Главного конструктора электрооборудования баллистических ракет и космических аппаратов и, как сам не раз говорил, Золотую Звезду Героя получил «за Гагарина».
Иосифьян со своим коллективом разработал большое количество различных электромеханических устройств для ракет, спутников и космических кораблей: двигатели, преобразователи бортовых источников питания, электроприводы для солнечных батарей и др.
В конце 50-х годов прошлого столетия Иосифьян загорелся идеей сконструировать и запустить в космос небольшой спутник для испытания электрооборудования. Его назвали «Омега». В нем впервые была реализована идея трехосной электромеханической ориентации с питанием от солнечных батарей.
Иосифьян был не только ученым, но и блистательным организатором производства, он органично сочетал теоретические исследования с практикой и доводил собственные научные разработки до создания опытных образцов и их запуска в серийное производство.
Теми же качествами обладал в полной мере Сергей Аркадьевич Векшинский – замечательный ученый и практик, которого называют укротителем вакуума. Он заложил основы современной электронной промышленности и вакуумной техники, внес существенный вклад в развитие радиолокации, в реализацию атомного проекта и космической программы.
С. А. Векшинский
В начале 1938 года главный инженер ленинградского завода «Светлана» С. А. Векшинский был арестован по групповому делу о контрреволюционном заговоре на этом заводе. Вот что писал о его аресте З. И. Модель: «Сутки простоял на допросе: „Будешь стоять, пока не признаешься“. – „В чем?“ – „Не знаю, признавайся!“ Признался, что шпионил в пользу Германии, Англии, Франции и Америки… Просидел Векшинский полтора года – с начала 1938 до второй половины 1939 года. Все обвинения были сняты и дело прекращено»[18 - IN MEMORIAM. Исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М. СПб. Феникс, Atheneum, 1995.].
Обвинения сняли, но боль в душе осталась. В своем дневнике Векшинский писал после освобождения: «Я потерял вкус к радиотехнике и работе с лампами, трубками и т. д.».
Все изменилось после начала войны. Обычный консультант, эвакуированный вместе с заводом в Новосибирск, проявил чудеса изобретательности, сумел преодолеть невероятные трудности, обусловленные отсутствием необходимых материалов, и наладил производство ламп для радиостанций, так необходимых фронту. Параллельно продолжал разработку нового метода получения сплавов переменного состава, за что позже был удостоен Сталинской премии…
Вклад Векшинского в освоение космоса существенен. Под его руководством проводились работы по созданию камер для имитации космической среды, некоторых видов электровакуумных приборов и датчиков для измерений в космическом пространстве, разрабатывались устройства для доставки на Землю лунного грунта и др. Так, известный конструктор ракетно-космической техники Б. Е. Черток писал в своих мемуарах как институт Векшинского сумел решить важнейшую проблему хранения кислорода для боевых стартов ракет – разработал очень экономичную систему для поддержания высокого вакуума в теплоизолирующих полостях хранилищ жидкого кислорода[19 - Черток Б. Е., Ракеты и люди. Фили – Подлипки – Тюратам., Книга 2, М.: Машиностроение, 1999, С. 217—218].
История танкостроения в материалах судебных дел
Значительная часть советского танкового парка, превышавшего количественно парк Вермахта в несколько раз[20 - По состоянию на 1 июня 1941 г. в РККА на вооружении находилось более 23 тыс. танков и САУ, из них боеготовых – более 80%.], была потеряна в летних боях 1941 года. Только в одном, крупнейшем танковом сражении, проходившем 25—30 июня под Дубно – Бродами, советские войска, несмотря на значительное численное превосходство (до 3 тыс. советских танков против 700 немецких), потеряли около 2,5 тысяч боевых машин (против 260 немецких).
Среди причин такого неслыханного и долгое время замалчиваемого разгрома часто называют слабую подготовку наших командиров, отсутствие боевого опыта, радиосвязи… Мы же обратим внимание еще на одну причину – отсутствие на танках противоснарядного бронирования.
Причин отставания несколько. А. А. Помогайбо, например, в книге «Оружие победы и НКВД» прямо связывал разгром в 1941 году мехкорпусов РККА с расстрелом в 1937 году мало кому известного человека – старшего инженера Кировского завода Михаила Петровича Зигеля[21 - Помогайбо А. А. Оружие победы и НКВД. Конструкторы в тисках репрессий. Вече. 2004.].
Дело в том, что перед войной фашисты усилили лобовую броню своих танков, так что 45-мм пушки советских танков Т-26 ее уже не могли пробивать на значительных дистанциях. Тогда как тонкую броню Т-26 (15 мм.) немцы пробивали практически на любой дальности боя.
Советские конструкторы тоже занимались проблемой усиления брони. Зигель как раз и работал над созданием нового танка с «противоснарядным» бронированием. Этот сверхсекретный экспериментальный средний танк – изделие 111 (Т-46-5) – разрабатывался в конструкторском бюро Ленинградского завода №185 имени Кирова под руководством С. А. Гинзбурга. Танк имел броню толщиной 60 мм, при стыковке листов впервые была использована электрическая сварка. Танк собрали к весне 1938 года. Однако в серию он не пошел. И не только из-за ненадежности силовой установки и сложности его производства. Но и по той причине, что этим проектом занимались «вредители» Гинзбург и Зигель.
Участие в разработке этого танка принимал и Михаил Ильич Кошкин, в будущем – главный конструктор знаменитой «тридцатьчетверки». Ему удалось отстоять Гинзбурга, которого освободили из заключения в апреле 38-го. Зигель же был осужден к высшей мере наказания выездной сессией Военной коллегии и расстрелян 6 мая 1937 года в городе Ленинграде.
В тот же день репрессировали конструкторов самоходных и танковых орудий Николая Никитича Магдесиева и Павла Николаевича Сячинтова. Магдесиева, создателя 203-мм гаубицы Б-4, осудили к тюремному заключению сроком на 10 лет, через год он скончался в заключении. Сячинтова – расстреляли. Хотя незадолго до ареста он был награжден орденом Ленина, после успешных испытаний самоходки СУ-14 со 152 мм. орудием.
М. И. Кошкин
Сам Кошкин чудом избежал репрессий, захлестнувших Харьковский паровозостроительный завод им. Коминтерна (завод №183), куда конструктор был переведен из Ленинграда в январе 1937 года.
В докладной записке НКВД «О конструктивных дефектах и задержке производством выпуска новых танков А-34 на заводе №183 в г. Харькове» отмечалось: «При проектировании танка А-34, под руководством главного конструктора завода №183 инж. Кошкина, было выявлено ряд дефектов, влияющих на боевые качества машины…»[22 - Цит. по: https://t34inform.ru/doc/1940-02-07_A-34_NKVD.html.].
Этот документ подписан заместителем наркома внутренних дел УССР Горлинским 7 февраля 1940 года. А уже через месяц из Харькова в Москву отправились своим ходом две «тридцатьчетверки», чтобы «намотать» километры, необходимые для испытаний надежности танка. В ходе этого пробега Кошкин простудился, серьезно заболел и через полгода скончался.
За три года до этого сотрудниками НКВД были арестованы работавшие над изделием А-34 (прототип танка Т-34) конструкторы А. О. Фирсов, Н. Ф. Цыганов, А. Я. Дик.
Афанасий Осипович Фирсов, конструктор танков БТ-5 и БТ-7, еще в 1930 году проходил по «делу Промпартии». Он был осужден тогда судебной коллегией ОГПУ к заключению в концлагерь сроком на пять лет. Но уже через 3 месяца переведен из мест изоляции на Харьковский завод им. Коминтерна, один из основных центров советского танкостроения.
Известно, что, благодаря Кошкину, убедившему руководство страны в необходимости перехода на чисто гусеничную машину, с дизельным двигателем, был создан легендарный Т-34. Но мало кто знает, что Фирсов также внес существенный вклад в разработку устанавливаемого на этот танк четырёхтактного 12-цилиндрового дизеля БТ-2 (В-2) мощностью 400 л.с.
А. О. Фирсов
Еще одним творцом этого знаменитого мотора был начальник дизельного отдела завода Константин Фёдорович Челпан. Оба они были арестованы и расстреляны за «вредительскую деятельность».
Репрессиям подверглись в те трагические для страны годы многие инженеры Харьковского завода – директор И. П. Бондаренко, главный инженер Ф. И. Лящ, главный металлург А. М. Метанцев и другие специалисты. Был уничтожен практически весь дизельный отдел завода: расстреляли М. Б. Левитана, З. Б. Гуртового, Г. И. Аптекмана, по десятке лагерей получили Ю. А. Степанов и И. Я. Трашутин. Последний в феврале 1939 года был освобожден из заключения после пересмотра дела, занимался доводкой и модернизацией двигателя, стал дважды Героем Социалистического Труда.
Был освобожден из заключения и Николай Фёдорович Цыганов, руководивший до ареста разработкой танка БТ-СВ-2 (еще один из прототипов Т-34). Ему принадлежала идея наклонного расположения броневых листов для улучшения защищенности танка. А вот Адольф Яковлевич Дик, осужденный на десять лет лагерей, отбыл срок заключения полностью. В 1947 году он был выслан в Бийск, а в Москву смог вернуться только в 1964 году.
Столь же трагично сложились судьбы создателей среднего танка Т-28, одного из самых удачных танков с многобашенной компоновкой, хорошо проявившего себя в боях с финнами и в начальный период войны – с войсками Вермахта.
Танк имел 3 башни, в центральной – находились 76-мм пушка и пулемет, в боковых – по одному пулемету. Танк собирался и выпускался с 1933 года на заводе «Красный путиловец» (будущий Кировский завод). И на всех этапах участников этого проекта сопровождали репрессии.
Профессор Владимир Иванович Заславский, принимавший в 1931 году участие в эскизном проектировании этого танка, был арестован в ноябре 1936 года. Он возглавлял тогда кафедру танков и тракторов Военной академии механизации и моторизации РККА, являлся автором первых российских научных трудов о танках. По сути, Заславский стоял у истоков развития танкового дела в СССР. 20 июня 1937 года он был осужден Военной коллегией к ВМН как участник антисоветской вредительской организации и на следующий день расстрелян.
Начальник конструкторского бюро Кировского завода (СКБ-2) и главный конструктор танка Т-28 Олимпий Митрофанович Иванов был приговорен к расстрелу 7 мая того же года, как «участник троцкистско-зиновьевской организации на заводе». Хотя перед этим он был награжден орденом Ленина за участие в разработке танка Т-28. На следующий день был расстрелян инженер-конструктор Иван Филиппович Комарчев, который был первым начальником бюро по танку Т-28, а на момент ареста возглавлял участок сборки Т-28.
Еще один конструктор этого танка, Николай Валентинович Цейц, пришедший в СКБ-2 уже после ареста Иванова и Комарчева, в 1938 году был заключен в лагерь, где подорвал здоровье и после освобождения прожил всего несколько месяцев.
Цейц, как и Иванов, был опытнейшим конструктором, с дореволюционным стажем. Кошкин являлся его учеником.
Цейц пришел на работу в СКБ-2, уже имея к тому времени судимость. Впервые его арестовали в октябре 1930 года, а в апреле следующего года коллегия ОГПУ осудила Цейца на 10 лет лагерей за «контрреволюционное вредительство».
В СКБ-2 Цейц участвовал также в проработке проектов и компоновке тяжелых танков СМК и КВ. 19 июля 1942 года он скоропостижно скончался на работе. Реабилитирован только в 1991 году.