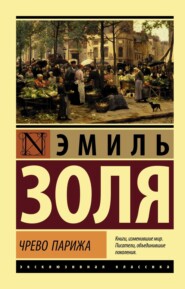скачать книгу бесплатно
Обратившись к Флорану, Лиза назвала его «сударь» и была очень приветлива. Она спокойно оглядела его с головы до ног, не выказав ни малейшего неучтивого удивления. Только чуть поджала губы. И продолжала стоять, с невольной улыбкой наблюдая эти пылкие братские объятия. Однако Кеню, видимо, успокоился. Тогда он заметил, как худ и плохо одет Флоран.
– Ах, дружок мой, здорово же ты сдал, пока был в тех местах… – сказал он. – Ну, а я раздобрел, что поделаешь!
Он и на самом деле был тучен, слишком тучен для своих тридцати лет. Жир выпирал из его рубашки, из передника, из белоснежного белья, – он был похож на огромного запеленатого младенца. С годами бритая физиономия Кеню вытянулась, приобретя отдаленное сходство с поросячьим рылом, – и недаром: он постоянно имел дело со свининой, руки его целый день копошились в этом мясе. Флоран с трудом его узнавал. Он сел и перевел взгляд с брата на красавицу Лизу, потом на малютку Полину. От них так и веяло здоровьем, они были квадратные, лоснящиеся, совершенно бесподобные, и рассматривали они его с удивлением, с тем смутным беспокойством, с каким люди очень тучные смотрят на тощего. Даже кошка, шкурка которой, казалось, вот-вот лопнет от жира, опасливо разглядывала его, тараща круглые желтые глаза.
– Ты подождешь до завтрака, правда? – спросил Кеню. – Мы завтракаем рано, в десять часов.
Из кухни проникал острый запах готовящихся блюд. Флоран мысленно вновь пережил минувшую страшную ночь, свое возвращение домой на овощах, свои муки среди рынка, вспомнил нескончаемый обвал жратвы, от которого он только что спасся. И тихо сказал, кротко улыбнувшись:
– Нет, я, видишь ли ты, проголодался.
II
Мать Флорана умерла вскоре после того, как он начал учиться на юридическом факультете. Жила она в Вигане, в департаменте Гар. Овдовев, она вышла замуж вторично за нормандца, некоего Кеню, родом из Ивето; какой-то супрефект привез его с собой на юг, да так и забыл там. Кеню продолжал служить в супрефектуре, поскольку нашел, что места здесь прелестные, вино доброе и женщины приятные. Через три года после женитьбы он скончался от несварения желудка. И единственным наследством, какое он оставил жене, был толстый мальчик, похожий на отца. Мать уже тогда с великим трудом вносила месячную плату в коллеж за учение своего старшего сына от первого брака, Флорана. Он доставлял ей много радостей, был очень кроток, усердно учился, получал первые награды в классе. На него она и перенесла всю свою нежность, возлагала все свои надежды. Быть может, предпочитая младшему сыну этого бледного и худенького мальчика, она невольно переносила на него свое чувство к первому мужу, который отличался свойственной провансальцам ласковой мягкостью и любил ее без памяти. А может быть, Кеню, пленив ее сначала своей жизнерадостностью, оказался слишком уж толстым и самодовольным, слишком был уверен в том, что главный источник радостей – его собственная особа. Г-жа Кеню решила, что из ее последыша, ее младшего сына, которым по традиции и сейчас еще часто жертвуют в семьях южан, ничего путного никогда не выйдет, и ограничилась тем, что отдала его в науку к соседке, старой деве, где мальчик научился только проказничать. Братья росли вдали друг от друга, как чужие.
Флоран приехал в Виган, когда мать уже похоронили. По настоянию г-жи Кеню, болезнь ее скрывали от Флорана до последней минуты, чтобы не помешать его занятиям. Флоран нашел маленького Кеню – ему тогда было двенадцать лет – плачущим, сидя на столе посреди пустой кухни. Их сосед, владелец мебельного магазина, рассказал Флорану о страданиях несчастной матери. Она выбивалась из сил, изнуряла себя работой ради того, чтобы сын мог учиться на юридическом факультете. Сверх мелкой торговли лентами, дававшей скудный доход, ей приходилось искать дополнительных приработков, трудиться до поздней ночи. Одержимая мечтой увидеть своего Флорана адвокатом с солидным положением в городе, она стала в конце концов черствой, скупой, беспощадной к себе и другим. Маленький Кеню ходил в рваных штанишках, в блузе с обтрепанными рукавами; он никогда сам не брал еду за столом и ждал, пока мать отрежет ему его долю хлеба. Но мать и себе отрезала такие же тонкие ломтики. Этот режим сократил ей жизнь, она умерла, полная безмерного отчаяния, что не успела завершить свою жизненную задачу.
Рассказ произвел ужасающее впечатление на чувствительную натуру Флорана. Его душили слезы. Он обнял брата, прижал к груди и поцеловал, как бы стараясь возместить материнскую любовь, которой его лишил. Флоран смотрел на его жалкие, стоптанные башмаки, продранные локти, грязные руки – все эти приметы нищеты заброшенного ребенка. Он твердил мальчику, что заберет его с собой, что им будет хорошо. На следующий день, когда Флоран ознакомился с положением дел, он испугался, что не соберет даже нужную для проезда в Париж сумму. Он ни за что не хотел жить в Вигане. Ему удалось удачно сбыть лавчонку, где г-жа Кеню торговала лентами, и это дало ему возможность заплатить долги, которые, как ни щепетильна была его мать в денежных вопросах, у нее все же мало-помалу накопились. И так как в результате он остался без гроша, то сосед-мебельщик предложил ему пятьсот франков за движимое имущество и вещи покойной. Сосед делал выгодное дело. Но юноша благодарил его со слезами на глазах. Флоран одел брата во все новое и увез в тот же вечер.
В Париже уже не пришлось думать о занятиях на юридическом факультете. Свои честолюбивые помыслы Флоран отложил до будущих времен. Он подыскал несколько уроков, снял в доме на углу улиц Руайе-Коллар и Сен-Жак большую комнату, в которой и поселился с Кеню, обставив ее двумя железными кроватями, шкафом, столом и четырьмя стульями. Отныне у него был ребенок. Флоран с радостью взял на себя роль отца. В первые дни, возвращаясь вечером домой, он попробовал заниматься с братом, но тот его почти не слушал; мальчик был тупой, не хотел учиться и горько рыдал, сожалея о тех временах, когда мать не мешала ему бегать по улицам. Флоран приходил в отчаяние, прекращал урок, утешал Кеню, обещал ему, что он будет отдыхать, сколько душе угодно. И пытаясь найти оправдание своей слабохарактерности, говорил себе, что не для того взял на свое попечение малое дитя, чтобы его тиранить. Радостное детство Кеню – вот цель, которой руководствовался Флоран. Он боготворил брата, с восторгом слушал его смех, бесконечно наслаждался тем, что он здесь, рядом, здоров и избавлен от забот. Флоран был все так же худ, носил потрепанное черное пальто, лицо его начинало блекнуть; ему досталась горькая участь учителя, ставшего предметом жестокой потехи учеников. Кеню же превратился в круглого, как мяч, немного дураковатого и полуграмотного, но неизменно жизнерадостного толстячка, наполнявшего весельем большую темную комнату на улице Руайе-Коллар.
Проходили годы. Флоран, который унаследовал самоотверженный характер матери, держал Кеню дома, как великовозрастную балованную девицу. Он избавлял брата даже от самых легких обязанностей по дому: сам ходил за покупками, убирал комнату, стряпал. По его словам, это отвлекает от мрачных мыслей. Обычно он бывал угрюм и считал себя злым. Вечером, когда он возвращался домой, забрызганный грязью, понурый, подавленный ненавистью чужих детей, его до глубины души трогало, что этот толстый, здоровенный мальчишка, только что запускавший волчок на полу, кидается ему на шею. Кеню хохотал, глядя, как неумело жарит брат яичницу, с какой глубокой серьезностью он ставит на огонь суп. Подчас, погасив лампу и улегшись в постель, Флоран снова грустил. Он мечтал возобновить свои занятия юриспруденцией, ломал себе голову, как бы урвать время для юридического факультета. Когда это ему удалось, он был вполне счастлив. Но однажды он простудился и неделю пролежал в постели; это пробило такую брешь в их бюджете и так его напугало, что он отказался от мысли закончить курс. У него рос сын. Флоран поступил на должность учителя в пансион на улице Эстрапад с окладом в тысячу восемьсот франков. Это было для него целое состояние; если жить экономно, думал он, можно откладывать деньги для будущего устройства Кеню. Восемнадцатилетнего малого Флоран все еще опекал, как барышню, которую нужно обеспечить приданым.
Во время недолгой болезни брата Кеню тоже предавался размышлениям. Однажды утром он объявил, что хочет работать, что он уже вполне взрослый и сам может себя прокормить. Флоран был глубоко тронут. На той же улице напротив жил часовщик, и мальчик целый день наблюдал, как он, согнувшись над залитым светом столиком у окна, перебирает непонятные хрупкие вещицы, терпеливо разглядывая их в лупу. Кеню пленился им и уверял, что мечтает стать часовых дел мастером. Но через две недели он потерял свою уверенность и разревелся, как десятилетний мальчишка, говоря, что специальность часовщика слишком сложна, что он никогда не запомнит «все эти маленькие штучки, которые засовываются в часы». Теперь он предпочитал ремесло слесаря. Но и слесарное дело ему разонравилось. За два года он перепробовал больше десятка профессий. Флоран считал, что Кеню прав, что профессию надо выбирать себе по сердцу. Однако благородная самоотверженность Кеню, пожелавшего зарабатывать на жизнь, чувствительно сказалась на бюджете. С тех пор как Кеню стал ходить в мастерские, появились бесконечные новые расходы: на одежду, на завтраки вне дома, на угощение товарищей-новичков. Тысячи восьмисот франков Флорана уже не хватало. Ему пришлось взять еще два урока, которые он давал по вечерам. Он носил один и тот же сюртук восемь лет.
У братьев завелся друг. Одной своей стороной их дом выходил на улицу Сен-Жак, где открылась большая закусочная; ее содержал почтенный человек, по фамилии Гавар, жена которого угасла от чахотки среди густого чада жарившейся птицы. Иногда Флоран возвращался домой слишком поздно, чтобы успеть сварить хотя бы кусок мяса; он покупал в закусочной за двенадцать су кусок индейки или гусятины. В такие дни у них был настоящий пир. Постепенно Гавар заинтересовался своими покупателями, узнал историю этого худого юноши, проявил участие к мальчику. Вскоре Кеню стал завсегдатаем закусочной. Едва старший брат уходил, Кеню усаживался в глубине лавки Гавара, с упоением следя, как, тихо поскрипывая, вращаются четыре гигантских вертела перед высокими, светлыми языками пламени.
Широкая медная облицовка камина сияла, от птицы шел пар, жир, стекавший в подставленный чугунок, звенел, и мало-помалу вертела заводили разговор друг с дружкой, ласково бормотали что-то Кеню, а он, вооружившись разливательной ложкой, благоговейно поливал подливкой зарумянившееся брюшко круглобоких гусей и величественных индеек. Он проводил так часы, весь красный в пляшущих отсветах огня, немного одуревший, безотчетно улыбаясь здоровенным птичищам, которые здесь жарились; он пробуждался от грез, лишь когда тушки снимали с вертелов. Птицы падали на блюда; еще дымящиеся вертела выскальзывали из их брюха через отверстия в гузке и шейке, из опростанных утроб струился сок, наполняя лавку крепким запахом жаркого. Мальчик стоя следил за всей этой процедурой, хлопал в ладоши, говорил птицам, что получились они превкусные, что их съедят целиком, а кошкам достанутся одни косточки. И он дрожал от удовольствия, когда Гавар давал ему ломоть хлеба, который он с полчаса томил в чугунке с подливкой.
Именно там, конечно, и пристрастился Кеню к кулинарии. Впоследствии, перепробовав все профессии, он неизбежно должен был вернуться к жаренным на вертеле тушкам, к соусам, после которых пальчики оближешь. Сначала он боялся вызвать неудовольствие брата, – Флоран ел мало и говорил о лакомых блюдах с презрением профана. Но затем, видя, что Флоран слушает его, когда он объясняет ему способ приготовления какого-нибудь очень сложного блюда, Кеню признался в своей склонности и поступил в большой ресторан. Отныне жизнь обоих братьев наладилась. Они продолжали жить в комнате на улице Руайе-Коллар, где сходились по вечерам: один возвращался от своей плиты с сияющим лицом, другой – с ввалившимися щеками, измученный невзгодами учителя, таскающегося по урокам. Флоран, даже не сменив свое черное отрепье, брался за тетради учеников; Кеню же вновь, чтобы было повольготней, облачался в свой передник, в белую куртку, в колпак поваренка и вертелся у плиты, готовя для собственного развлечения какое-нибудь изысканное жаркое. Порой они посмеивались, поглядывая друг на друга: один весь в белом, другой весь в черном. Казалось, их большая комната и радуется этому веселью, и опечалена этим трауром. Такой несходной и такой дружной четы свет еще не видывал. Как бы ни худел старший, сжигаемый страстями, унаследованными от отца, как бы ни толстел младший, будучи достойным сыном нормандца, обоих братьев объединяла любовь, впитанная с молоком их общей матери – женщины, которая была сама нежность.
У них оказался родич в Париже, дядя по матери, некий Градель, открывший колбасную на улице Пируэт, в районе рынка. Это был завзятый скряга, грубый человек, который обошелся с ними как с нищими, когда они в первый раз к нему явились. И племянники бывали у него редко. Кеню, в день именин старика, преподносил ему букет, за что получал десять су. Флоран, болезненно гордый, страдал, когда Градель пристально смотрел на его ветхий сюртук и в глазах его можно было прочесть беспокойство и подозрительность скряги, почуявшего, что гость попросит накормить его обедом или дать пять франков. Флоран, по своему простодушию, как-то разменял у дяди стофранковую кредитку. С тех пор старик не так пугался, когда к нему приходили «мальчики», как он их называл. Однако тем его расположение и ограничивалось.
Эти годы прошли для Флорана, как долгий, сладкий и грустный сон. Он изведал все горькие радости самоотверженной любви. Дома его встречала только ласка. А вне дома, когда его унижали ученики и грубо толкали прохожие на тротуарах, Флоран чувствовал, что озлобляется. Уснувшее было честолюбие восставало. Понадобились долгие месяцы, чтобы заставить Флорана согнуть спину и примириться со страданиями некрасивого, заурядного, бедного человека. Стремясь избавиться от искушавшего его озлобления, он впал в другую крайность – безграничной, идеальной доброты, он создал себе прибежище абсолютной справедливости и правды. Тогда-то он и стал республиканцем; он весь ушел в республику, – так иная девушка, отчаявшись, уходит в монастырь. И, не обнаружив нигде республики, которая была бы настолько мягкой и безбурной, чтобы утишить его горести, он выдумал свою собственную. Книги ему разонравились; груды бумаги, испещренной черными значками, окружавшей его всю жизнь, напоминали о зловонном классе, о шариках из жеваной бумаги, которыми кидали в него мальчишки, о пытке долгих, бесплодных часов. Кроме того, книги говорили ему только о восстании, подстрекали его честолюбие, а ведь он чувствовал необоримую потребность в забвении и покое. Убаюкать себя, уснуть, увидеть себя во сне совершенно счастливым, грезить, что и мир станет счастливым, строить в мечтах город-республику, где он хотел бы жить, – вот в чем находил он отдохновение, чем вечно был занят в часы досуга. Он больше не читал книг, кроме нужных для преподавания; он поднимался на улицу Сен-Жак, до внешних бульваров, иногда делал большой крюк, возвращаясь через Итальянскую заставу; и всю дорогу, устремив взгляд на квартал Муфтар, раскинувшийся внизу у его ног, он обдумывал меры морального воздействия, сочинял гуманные законы, которые превратят этот страдающий город в город счастья. Когда февральские дни обагрили кровью Париж, Флоран был убит горем, он ходил по клубам, требуя, чтобы республиканцы всего мира братским поцелуем искупили пролитую кровь. Он стал одним из тех вдохновенных ораторов, которые проповедовали революцию, как новую религию, проникнутую идеей кротости и искупления. И только декабрьские дни освободили его от этой вселенской любви. Он был обезоружен. Он дался в руки, как баран, а обошлись с ним, как с волком. Когда же прошло упоение идеями братства, он подыхал с голоду на холодных плитах тюремной камеры в Бисетре.
Кеню, которому тогда минуло двадцать два года, пришел в ужас, увидев, что брат не вернулся домой. На другой день он отправился искать его на Монмартрском кладбище среди убитых на бульваре; трупы лежали рядами, прикрытые соломой; мелькали лица, страшные лица. Мужество оставило его, слезы застилали глаза, ему пришлось дважды пройти между рядами трупов. Наконец, через семь мучительно долгих дней, он узнал в полицейской префектуре, что брат в тюрьме. Видеть его было запрещено. А так как он настаивал, ему и самому пригрозили арестом. Тогда Кеню побежал к дядюшке Граделю, который в его глазах был лицом влиятельным, надеясь уговорить его спасти Флорана. Но дядюшка Градель разгневался; он заявил, что Флорана взяли за дело, что нечего было этому длинному дурню путаться с республиканской сволочью, добавил даже, что Флорану суждено было плохо кончить, это у него и на физиономии написано. Кеню исходил слезами. Он не двигался с места, захлебываясь от рыданий. Немного пристыженный дядюшка, чувствуя, что надо бы как-то помочь бедному малому, предложил Кеню остаться у него. Градель знал о его кулинарном искусстве, кроме того, нуждался в помощнике. Кеню так боялся вернуться один домой в огромную комнату на улице Руайе-Коллар, что принял предложение дяди. В тот же вечер он остался у него ночевать на чердаке, в темном чуланчике, где еле мог вытянуть ноги. Но плакал он там меньше, чем плакал бы у себя дома, перед пустой кроватью брата.
Наконец ему удалось получить свидание с Флораном. Но, вернувшись из Бисетра, он слег; его свалила горячка, и он три недели пролежал в тупом забытьи. То была его первая и последняя болезнь. Градель желал своему племяннику-республиканцу провалиться в тартарары. Однажды утром, когда дядюшка узнал о высылке Флорана в Кайенну, он растолкал Кеню, грубо сообщил ему эту новость и вызвал такой кризис, что на следующий день юноша был уже на ногах. Его горе растаяло: казалось, его рыхлое тело поглотило последние слезы. Через месяц он уже смеялся, сердясь на себя и огорчаясь, что смеется, затем жизнерадостность взяла верх, и он снова смеялся, сам того не замечая.
Кеню научился колбасному делу. Оно доставляло ему еще больше удовольствия, чем поваренное искусство. Но дядюшка Градель говорил ему, что не следует слишком пренебрегать кастрюльками: колбасник, который при этом и хороший повар, – редкость, и Кеню повезло, что он попал к нему, поработав сначала в ресторане. Впрочем, старик использовал таланты Кеню: заставлял его готовить блюда для банкетов, а в особенности – жаренное на рашпере мясо и свиные отбивные с корнишонами. Юноша оказывал ему весьма существенные услуги, поэтому Градель на свой лад любил его и, будучи в добром расположении духа, трепал по плечу. Старик продал убогую мебель на улице Руайе-Коллар и оставил у себя вырученную сумму в сорок с чем-то франков, по его словам, для того, чтобы баловник Кеню не сорил деньгами. Правда, потом он уже стал выдавать Кеню по шесть франков в месяц на его нехитрые развлечения.
Кеню нуждался в деньгах, подчас терпел грубое обращение – и все-таки был совершенно счастлив. Ему нравилось, когда его жизнью распоряжались другие. Флоран слишком долго воспитывал его, как праздную барышню. Кроме того, Кеню завел себе приятельницу у дядюшки Граделя. Когда старик овдовел, ему понадобилась продавщица. Он приглядел себе здоровую, аппетитную девушку, ибо знал, что такая продавщица тешит глаз покупателя и служит украшением колбасной лавки. У Граделя была знакомая дама на улице Кювье подле Ботанического сада, покойный муж которой когда-то служил директором почты в Плассане, в одной из супрефектур на юге. Дама эта, скромно жившая на маленькую пожизненную ренту, привезла с собой в Париж красивую девочку-толстушку, к которой относилась как к родной дочери. Лиза ходила за ней с невозмутимым видом, характер у нее был ровный; подчас она казалась чересчур серьезной, но стоило ей улыбнуться, как она превращалась в настоящую красавицу. Секрет ее обаяния заключался в чудесном умении улыбаться, хоть редко, но метко. Тогда взгляд ее был сама ласка; ее обычная серьезность делала бесценной это неожиданно в ней проявлявшееся искусство обольщения. Старушка говаривала, что за улыбку Лизы готова хоть в ад. Почтенная дама скончалась от припадка астмы, завещав приемной дочери все сбережения – десять тысяч франков. Неделю Лиза провела одна в своей квартире на улице Кювье. Сюда-то Градель и пришел за нею. Он ее знал: Лиза часто сопровождала хозяйку, когда та захаживала к нему на улицу Пируэт. А на похоронах она показалась Граделю такой похорошевшей, такой статной, что он решил проводить покойницу до кладбища. Пока гроб опускали в могилу, Градель сообразил, что Лиза будет великолепно выглядеть в колбасной. Взвесив все, он надумал предложить ей тридцать франков в месяц с квартирой и с едой. Когда он сделал это предложение, Лиза попросила дать ей сутки на размышление, после чего утром она явилась с маленьким узелком и десятью тысячами франков за корсажем. Через месяц все в доме стали ее рабами, начиная с Граделя и Кеню и кончая последним поваренком. Но особенно – Кеню: ради нее он способен был бы отрубить себе руку. Стоило ей улыбнуться, как он и сам начинал смеяться от радости, любуясь этой нечаянной улыбкой.
Отец Лизы – она была старшей дочерью Маккара из Плассана – еще жил в то время. Лиза говорила, будто он за границей, и никогда с ним не переписывалась. Подчас она вскользь замечала, что покойница мать при жизни была очень работящая и что она, Лиза, пошла в мать. Действительно, она отличалась большим терпением и трудолюбием. Но Лиза добавляла, что ее добрая матушка проявила немало настойчивости, когда так убивалась ради благополучия семьи. И Лиза начинала рассуждать об обязанностях жены и мужа весьма разумно и добропорядочно, чем приводила в восторг Кеню. Он уверял, что и сам придерживается совершенно тех же взглядов. А взгляды Лизы заключались в том, что все должны трудиться, чтобы есть; всяк своему счастью кузнец; поощряя лень, мы сеем зло; словом, ежели на свете есть несчастные, то да будет это наукой бездельникам. Этим совершенно явно выносился приговор пьянству и легендарному тунеядству старика Маккара. В Лизе помимо ее сознания говорил голос Маккаров: она сама была лишь детищем Маккаров, но детищем благопристойным, рассудительным, логичным в своих стремлениях к довольству, усвоившим ту истину, что как постелешь, так и выспишься. Помыслам о мягкой постельке в жизни она и отдавала все свое время. С шести лет она соглашалась смирно сидеть на своем детском стульчике, при условии, что вечером ее вознаградят за послушание сладким пирогом.
Служа у колбасника Граделя, Лиза продолжала жить спокойной, размеренной жизнью, освещая ее своими ослепительными улыбками. Она не случайно приняла предложение старика; она сумела сделать его своим покровителем, и, может статься, чутье, присущее людям удачливым, подсказало ей, что в темной лавочке на улице Пируэт ее ждет прочное будущее, о каком она мечтала: жизнь, полная здоровых радостей, и неутомительная работа, каждый час которой вознаграждает себя с лихвой. Она так же спокойно и заботливо наводила порядок на своем прилавке, как ходила прежде за вдовой директора почты. Вскоре безукоризненная чистота Лизиных передников вошла в поговорку у жителей квартала. Дядюшка Градель был так доволен своей красивой продавщицей, что иногда, перевязывая бечевкой колбасы, говорил Кеню:
– Если бы мне не стукнуло шестьдесят, я, честное слово, свалял бы дурака и женился бы на ней… Для торговли, мальчик мой, такая женщина – все равно что наличные деньги.
Кеню усердно поддакивал. Однако он искренне расхохотался, когда сосед однажды заподозрил его в том, что он влюблен в Лизу. Он не знал любовных мук. Они с Лизой были в самых приятельских отношениях. Вечером, отправляясь спать, они вместе поднимались наверх по лестнице. Лиза занимала каморку рядом с чуланом, где помещался Кеню, она всю ее убрала кисейными занавесками, и комнатка стала совсем светленькой. Обычно на лестничной площадке они останавливались, чтобы немножко поболтать, стоя со свечой в руках и отпирая ключом свои комнаты. Затем закрывали за собой дверь, дружески говоря:
– Спокойной ночи, мадемуазель Лиза!
– Спокойной ночи, господин Кеню!
Кеню ложился в постель, слушая, как хлопочет за стеной Лиза. Перегородка была настолько тонка, что он мог угадать все ее движения. Он думал: «Ага! Она задергивает оконные занавески. А что бы это ей вздумалось делать перед комодом? Ага! Села и снимает туфли. Вот те на! Она, ей-богу же, задула огонь! Теперь бай-бай!» А услышав, как скрипит под ней кровать, он со смехом шептал: «Ну и ну! Про барышню Лизу не скажешь, что она легковесная». Его забавляла эта мысль; но, засыпая, он думал об окороках и ломтях свежепросольной свинины, которые ему надо завтра приготовить.
Так продолжалось год, и это не вызывало ни краски на щеках Лизы, ни смущения в Кеню. Утром, в разгар работы, когда девушка приходила на кухню, их руки встречались при разделке мяса. Иногда она ему помогала, держа в своих пухлых пальчиках свиную кишку, которую он шпиговал мясом и кусочками сала. Иногда они поочередно пробовали на кончик языка сырой фарш для сосисок, чтобы проверить, хорошо ли он приправлен. Лиза была дельной советчицей, она знала рецепты южных блюд, которые он с успехом испробовал. Нередко, когда она стояла за его плечом, заглядывая в котелки, он чувствовал, как ее тяжелая грудь касается его спины. Лиза подавала ему то ложку, то блюдо. Жаркий огонь печки румянил их щеки. Но ни за что на свете Кеню не бросил бы мешать жирное месиво, которое густело на плите; а она с полной серьезностью обсуждала, достаточно ли уварилось мясо. После обеда, когда лавка пустела, они часами спокойно разговаривали. Она сидела, немного откинувшись, у себя за прилавком и спокойно, размеренно вязала. Он усаживался на колоду для рубки мяса и болтал ногами, стуча каблуками по дубовому чурбаку. Они отлично ладили друг с другом; говорили обо всем: чаще всего о делах кулинарных, потом о дядюшке Граделе и еще – о событиях в их квартале. Лиза рассказывала ему, точно ребенку, сказки: она знала прелестные сказки, всякие предания, полные чудес, в которых действовала уйма агнцев и ангелочков; рассказывала Лиза певучим голосом, с присущей ей серьезностью. Если заходила покупательница, Лиза, чтобы не вставать с места, просила Кеню подать банку лярда или коробку с улитками. В одиннадцать часов оба поднимались наверх спать, – неторопливо, так же как накануне. Затем, затворяя за собой дверь, невозмутимо говорили:
– Спокойной ночи, мадемуазель Лиза!
– Спокойной ночи, господин Кеню!
Однажды утром, когда дядюшка Градель готовил заливное, его хватил апоплексический удар. Он упал ничком прямо на стол для разделки мяса. Лиза не потеряла своего обычного хладнокровия. Сказав, что нельзя оставлять мертвеца посреди кухни, она велела унести его подальше в каморку, где дядюшка спал. Затем придумала вместе с подручными Граделя целую историю о его смерти: дядюшка обязан был помереть на своей кровати, иначе жители квартала станут брезгать их лавкой, и можно потерять покупателей. Кеню помог перенести покойника; он совсем ошалел и очень удивлялся, что слезы не идут из глаз. Попозже они с Лизой все-таки поплакали вдвоем. Кеню и Флоран были единственными наследниками Граделя. Кумушки на соседних улицах приписывали старику большое состояние. В действительности же не удалось обнаружить ни одного экю наличными деньгами. Но Лиза не успокоилась. Кеню видел, что с утра до вечера она думает о чем-то и все вглядывается вокруг, словно что-нибудь потеряла. Наконец она решила устроить генеральную уборку, сославшись на то, что люди судачат о них: стало известно, как умер старик, и поэтому нужно навести чистоту. Однажды после обеда, проведя два часа в погребе, где она собственноручно мыла солильные кадки, Лиза появилась, неся что-то в подоле передника. Кеню рубил сечкой свиную печенку. Лиза подождала, пока он кончил, разговаривая с ним спокойнейшим образом, – только глаза ее необычно блестели. Улыбнувшись своей пленительной улыбкой, она сказала, что ей нужно с ним кое о чем потолковать. По лестнице Лиза поднималась с трудом: ее движения стесняла ноша, от которой передник так натянулся, что, казалось, вот-вот лопнет. На четвертом этаже Лиза вынуждена была постоять, опершись на перила, чтобы перевести дух. Удивленный Кеню молча следовал за ней до самой ее комнаты. Впервые Лиза пригласила его войти. Она заперла дверь; затем осторожно разжала онемевшие пальцы, которые устали сжимать концы передника, и на ее кровать обрушился ливень серебряных и золотых монет. Лиза обнаружила сокровище дядюшки Граделя на дне солильной кадки. Под тяжестью этой груды денег на чистой, мягкой девичьей постели образовалась глубокая вмятина.
Лиза и Кеню выражали свою радость сдержанно. Они сели на край кровати – Лиза в изголовье, Кеню в ногах – по обеим сторонам груды монет и сосчитали их тут же, прямо на покрывале, чтобы не звенеть деньгами. Всего оказалось сорок тысяч франков золотом, три тысячи франков серебром и в жестяной коробке сорок две тысячи франков банковыми билетами. У них ушло на подсчеты добрых два часа. Руки у Кеню немного дрожали. Больше всего пришлось потрудиться Лизе. Они складывали золото стопками на подушке, оставляя серебро в ямке на постели. После того как они подвели итог, выразившийся в огромной для них цифре – восьмидесяти пяти тысячах франков, у них состоялся разговор. Разумеется, они говорили о будущем, о своей женитьбе, хотя о любви у них никогда не было речи. Эти деньги словно развязали им языки. Они уселись поглубже на постели под кисейным белым пологом, опершись спиной о стену за кроватью и вытянув ноги; разговаривая, они все время перебирали деньги, и поэтому руки их встречались, замирали одна в другой среди пятифранковых монет. Так их застали сумерки. Тут только Лиза опомнилась и покраснела, увидев, что сидит рядом с молодым человеком. Они разорили всю постель, простыни съехали набок, золото на подушке между Лизой и Кеню оставило вдавлины, словно здесь метались пылающие страстью любовники.
Они встали, ощущая неловкость, смутившись, как влюбленная пара, которая впервые согрешила. Растерзанная постель, заваленная деньгами, уличала их в том, что они вкусили запретных радостей за запертой дверью. То было их первое грехопадение. Лиза, оправив платье, с таким видом, словно она совершила что-то дурное, принесла свои десять тысяч франков. Кеню попросил ее присоединить их к дядюшкиным восьмидесяти пяти тысячам; он, смеясь, перемешал деньги, сказав, что они тоже должны пожениться; затем было условлено, что Лиза будет хранить «клад» у себя в комоде. Когда она его заперла и привела в порядок постель, они спокойно спустились в лавку. Они были муж и жена.
Свадьба состоялась в следующем месяце. Обитатели квартала сочли их брак естественным и совершенно благоприличным. История сокровища была в общих чертах известна; люди на все лады восхваляли честность Лизы: ведь она могла ничего не сказать Кеню, оставить себе найденные золотые; если она ему об этом сказала, то лишь из чистой честности, никто же не видел, как она нашла деньги! Она вполне заслуживала, чтобы Кеню на ней женился. И Кеню просто повезло: красавцем его не назовешь, а нашел же красавицу жену, которая откопала для него клад. В своем восхищении Лизой некоторые заходили так далеко, что даже потихоньку говорили, будто Лиза «и вправду поступила как дура, если так поступила». Лиза улыбалась, слушая эти толки, пересказываемые ей в смягченной форме. Они с мужем жили, как прежде, в доброй дружбе, мирно и счастливо. Она помогала ему, руки их встречались в груде фарша; она, как и прежде, наклонялась над его плечом, заглядывая в котелок. И если кровь приливала к их лицам, то только от пылавшего в кухонной плите огня.
Однако Лиза была умной женщиной; она быстро смекнула, что глупо держать девяносто пять тысяч франков в ящике комода, не пуская их в оборот. Кеню охотно положил бы их обратно в солильную кадку, пока они не заработают столько же; тогда они уедут в Сюрень, в их любимый пригородный уголок. Но у Лизы были другие замыслы. Улица Пируэт противоречила ее понятиям об опрятности, ее тяге к чистому воздуху, к свету, к крепкому здоровью. Лавка, где дядюшка Градель по одному су накопил свое богатство, смахивала на черную длинную кишку и принадлежала к той разновидности подозрительных колбасных в старых кварталах города, где потертые плиты пола долго еще пахнут тухловатым мясом, как их ни мой; молодая женщина мечтала о светлом, похожем на роскошную гостиную, современном магазине, прозрачные витрины которого выходили бы на тротуар широкой улицы. Впрочем, это не было продиктовано мелким желанием разыгрывать из себя даму за прилавком: Лиза ясно сознавала, что в торговле нового типа роскошь стала необходимостью. Кеню испугался, когда жена впервые заговорила о переезде и предложила потратить часть их денег на отделку магазина. Она чуть пожала плечами, улыбаясь.
Однажды под вечер, когда в колбасной было темно, супруги услышали, как у их дверей одна из обитательниц квартала говорила другой:
– Ну нет, моя милая! Больше я у них не покупаю, ни кусочка кровяной колбасы не возьму… У них на кухне лежал покойник!
Кеню даже всплакнул. История о покойнике на кухне получила распространение. Кеню дошел до того, что краснел перед покупателями, когда замечал, что они слишком откровенно нюхают его колбасу. Он сам возобновил разговор с женой о переезде. Ни слова не говоря, она занялась поисками нового помещения; нашла она его в нескольких шагах от дома, на улице Рамбюто, в отличном месте. То обстоятельство, что напротив открывался Центральный рынок, должно было утроить число покупателей, создать известность заведению во всех концах Парижа. Кеню позволил втянуть себя в безумные расходы: свыше тридцати тысяч франков он вложил в отделку магазина, потратил на мрамор, на зеркальное стекло, на позолоту. Лиза проводила долгие часы с рабочими, входя с ними в обсуждение мельчайших деталей. Когда наконец она заняла свое место за прилавком, покупатели валом повалили, и только для того, чтобы увидеть колбасную. Облицовка стен была вся из белого мрамора, огромное квадратное зеркало на потолке обрамляла широкая полоса золоченых, богато орнаментированных лепных украшений; в центре этого зеркального потолка висела люстра с четырьмя рожками; а цельное зеркало, занимавшее весь простенок за прилавком, и другие зеркала в мраморных рамах – слева и в глубине – казались озерами света, дверьми, которые открывались в другие залы, умноженные до бесконечности, доверху наполненные выставленными мясными яствами. Особенно хвалили огромный прилавок, помещавшийся справа; все находили, что розовые мраморные ромбы, сделанные в виде симметричных медальонов, – чудесная работа. Пол был выстлан белыми и розовыми плитками с бордюром из темно-красного греческого орнамента. Квартал гордился своей колбасной, и никому больше не приходило в голову судачить о кухне на улице Пируэт, где лежал покойник. В течение целого месяца соседки останавливались на тротуаре, чтобы сквозь развешанные на витрине колбасы и бараньи сальники поглядеть на Лизу. Они любовались ее бело-розовой кожей не меньше, чем мрамором. Она казалась душой, живым источником света, здоровым и надежным божком колбасной; отныне ее иначе не называли, как «красавица Лиза».
Дверь справа вела из лавки в столовую, очень чистую комнату с буфетом, обеденным столом и стульями из светлого дуба, с плетеными сиденьями. От циновки на паркете, палевых бумажных обоев и светлой клеенки под дуб комната казалась холодноватой; уют придавала ей только сверкающая медью висячая лампа, которая спускалась с потолка, раскинув прямо над столом абажур из прозрачного фарфора. Дверь из столовой вела в просторную квадратную кухню. А кухня сообщалась с мощеным двориком, который служил складочным местом и был заставлен глиняными мисками, бочонками, всякой негодной домашней утварью; слева от колодца, подле канавы, куда выливали помои, увядали поблекшие цветы, убранные с витрины.
Дела пошли превосходно. Кеню, которого ужаснули предварительные расходы, теперь проникся чуть ли не почтением к жене, ибо она, как он выражался, женщина «мозговитая». Через пять лет у супругов было около восьмидесяти тысяч франков, выгодно помещенных в государственные процентные бумаги. Лиза объясняла, что они не честолюбивы, им незачем спешить наживаться, – иначе она бы заставила мужа зарабатывать «тысячи и сотни тысяч», уговорив его заняться оптовой торговлей свиньями. Они ведь еще молоды, у них много времени впереди; к тому же нечестная работа им претит, они хотят работать спокойно, не изнуряя себя заботами, как и положено добрым людям, которым дорога жизнь.
– Да, кстати, – добавляла Лиза в минуты откровенности, – есть у меня в Париже кузен… Я с ним не встречаюсь, наши семьи не ладят. Он переменил фамилию, назвался Саккаром, чтобы люди позабыли о кое-каких его делишках… Так вот, по слухам, кузен этот загребает миллионы. Ну и что ж, он жизни не видит, портит себе кровь, вечно где-то рыщет, вечно занят своими адскими махинациями. Быть не может, – ведь правда? – чтобы такой человек спокойно ел вечером свой обед. Зато мы по крайней мере знаем, что едим. У нас нет таких неприятностей. Деньги любишь только потому, что они нужны для жизни. А жить хочется хорошо, это каждому ясно. Ну, а если зарабатывать деньги только ради денег, если намучаешься от этого больше, чем получишь потом удовольствия, я, честное слово, лучше уж буду сидеть сложа руки… Да кроме того, хотелось бы мне хоть одним глазком поглядеть на эти миллионы моего кузена. Не верю я в этакие миллионы. Я его видела на днях, он ехал в коляске: лицо желтое-прежелтое, а сам насупился. Не такое лицо должно быть у человека, который хорошо зарабатывает. Впрочем, это его дело… По-нашему, лучше уж зарабатывать только сто су, но чтобы эти сто су шли впрок.
И действительно, супругам все шло впрок. В первый же год после их женитьбы у них родилась девочка. И на всех троих приятно было посмотреть. Торговля шла бойко, успешно, не слишком их утомляла, как и хотела Лиза. Она заботливо устраняла все, что могло бы дать повод для беспокойства, стараясь, чтобы дни за днями катились гладко в этом густом, с запахом сала воздухе, среди этого тяжеловесного благополучия. То был уголок, где царило трезвое счастье, уютная кормушка, у которой нагуливали жир мать, отец и дочка. Один Кеню иной раз грустил, вспоминая о своем бедном Флоране. До 1856 года он время от времени получал от него письма. Затем письма перестали приходить; Кеню прочел в газете, что трое заключенных пытались бежать с Чертова острова и утонули, не доплыв до берега. В полицейской префектуре ему не могли дать точную справку; должно быть, брат его умер. Проходили месяцы, и все же Кеню продолжал надеяться. Флоран, который скитался тогда по Голландской Гвиане, остерегался писать, не потеряв еще надежду, что доберется до Франции. В конце концов Кеню стал его оплакивать, как покойника, с которым не довелось даже проститься. Лиза не знала Флорана. Но она неизменно находила для мужа слова утешения, когда он начинал горевать; она позволяла ему сотни раз рассказывать всякую всячину об их юности, о большой комнате на улице Руайе-Коллар, о тридцати шести профессиях, которым он обучался, о лакомых блюдах, которые он готовил в печке, одетый во все белое, тогда как Флоран был весь в черном. Она слушала его спокойно, с бесконечной снисходительностью.
Вот сюда-то и нагрянул однажды сентябрьским утром Флоран, в самую пору расцвета этих радостей, которые столь мудро взращивали и лелеяли, в час, когда Лиза принимала свою утреннюю солнечную ванну, а Кеню с заспанными глазами лениво пробовал пальцем застывшее накануне сало. Все в колбасной пошло вверх дном. Гавар, надувая для важности щеки, требовал, чтобы «изгнанника», как он именовал Флорана, спрятали. Лиза, побледневшая и еще более серьезная, чем обычно, наконец повела Флорана на шестой этаж, где поместила его в комнате своей продавщицы. Кеню отрезал ему ломоть хлеба и ветчины. Но Флоран едва мог есть, у него кружилась голова, его мутило; свалившись в постель, пять дней он провел в бреду; началось воспаление мозга, которое удалось преодолеть с помощью энергичных мер. Придя в себя, Флоран увидел у своего изголовья Лизу; она бесшумно помешивала ложечкой питье в чашке. Когда он попытался выразить ей благодарность, Лиза сказала, что он должен лежать смирно, они поговорят поздней. Через три дня Флоран был уже на ногах. И вот как-то утром Кеню пришел за ним, объяснив, что Лиза ждет их обоих у себя в комнате, на втором этаже.
Супруги занимали там небольшую квартирку – три комнаты с чуланом. Сначала нужно было пройти пустую комнату, в которой стояли лишь стулья, затем маленькую гостиную, где в полумраке, при спущенных жалюзи – дабы не выгорел от яркого солнца нежно-голубой репс, – мирно дремала мебель в белых чехлах, а из гостиной дверь вела в единственную действительно жилую комнату – спальню, с мебелью красного дерева, весьма комфортабельную. Особенно поражала кровать с четырьмя тюфяками, четырьмя подушками, толстыми одеялами и пуховиком – пузатая, так и баюкающая в глубине сыроватого алькова. Эта кровать была создана для сна. Зеркальный шкаф, туалетный столик-комод, круглый одноногий столик под вязанной крючком скатертью, стулья с квадратными гипюровыми салфеточками на спинках – от всего этого веяло мещанской роскошью, опрятной и солидной. Слева на стене, по бокам камина, украшенного вазами с пейзажами, гравированными на меди, и часами с позолоченной фигурой Гутенберга, задумчиво опиравшегося перстом на книгу, висели масляные портреты Кеню и Лизы в овальных рамках с богатым резным орнаментом. Кеню улыбался, у Лизы был вид очень комильфо; оба – в черной одежде, с гладкими водянисто-розовыми, расплывшимися лицами, черты которых льстиво приукрасил художник. Паркет в спальне был покрыт трипом с замысловатым рисунком из розеток вперемешку со звездочками. Перед кроватью лежал пушистый коврик, сделанный из крученой шерсти, – плод долготерпения прекрасной колбасницы, связавшей его за прилавком. Но удивительно было то, что среди этих новеньких вещей стоял справа у стены большой старинный секретер, квадратный, приземистый, который пришлось только отлакировать, – заделать щербины на его мраморной доске и скрыть трещины в красном дереве, почерневшем от старости, оказалось невозможным. Лиза хотела сохранить этот секретер, служивший дядюшке Граделю более сорока лет; она уверяла, будто он принесет им счастье. А дело объяснялось тем, что секретер был укреплен железными скобами, снабжен крепчайшим замком, словно двери тюрьмы, и так тяжел, что его не могли сдвинуть с места.
Когда Кеню и Флоран вошли, Лиза сидела за откинутой доской секретера и что-то писала, выводя ряды цифр своим крупным, круглым и очень четким почерком. Она знаком дала понять, чтобы ей не мешали. Мужчины уселись. Флоран удивленно рассматривал комнату, два портрета, часы, кровать.
– Вот, – сказала наконец Лиза, тщательно проверив всю страницу с вычислениями. – Выслушайте меня… Мы обязаны представить вам отчет, дорогой Флоран.
Она называла его так впервые. Взяв листок со своими выкладками, она продолжала:
– Ваш дядя Градель умер, не оставив завещания; вы двое – вы и ваш брат – были единственными наследниками… Сейчас мы вам должны выдать вашу долю.
– Но я ничего не требую, – воскликнул Флоран, – мне ничего не надо!
Должно быть, Кеню не знал о намерениях жены. Он немного побледнел и сердито посмотрел на нее. Да, конечно, он очень любит брата; но ведь это нелепо так, сразу, обрушивать на голову Флорана дядюшкино наследство. Потом видно будет.
– Я хорошо знаю, дорогой Флоран, – возразила Лиза, – что вы вернулись не для того, чтобы требовать от нас свою долю. Однако дела есть дела; лучше уж покончить с ними сразу… Сбережения вашего дяди составляли восемьдесят пять тысяч франков. Значит, я отсчитала для вас сорок две тысячи пятьсот франков. Вот они.
Она показала ему цифру на листке бумаги.
– К сожалению, не так легко определить стоимость лавки, оборудования, товаров, доход от клиентуры. Я могла привести только примерные суммы; но, думается, я все подсчитала, в общем, в круглых цифрах… Получилась сумма в пятнадцать тысяч триста десять франков, из которых на вашу долю причитается семь тысяч шестьсот пятьдесят пять франков, а всего – пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять франков. Вы проверите, правда?
Она отчетливо, по слогам, прочла сумму, затем протянула ему листок бумаги, который он вынужден был взять.
– Но колбасная старика никогда не стоила пятнадцать тысяч франков! – воскликнул Кеню. – Я за нее не дал бы и десяти тысяч!
В конце концов жена вывела его из себя. Надо же и в честности меру знать. Разве Флоран спрашивал ее о колбасной? К тому же ему ничего не надо, он так и сказал.
– Колбасная стоила пятнадцать тысяч триста десять франков, – спокойно повторила Лиза. – Вы ведь понимаете, дорогой Флоран, что нотариуса впутывать сюда незачем. Мы сами можем поделить имущество, раз уж вы воскресли из мертвых… С тех пор как вы приехали, я не переставала об этом думать, и пока вы лежали у себя наверху в горячке, я плохо ли, хорошо ли, но старалась, как могла, составить опись имущества… Видите, тут все подробно указано. Я порылась в наших старых конторских книгах, да и память свою призвала на помощь. Читайте вслух, а я вам буду давать разъяснения, если они понадобятся.
Флоран не выдержал и улыбнулся. Его умилила эта широта и честность, по-видимому непритворная. Он положил страницу с расчетами на колени молодой женщины и, взяв ее за руку, сказал:
– Дорогая Лиза, я рад, что дела ваши идут хорошо; но я не приму ваших денег. Наследство принадлежит брату и вам, ведь вы ходили за дядей до его кончины… Мне ничего не нужно, я не собираюсь мешать вам в вашей коммерции.
Лиза продолжала настаивать, рассердилась даже, а Кеню, сдерживаясь, молчал в бессильной досаде.
– Эх, слышал бы вас дядюшка Градель, – рассмеявшись, сказал Флоран, – он явился бы сюда и отобрал у вас деньги… Он меня недолюбливал, наш дядюшка Градель.
– А вот это верно: он тебя недолюбливал, – пробормотал, изнемогая от волнения, Кеню.
Но Лиза все еще спорила. Она говорила, что не желает держать в своем секретере чужие деньги, что это будет ее мучить, что мысль об этом не даст ей жить спокойно. Тогда Флоран, продолжая шутить, предложил Лизе взять его деньги под проценты и использовать их на колбасную. Впрочем, он не отказывается от помощи; ведь он, конечно, не сразу найдет работу, да и вид у него непрезентабельный, ему нужно одеться с головы до ног.
– Тьфу ты, пропасть! – воскликнул Кеню. – Да ты будешь у нас ночевать, есть и пить с нами, и мы купим тебе все, что нужно. Это дело решенное… Ты ведь знаешь, что мы не оставим тебя на улице, черт подери!
Кеню совсем размяк. Ему даже стало стыдно, что он побоялся отдать сразу такую большую сумму денег. Он стал пошучивать, уверял, что берется откормить брата. Тот ласково покачал головой. Между тем Лиза сложила листок с расчетами и спрятала его в ящик секретера.
– Вы не правы, – сказала она, как бы заключая спор. – Я сделала то, что должна была сделать. А теперь пусть будет по-вашему… Я, знаете, не могла бы спокойно жить. Меня слишком смущают всякие дурные мысли.
Они заговорили о другом. Нужно было объяснить появление Флорана, не возбудив подозрений полиции. Флоран открыл им, что вернулся во Францию благодаря доставшимся ему документам того бедняги, который умер у него на руках в Суринаме от желтой лихорадки. По странному совпадению, этого человека тоже звали Флораном; правда, это его имя, а не фамилия. У Флорана Лакерьера в Париже была только двоюродная сестра, и ему сообщили в Америку о ее смерти; играть роль Флорана Лакерьера легче легкого. Тогда Лиза сама предложила назваться его кузиной. Решено было распространить слух о том, что кузен Лизы якобы вернулся из-за границы после неудачных поисков счастья и что Кеню-Градели, как называли супругов в их квартале, приютили его, пока он не найдет себе место. Когда они обо всем договорились, Кеню заставил брата осмотреть квартиру, немилосердно требуя, чтобы он оказал внимание всему, вплоть до плохонького табурета. Лиза приоткрыла дверь в пустой комнате, где стояли лишь стулья, и показала Флорану чулан, сказав, что здесь будет спать ее продавщица, а он останется в своей комнате на шестом этаже.
Вечером Флорана одели во все новое. Он настоял, чтобы ему купили, кроме того, черные пальто и брюки, вопреки советам Кеню, уверявшего, что черный цвет нагоняет тоску. Флорана больше не прятали, Лиза рассказывала всем желающим историю своего кузена. Флоран жил в колбасной; он забывался, уйдя в мечты, то на стуле в кухне, то прислонясь к мраморной стенке в лавке. За столом Кеню пичкал его едой и сердился, когда брат оставлял половину наложенного ему на тарелке мяса, – Флоран ел мало. Лиза вновь обрела свою плавную поступь и безмятежный вид; она терпеливо сносила присутствие Флорана даже утром, когда он мешал работе; она забывала о нем, а потом, вдруг увидев перед собой черную фигуру, вздрагивала, но тут же улыбалась своей пленительной улыбкой, не желая его обидеть. Бескорыстие этого тощего человека ее поразило; она прониклась к нему своеобразным уважением, смешанным с безотчетным страхом. Флоран же думал, что окружен большой любовью.
Когда наступал час сна, Флоран, немного усталый от ничем не заполненного дня, поднимался наверх вместе с двумя подручными Кеню, – они занимали каморки рядом с ним под крышей. Одному из них, ученику Леону, едва минуло пятнадцать лет; это был худой подросток, с виду очень смирный, который воровал краюшки окороков и забытые обрезки колбас; он прятал их под подушку, а ночью съедал без хлеба. Несколько раз уже после полуночи Флорану казалось, что Леон угощает кого-то ужином; шептались чьи-то сдавленные голоса, хрустела под зубами еда, шуршала бумага, и в глубокой тишине уснувшего дома звенел серебристый смех, – смех девчонки, похожий на приглушенную трель флажолета. Другой подручный, Огюст Ландуа, приехал из Труа; он был толстый, но полнота эта казалась нездоровой, а на его слишком большой голове уже виднелась лысина, хотя ему исполнилось только двадцать восемь лет. В первый же вечер, поднимаясь по лестнице с Флораном, он долго и невразумительно рассказывал ему свою жизнь. Сначала он приехал в Париж только для того, чтобы усовершенствоваться в своем деле и, вернувшись в Труа, где его ждала кузина – Огюстина Ландуа, открыть колбасную. У них был общий крестный, они получили одно и то же имя. Но Огюста одолело честолюбие, он стал мечтать о Париже, где обоснуется, пустив в оборот материнское наследство, которое перед отъездом до поры до времени оставил в Шампани на хранении у нотариуса.
Однажды, поднявшись вместе с Флораном на пятый этаж, Огюст задержал его, расхваливая г-жу Кеню. Он рассказал, как хозяйка согласилась вызвать Огюстину Ландуа на место уволенной продавщицы, которая сбилась с пути. Сам он уже изучил свое дело; нужно только Огюстине научиться торговать. Через год-полтора они поженятся, откроют колбасную, – конечно, в Плезансе или в каком-нибудь людном местечке вблизи Парижа. Со свадьбой они не торопятся, потому что сало в этом году не в цене. Огюст рассказал еще, что в день праздника св. Уана они вместе сфотографировались. И тут его потянуло еще раз взглянуть на их фотографию; Огюстина сочла своим долгом оставить ее на камине у Флорана: пусть, мол, у кузена г-жи Кеню будет красиво в комнате! Огюстен на минуту о чем-то замечтался, мертвенно-бледный, в желтых отблесках свечи, которую держал в руке; он осматривал комнату, где все еще было полно воспоминаний об Огюстине, подошел к кровати, спросил Флорана, удобно ли на ней спать. Теперь-то Огюстина ночует внизу, там ей будет лучше, на мансарде зимой очень холодно. Наконец он ушел, оставив Флорана наедине с кроватью и лицом к лицу с фотографией. Огюстен был бледной тенью Кеню; Огюстина – недозрелой Лизой.
Молодые подмастерья относились к Флорану по-приятельски, брат его баловал, а Лиза с ним ладила, и при всем том Флорана одолела отчаянная скука. Он пытался найти уроки, но тщетно. Правда, он избегал университетского квартала, боясь, что его там узнают. Лиза кротко замечала, что неплохо было бы обратиться к каким-нибудь торговым фирмам, там он мог бы вести корреспонденцию, ведать делопроизводством. Она неизменно возвращалась к этой идее и в конце концов предложила сама подыскать ему место. Мало-помалу ее стало раздражать, что он вечно путается под ногами, слоняется без дела, не знает, куда себя девать. Сначала это имело характер обоснованной антипатии к людям, которые сидят сложа руки, да еще едят; она тогда не считала, что Флоран ее объедает. Она говорила:
– Я бы, например, не могла так жить, целый день витая в облаках. Вот вам вечером и есть не хочется… Чтобы нагулять аппетит, надо, знаете ли, сперва потрудиться.
Гавар тоже подыскивал место для Флорана. Но искал он его необычным и совершенно секретным способом. Ему хотелось бы найти для Флорана какое-нибудь драматическое или хотя бы исполненное горькой иронии амплуа, как и подобает «изгнаннику». Гавар был оппозиционером по призванию. Ему перевалило за пятьдесят, и он хвастался тем, что на своем веку резал правду-матку в глаза четырем правительствам. Карл X, попы, дворянчики – обо всей этой швали, которую он выгнал, Гавар еще и сейчас говорил, презрительно пожимая плечами; Луи-Филипп, по его мнению, был просто дураком, вкупе со своими буржуа, и Гавар рассказывал историю о том, как «король-гражданин» прятал свои денежки в шерстяные чулки; что касается республики сорок восьмого года, так это комедия, рабочие его – Гавара – обманули. Однако он не признавался, что приветствовал Второе декабря, ибо теперь считал Наполеона III своим личным врагом: «Сволочь этакая, запирается с Морни и прочими, – что ни день, то попойка!» В рассуждениях на эту тему Гавар был неистощим; понизив голос, он утверждал, будто в Тюильри каждый вечер привозят в закрытых каретах женщин и будто он сам, собственными ушами, слышал как-то ночью, на площади Карусель, шум оргии. Доставлять, поелику возможно, неприятности правительству было для Гавара делом жизни. Он придумывал всякие подвохи, над которыми втихомолку хихикал месяцами. Так он голосовал за кандидата, который, конечно, будет «донимать министров» в Законодательном корпусе. Кроме того, если он, Гавар, мог обмануть казну, сбить с толку полицию, устроить какую-нибудь потасовку, он старался преподнести это как проявление сугубой революционности. Вдобавок он лгал, выдавал себя за человека опасного, разглагольствовал с таким видом, будто «тюильрийская клика» его знает и трепещет перед ним, говорил, что одну половину этих мерзавцев надо отправить на гильотину, а другую – в ссылку, «как только начнется новая заварушка». Таким образом, вся его пустозвонная и свирепая политика держалась на бахвальстве, на баснях, навязших в зубах, на той пошлой потребности в шуме и потехе, которая заставляет парижского лавочника в дни баррикадных боев открывать ставни в своей лавочке, чтобы глазеть на убитых. Поэтому, когда Флоран вернулся из Кайенны, Гавар учуял, что есть возможность выкинуть пакостный фортель, и старался придумать, каким бы особенно остроумным способом ему поиздеваться над императором, правительством, чиновниками, над всеми – до последнего полицейского.
Все поведение Гавара в присутствии Флорана показывало, что он наслаждается запретными радостями. Он ласково ему подмигивал, говорил шепотом о самых простых на свете вещах, пожимал руку с таинственностью масона. Наконец-то ему посчастливилось: он нашел себе действительно скомпрометированного сообщника; теперь он мог без чрезмерного вранья говорить о том, какой опасности подвергается. Конечно, в нем жил страх – хоть он в этом не признавался – перед человеком, бежавшим с каторги, чья худоба говорила о долгих страданиях; но этот сладостный страх возвышал Гавара в собственных глазах, убеждал в том, что он совершил весьма удивительный поступок, завязав дружбу с чрезвычайно опасным человеком. Флоран стал для него святыней, он божился только Флораном, ссылался на Флорана, если у него иссякали аргументы, а он хотел сразить правительство раз и навсегда.
Жена Гавара умерла еще на улице Сен-Жак, через несколько месяцев после переворота. Он держал закусочную до 1856 года. В то время поговаривали, что Гавар изрядно нажился в компании с соседом-бакалейщиком, который получил подряд на поставку сухих овощей для Восточной армии. В действительности же Гавар продал свою закусочную и жил в течение года на ренту. Но он не любил говорить об источниках своего благосостояния: это его стесняло, мешало ему напрямик выражать свое мнение по поводу Крымской войны, которую он считал рискованным предприятием, «задуманным лишь для того, чтобы укрепить трон и дать возможность кое-кому набить карманы». Через год ему стало смертельно скучно в его холостяцкой квартире. И так как Гавар почти ежедневно наведывался к Кеню-Граделям, он переехал к ним поближе, на улицу Коссонри. Там-то и покорил его Центральный рынок своим гомоном и фантастическими сплетнями. Он решил арендовать место в павильоне живности – только для собственного развлечения, чтобы заполнить свой пустой день базарными пересудами. Отныне он проводил время в бесконечных разглагольствованиях, был в курсе местных событий, вплоть до самого мелкого скандала, голова его так и гудела от визгливых выкриков, которые непрестанно раздавались вокруг. Здесь очень многое приятно щекотало его самолюбие, он блаженствовал, попав в свою стихию, и наслаждался, как карп, плавающий на солнышке. Иногда к нему в лавку заходил Флоран. В послеполуденные часы было еще очень жарко. Сидя вдоль узких проходов, торговки ощипывали птицу. Между спущенными тентами падали полосами солнечные лучи, перья из-под пальцев взлетали в раскаленный воздух, рея в золотой солнечной пыли, словно пляшущие снежинки. Флорана зазывали, уговаривали, заманивали ласковыми словечками: «Хороша уточка, не возьмете ли, сударь?.. Пожалуйте ко мне… У меня жирные цыплятки, просто красавчики, не угодно ли?.. Сударь, сударь, купите парочку голубков…» Он старался отделаться, сконфуженный, оглушенный. Торговки продолжали, перебраниваясь, ощипывать птицу, и тучи тоненьких пушинок падали на него, душили, как дым; казалось, от них веет еще теплым, густым и крепким запахом живности. Наконец посреди галереи, у фонтанов, он заставал Гавара в одном жилете, синем переднике, ораторствующего, скрестив руки на груди, перед своей лавкой. Здесь Гавар царил безраздельно, но как милостивый властелин, среди кучки в десять-двенадцать женщин. Он был единственным на рынке мужчиной. Гавар перессорился из-за своего длинного языка со всеми пятью или шестью продавщицами, которых он нанимал поочередно, и теперь решил сам отпускать товар покупателям, наивно жалуясь, что его дурехи день-деньской чесали языки и он никак не мог положить этому конец. Но кто-то должен был заменять Гавара в его отсутствие, поэтому он нанял Майорана, который слонялся без дела, после того как перепробовал все виды легкого заработка на рынке. Флоран иной раз проводил часок у Гавара, восхищаясь его неистощимым злословием, его бравым видом, непринужденностью, с какой он держится среди всех этих баб: обрежет одну, с другой перебранивается через десять лавок от своей, у третьей отобьет покупателя, и один производит больше шума, чем сто с лишним его соседок, от галдежа которых звонко гудели, словно тамтамы, чугунные плиты павильона.
У Гавара не осталось никаких родственников, кроме свояченицы и племянницы. Когда умерла его жена, старшая сестра ее – г-жа Лекер, с год назад овдовевшая, оплакивала ее с чрезмерным старанием и каждый вечер ходила утешать несчастного супруга. Должно быть, она тогда задумала пленить его и занять еще тепленькое место покойницы. Но Гавар терпеть не мог тощих женщин; по его словам, ему делалось тяжело на душе, когда он чувствовал, что у дамы под кожей кости. Он гладил только очень жирных кошек или собак, ему доставляли особенное удовольствие пышные, упитанные телеса. Г-жа Лекер была оскорблена, взбешена, увидев, что пятифранковики хозяина закусочной ускользают из ее рук; она затаила смертельную злобу. Зять стал для нее врагом, о котором она думала ежечасно. Когда он открыл лавку на Центральном рынке, в нескольких шагах от павильона, где она торговала маслом, сыром и яйцами, она обвинила его в том, что он «придумал это, чтобы досадить ей и накликать на нее беду». С тех пор она вечно жаловалась, еще больше пожелтела лицом и так прочно вбила себе в голову собственные измышления, что действительно потеряла покупателей, и дела ее пошатнулись. Долгое время на попечении г-жи Лекер жила племянница, дочь ее сестры-крестьянки, приславшей ей девочку, на чем и кончились заботы матери о ребенке. Девочка росла на рынке. Фамилия ее была Сарье, поэтому ее вскоре перекрестили в Сарьетту, иначе и не называли. В шестнадцать лет Сарьетта была плутоватой девицей, и «господа» захаживали к г-же Лекер за сыром только для того, чтобы повидать Сарьетту. Но Сарьетте господа не нравились, эту темноволосую девушку с бледным чистым лицом и огненными глазами тянуло к простонародью. Она остановила свой выбор на рассыльном тетки, носильщике, который был из Менильмонтана. Когда Сарьетта в двадцать лет открыла фруктовую лавку на какие-то деньги, источник которых так и остался не вполне ясным, ее любовник, именуемый господином Жюлем, стал отныне беречь свои руки, носить чистые блузы и бархатный картуз, появляться на рынке только после обеда и в домашних туфлях. Они жили на четвертом этаже большого дома по улице Вовилье, нижний этаж которого занимало кафе с сомнительной репутацией. Неблагодарность Сарьетты окончательно испортила характер г-жи Лекер, и она поносила племянницу самыми непотребными словами. Они рассорились: тетка совсем ожесточилась, а племянница вместе с г-ном Жюлем выдумывала про нее разные небылицы, которые он распространял в павильоне масла. Гавар находил, что Сарьетта забавная девчонка, он благоволил к ней и при встрече трепал по щечке: она была такая пухленькая, такая вкусная…
Как-то после обеда Флоран сидел в колбасной, усталый от утренней беготни по городу в тщетных поисках работы, когда вошел Майоран. Этот рослый парень, по-фламандски дородный и добродушный, пользовался покровительством Лизы. По ее словам, он был малый незлобивый, немного блажной, сильный, как лошадь, и особенно примечательный тем, что у него нет ни отца, ни матери. Именно она и определила Майорана на место к Гавару.
Лиза сидела за прилавком, раздраженная тем, что Флоран наследил своими грязными башмаками на бело-розовом плиточном полу колбасной; дважды уже она вставала и посыпала пол опилками. Она улыбнулась вошедшему Майорану.
– Господин Гавар, – сказал он, – послал меня спросить вас…
Тут он сделал паузу, огляделся по сторонам и понизил голос.
– Он мне строго-настрого приказывал подождать, пока никого не будет, и тогда повторить то, что он велел мне выучить наизусть: «Спроси их, нет ли какой опасности и могу ли я прийти потолковать с ними насчет того, что они знают».
– Скажи господину Гавару, что мы ждем его, – ответила Лиза, привыкшая к таинственным повадкам продавца живности.
Но Майоран не уходил; он замер в восхищении перед прекрасной колбасницей, выражая простодушную покорность. Видимо тронутая этим немым обожанием, она спросила:
– Нравится тебе у господина Гавара? Он человек неплохой, старайся хорошенько ему угодить.
– Да, госпожа Лиза.
– Вот только ведешь ты себя неприлично; я опять видела вчера, как ты ходил по крышам на рынке; и ты водишься с шайкой каких-то оборванцев и оборванок. Ты теперь взрослый, уже мужчина; надо как-никак подумать о будущем.
– Да, госпожа Лиза.
Тут Лизе пришлось ответить даме, которая спрашивала фунт отбивных с корнишонами. Лиза вышла из-за прилавка и подошла к колоде в глубине лавки. Вооружившись тонким ножом, она надрезала им три отбивных от передней четверти свиной туши, затем занесла своей сильной обнаженной рукой резак и трижды ударила; раздались три отчетливых, коротких удара. При каждом ударе ее черное шерстяное платье чуть задиралось сзади, а под натянувшейся на лифе тканью проступали планшетки от корсета. С глубоко серьезным видом, с ясным взглядом и сжатыми губами, она собрала отбивные и неторопливо их взвесила.
Покупательница ушла; Лиза заметила, что Майоран стоит, очарованный тем, как точно и быстро она трижды опустила резак, и воскликнула:
– Как, ты здесь еще?
Он повернулся было, чтобы уйти, но Лиза его удержала.
– Послушай, – сказала она, – если я еще раз увижу тебя с этой маленькой грязнухой Кадиной… Не вздумай отпираться. Только сегодня утром вы вместе смотрели в требушинном ряду, как раскалывают бараньи головы… Не понимаю, что такому красивому парню, как ты, может нравиться в этой потаскушке, в этой вертихвостке… Ну, ну, ступай, скажи господину Гавару, чтоб пришел сейчас же, пока никого нет.
Майоран ушел, ничего не ответив, смущенный и приунывший.
Красавица Лиза продолжала стоять за прилавком, чуть-чуть повернув голову в сторону рынка; Флоран безмолвно разглядывал ее; он был удивлен, что она, оказывается, такая красивая. До этого момента он не видел ее по-настоящему, – он не умел смотреть на женщин. Сейчас она предстала перед ним царящая над снедью, разложенной на прилавке. Перед ней красовались на белых фарфоровых блюдах початые арлезианские и лионские колбасы, копченые языки, ломти вареной свежепросольной свинины, поросячья голова в желе, открытая банка с мелкорубленой жареной свининой и коробка с сардинами, из-под вскрытой крышки которой виднелось озерко масла; справа и слева, на полках, брусками лежали паштеты из печенки, затем сырки из рубленой свинины, простая нежно-розовая ветчина и копченый, красномясый йоркский окорок с толстым слоем сала. И еще были там круглые и овальные блюда, блюда с фаршированными языками, с галантином из трюфелей, с кабаньей головой, начиненной фисташками; и совсем рядом с Лизой, прямо под рукой, стояла нашпигованная телятина, а в желтых глиняных мисках – паштеты из гусиной печенки и зайца. Гавар все не шел, и Лиза переставила грудинку на маленькую мраморную полку в конце прилавка, выстроила в ряд горшочки с лярдом и говяжьим салом, протерла мельхиоровые чашки весов, пощупала остывающий духовой шкаф и снова молча устремила взгляд на рынок. Веяло пряным ароматом мясных яств, и Лиза, погруженная в незыблемое спокойствие, казалось, сама благоухает трюфелями. В тот день вся она дышала чудесной свежестью; белизна ее передника и нарукавников как бы продолжала белизну фарфоровых блюд, сливаясь с белизной ее полной шеи, а розовеющие щеки повторяли нежные тона окороков и прозрачную бледность жира. Чем больше смотрел Флоран на Лизу, тем больше одолевала его неловкость, тем больше тревожили ее безукоризненные стати; в конце концов он отвел глаза и начал разглядывать ее исподтишка в зеркалах по всем стенам лавки. Она отражалась в них со спины, спереди, сбоку; даже на потолке Флоран видел ее наклоненную голову, затянутые узлом на затылке волосы, прилизанные на висках тонкие прядки. Перед ним было целое множество Лиз, являвших взору свои широкие плечи, пышную мощь рук, круглую грудь, такую безмятежную и разбухшую, что она не будила никаких чувственных желаний и походила на живот. Флоран остановил взгляд на одном из профилей Лизы, который ему особенно понравился; он отражался рядом с Флораном в зеркале между двумя половинами свиной туши. Над всеми мраморными простенками и зеркалами, на крючьях длинных перекладин, висели свиные туши и полосы сала для шпиговки; в этом обрамлении из сала и сырого мяса профиль Лизы, статной и мощной, с такими округлыми формами и крутой грудью, казался изображением раскормленной владычицы этого царства. Прекрасная колбасница наклонилась и послала ласковую улыбку сновавшим в аквариуме на витрине двум красным рыбкам.
Вошел Гавар и с многозначительным видом вызвал из кухни Кеню. Наконец все собрались; Флоран сидел, как и прежде, на своем стуле, Лиза за прилавком, а Кеню прислонился к свиному боку; тогда Гавар, присев на край мраморного столика, стоявшего наискосок от них, объявил, что подыскал место для Флорана, притом такое, что смеху не оберешься, да и правительство можно здорово облапошить!
Тут он осекся, увидев на пороге мадемуазель Саже, которая приоткрыла дверь лавки, едва заметила с улицы, что у Кеню-Граделей собралось за беседой многочисленное общество. Щуплая старушка в выцветшем платье, с неизменной черной хозяйственной сумкой на сгибе руки, в черной соломенной шляпке без лент, бросавшей на ее бескровное лицо загадочную тень, приветствовала мужчин полупоклоном, а Лизу – язвительной улыбкой. Мадемуазель Саже была старая знакомая, она по-прежнему жила в доме на улице Пируэт, где провела сорок лет своей жизни, существуя, конечно, на доход с маленькой ренты, о чем, однако, умалчивала. Правда, она как-то упомянула Шербург, добавив, что родилась там. А все прочее о ней так никогда и не удалось узнать. Она говорила о других, только не о себе, рассказывала все мелочи чужой жизни, вплоть до того, сколько сорочек люди отдают в стирку, и так страстно хотела проникнуть во все подробности существования соседей, что подслушивала под дверью и вскрывала их письма. Языка ее боялась вся округа – от улицы Сен-Дени до улицы Жан-Жака Руссо и от улицы Сент-Оноре до улицы Моконсей. Вооружившись своей черной сумкой, она уходила из дому на целый день якобы за покупками, но ничего не покупала, а разносила по городу свежие новости, была в курсе самых мелких происшествий и умудрялась таким образом держать в своей голове всеобщую и полную историю всех домов, этажей и жителей квартала. Кеню всегда считал ее распространительницей слухов о том, что дядюшка Градель умер на столе для разделки мяса; с этих пор Кеню и таил зло против нее. Впрочем, в истории дядюшки Граделя и семейства Кеню мадемуазель Саже, так сказать, собаку съела; она знала про них всю подноготную, могла разобрать их по косточкам, знала их «наизусть». Но уже недели две, как приезд Флорана выбил ее из колеи, она сгорала от любопытства в прямом смысле этого слова. Мадемуазель Саже заболевала, если в ее сведениях возникал пробел. И все же она могла поклясться, что где-то видела этого верзилу.
Остановившись перед прилавком, она стала обозревать подряд все блюда, приговаривая своим надтреснутым голоском:
– Уж и не знаешь, право, чего бы поесть. Как подойдет время обедать, так я слоняюсь, словно неприкаянная… Да и не хочется ничего… Может, у вас остались котлеты в сухарях, госпожа Кеню?