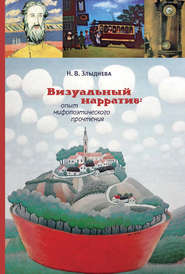скачать книгу бесплатно
19. М. Ларионов. Лето. Из цикла «Времена года». 1912
20. М. Ларионов. Осень. Из цикла «Времена года». 1912
Этот цикл состоит из четырех полотен: «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень», в настоящее время хранящихся в разных собраниях – в ГТГ («Зима» и «Весна»), в Центре Жоржа Помпиду в Париже («Осень») и в частной коллекции («Лето») [илл. 17–20]. Произведение традиционно относят к примитивистской стадии творчества художника, справедливо указывая на стилистическую связь этой живописи с лубком, вывеской, с искусством Гогена, восточным примитивом и детским рисунком [Поспелов, Илюхина 2005]. Отмечается и эпатирующий характер изображений, соответствующий типу поведения ранних авангардистов и особенно Малевича, для которых шокировать буржуазную публику в эти годы составляло часть художественной программы. Так, в рамках эпатирующей стратегии вводилась стилистика «заборных» рисунков и надписей. Дурашливо-смешная, раёшная живопись выполняла роль художественного жеста. Между тем, от внимания исследователей практически ушел вопрос о том, почему Ларионов, этот живописец от Бога, прекрасный колорист, обратился к жесткой структурной схеме, которой проникнуты композиция и семантика этих произведений. Ведь это единственное произведение со столь определенно выраженной дискретностью у мастера, и потому может быть расценено как своего рода изобразительный манифест. Конечно, Ларионов создавал и письменные тексты. В 1913 году он публикует брошюру «Лучизм», а также манифест «Лучисты и будущники». Однако в целом к словесным автокомментариям этот художник, в отличие от Кандинского, Филонова или Малевича был не склонен. Следует напомнить, что во время, когда создавался рассматриваемый цикл, происходил отход Ларионова от объединения «Бубновый валет», нацеленного на разрушение основы миметической традиции, но не порывающей с нею полностью, и создание им другого объединения – «Ослиный хвост», постулирующего существенно более радикальные художественные принципы.
21. Календарь сапотеков времени доколумбовой Мексики.
Объединенный общей тематикой отдельных картин, построенных к тому же по единой композиционной модели, тетраптих складывается в нечто вроде пиктограммы и может быть рассмотрен как единый текст, требующий дешифровки. Каждая картина цикла расчленена на геометрические части наподобие старинного народного календаря (см., например, календарь Брюса), на четыре неравные части (смещающиеся от полотна к полотну), и каждая из этих частей представляет отдельный тип изобразительной записи наподобие древних календарей латиноамериканцев [илл. 21].
Изображения времен года, описывающие природно-сельскохозяйственные и жизненные циклы, записаны четырьмя разными кодами, повторяющимися на каждом из полотен с небольшими вариациями. Так, наиболее крупное изображение – примитивистски огрубленная обнаженная женская фигура в рост, вместе с комментирующими деталями аллегорически представляющая соответствующие времена года: Зима с синим велумом, Весна с летающими вокруг нее амурами, Лето с серпом и Осень с птицами, несущими в клювах виноградные ветви и атрибутами виноделия (ковш, чаша, лоза). Остальные три четверти представляют: 1) картинки-рассказы, 2) мотивы дерева – вариации мирового дерева в соответствующем времени года вегетативном состоянии (голое зимой, расцветающее весной, снопообразное летом, плодоносящее осенью), а также 3) рукописные вербальные тексты. Художник отходит от миметической референции: раннему периоду его творчества было свойственно обращение к пейзажам, описывающим разные времена года в соответствии с традицией «природной» референции, однако данное произведение оспаривает не только пейзажи самого Ларионова, но и картины на темы времен года его ближайшей коллеги и спутницы жизни, художницы Н. Гончаровой, равно как и предшествующую традицию символизма/импрессионизма в целом. Отход от натурно-описательной модели проявляется, в частности, в нетрадиционной цветовой символике: так, весна показана желтой, т. е. ведущим признаком выбран цветовой эквивалент света (византийский принцип, концептуальный – в этом есть совпадение с символизмом, в частности, с «Временами года» в живописи Чюрлиониса), в то время, как желтый в «реалистической» живописи стереотипически характеризует осень. Аналогичное «нарушение» свойственно и другим цветовым атрибутам: зима – красно-коричневая (словно обыгрывается народная рифмовка мороз = красный нос), а осень – синяя.
Автор использует ограниченный набор традиционных изобразительных символов: дерево, дева, птица, собака, лоза и др. Наряду с характером четырехчастного деления полотен комбинаторика элементов следует принципу дополнительного распределения, на основе которого выстраиваются пары аналогий зима = лето и весна = осень. Это опять же напоминает древний календарь с его ориентацией на предсказания и знаками зодиака. Такого рода аналогии можно обнаружить в каждом из изобразительных комплексов отдельно.
Обнаженные женские фигуры в каждой из композиций – аллегории времен года – представляют собирательный тип Великой Богини. В этом художник следует традиционным моделям: аллегории времен года обычно имеют вид женских персонажей, нагота соответствует принципу телесных проекций мифологического календаря [Брагинская 1980]. Типы изображений и их атрибутика в других женских персонажах недвусмысленно отсылают к более широкому набору архаической иконографии: так, профильное изображение женщины на картине «Весна» напоминает так называемую Парижанку из росписей Кносского дворца на Крите [илл. 22], а серп в руке Венеры на картине «Лето» ассоциируется с символическим рогом изобилия в первобытной скульптуре. Символика плодородия, мотивы дионисийства отождествляют Венеру-Весну и Венеру-Осень посредством соответствующих классификаторов: весна охарактеризована амурами (символизирующими эротическую любовь), осень – виноградом. По типу позы – телесному статусу – образуются иные пары: танцующие аллегории весны и лета (вакхический, дионисийский мотив) противопоставлены статичным, подчиненным застылой вертикально-осевой симметрии аллегориям зимы и осени. Стилистически Девы Ларионова восходят к разным источникам: тут и Гоген (произведения которого Ларионов видел в Париже и которым был увлечен), и скифские бабы Гончаровой, и собственные произведения – многочисленные «Венеры» этого времени, в частности, «Солдатская Венера» (1912), написанная одновременно с рассматриваемым циклом [илл. 23]. Близок к Венерам цикла «Времена года» и заборный рисунок на картине «Отдыхающий солдат» (1911) [илл. 24]. Автоцитаты в живописи Ларионова возникают и позже, в 1920-е годы: обнаженная женщина – персонаж его наброска «Маня-курва» (1928) [илл. 25] – идентична предыдущему примеру, а птица с веткой в клюве повторяется в иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать» [илл. 26]. Эта миграция отдельных изобразительных мотивов заставляет каждый из них трактовать как своего рода знак-лексему, что еще раз указывает на лежащий в основе композиций пиктографический принцип.
22. а) «Парижанка». Фрагмент росписи Кноссного дворца, Крит, 15 в. до н. э.;
б) М. Ларионов. Весна. Из цикла «Времена года». Фрагмент
Автоцитирование показывает, что примитив Ларионовым стилизуется и показан двойственно: сам по себе и в игровом, раёшном ключе – как взгляд со стороны; на это обращали внимание искусствоведы [Поспелов, Илюхина 2005]. Хотелось бы добавить, что двойственность модуса изображения в данном случае передается в нарративной структуре: остранение стиля можно трактовать как «речь» персонажа, выраженную – если сравнить с литературным приемом – в форме несобственно-прямого повествования. Рассказ ведется как бы от лица субъекта, а «речь», акцентирующая протяженность во времени, вводит линейное время. Таким образом, циклическое время мифологической картины мира, заданное традиционными для календаря символами, нарушается.
23. М. Ларионов. Солдатская Венера. 1912
24. М. Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911
Однако нарушенное равновесие тут же восстанавливается в мотиве дерева, которое присутствует во всех четырех картинах. Своим вегетативным статусом дерево каждый раз маркирует тот или иной сезон (голое дерево – зимой, зеленеющее – летом, усыпанное плодами – осенью, расцветающее – весной). На двух композициях, между тем, есть и добавочные мотивы – древо искушения весной и свадебное деревце, по сторонам от которого друг напротив друга расположены жених и невеста, – осенью. Мотив отсылает к Мировому дереву – центральному символу архаической картины мира. Вокруг деревьев кружатся птички, по форме напоминающие рождественские пряники: пернатые выступают мифологическим классификатором, отмечающим верх. Посредством эквивалентных связей птицы = дерево (мировое дерево), птицы = дева, мотивы дерева/ птиц и Девы связываются между собой. Все это усиливает мифологическое звучание ларионовской Венеры, ее архаическую символику, в которой демоническое, идущее из низовых глубин женское начало сплетается воедино с сакральным верхом, отсылая к мотиву брака неба и земли. Возникает ассоциация с демонической Лилит из стихотворения Н. Гумилева «Ева или Лилит» 1911 года: У Лилит – недоступных созвездий венец, / В ее странах алмазные солнца цветут[10 - Известно, что Ларионов в эти годы был знаком с Гумилевым, а позже, в эмиграции, даже сдружился с ним и неоднократно делал его портретные зарисовки Еще раньше, в 1909 году портрет Н. Гумилева написала Н. Гончарова.]. Создавая лубочно-игровой парафраз архаических символов, художник посмеивается и над символистскими клише, стремясь, одновременно «называя» и осмеивая их, опрокинуть недавнее прошлое культуры Серебряного века.
25. М. Ларионов. Маня-курва. 1920-е
26. М. Ларионов. Череп и птица. Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать». 1920
Принцип нарушения равновесия и его восстановления последовательно проведен и в композиции полотен: так, регулярно повторяющаяся центрально-осевая симметрия (геральдических предстояний) уравновешивается асимметричными сдвигами членений полотен, произвольностью поз Девы, нерегулярностью изобразительных «рифм». Последнее особенно интересно: свойственное любому примитиву ковровое заполнение плоскости изображения Ларионов структурирует, вводя пары соответствий на уровне формы. Так решены картинки-рассказы цикла: зимняя деревня, где вдоль домов бегут голодные собаки своим мерным ленточным ритмом, «рифмуется» с летним сбором урожая (процессия мужчина/женщина с корзинами, 4 ноги). На картине «Весна» Адам и Ева, по сторонам от уже упоминавшегося Древа познания в сочетании со сценой изгнания из рая, соответствуют брачной паре по сторонам от свадебного деревца на картине «Осень». Тем самым Весна и Осень объединяются по признаку центрально-осевой симметрии геральдических пар, а Зима и Лето – по признаку симметрии сдвига. Однако возникают и перекрестные соответствия: так, дерево на картине Лето, геральдически окруженное птицами, отмечено центрально-осевой симметрией, а Весна – симметрией сдвига в изображении сцены изгнания из рая. В чередовании парности и непарности реализован числовой код 3 + 4, согласно архаическим представлениям, описывающий полноту мира [Топоров 1982д]. Интересно, что это же числовое сочетание, в раннем авангарде обозначенное Ларионовым, подобно рамочной конструкции встретится и в «авангарде на излете», а именно на картинах К. Малевича «Красная конница» [илл. 132], а также «Бегущий человек» (см. об этом в следующем разделе книги). Можно обнаружить это символическое сочетание и на уровне семантики: постоянно присутствующий в полотнах цикла «Времена года» мотив дерева, имплицирующий троичность (деление символического пространства по вертикали на три зоны), противопоставлен мотиву четверичности времен года, которой соответствует четверичность живописного цикла: членение четырех полотен на четыре части.
Четвертый тип изображений в каждом полотне представлен рукописными текстами [илл. 27]. Это «народно-поэтические» описания смены времен года. Балаганно-ярмарочные полустихи, полуречевки – тексты основаны на принципе произвольного членения слов при переносе в новую строку и декоративного (относительно равномерного – принцип народного орнамента) чередования цвета букв. Частичные внутренние рифмы соответствуют и частичности изобразительных «рифм». Лубку художник следует и в параллелизме изображения/слова, хотя этот параллелизм и неполный: так, словесная осень – «блестящая как золото» – не соответствует изображению, в котором доминируют синие тона. В весело приплясывающих буквах, орфографических ошибках очевидно влияние футуристических книг, которыми Ларионов и Гончарова в эти годы занимались. Принцип произвольного членения слов при переносе на новую строку предвосхищает идею А. Крученых о расчленении слова с целью расподобления смысла, которую он сформулировал в статье «Слово как таковое» годом позже (1913). В этом манифесте Ларионов в числе художников не упоминался, но выдвинутые принципы схожи: «1. Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! (пение, плеск, пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание <…> 2. Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая)» [Крученых, Хлебников 2008].
27. М. Ларионов. Фрагмент надписей на полотнах из цикла «Времена года»
«Смотрелось во мгновение ока» – это по сути изображение письменного текста, письменности как таковой, ее остранение наподобие иронической двойственности лубка в цикле. Выписанные от руки и раскрашенные буквы равнозначны мазку, процессу его нанесения на полотно, наконец, самой живописи как таковой. Рукописность текстов словно описывает медлительный ход возникновения картины, линейное время как таковое. Благодаря руко-письму возникает и другой эффект: уподобление фрагментов, а с ними и всего живописного полотна/цикла живой речи. Возникает сплошной изоморфизм изображения и слова: уподобленные танцующим Девам, буквы перекликаются и с дионисийским буйством природы, изображаемым на полотнах, мотивами виночерпия, эротики. Описательно-назывные предложения, в которых главное слово – первое. Это своего рода живописные именования – как бы вербальные портреты. Перенесение изобразительных законов на сферу вербального (поменялись ролями) – это доминанта пространственного искусства (изобразительного) над временным словесным. Получилась инверсия: дискретность изображения здесь противопоставлена «изобразительности» слова, своего рода экфрасис наоборот.
Дискретность полотен «Времена года» Ларионова символически противостоит времени, исторической традиции. На первый план выдвигается динамический принцип: смена времен года как членение изображения-текста par excellence, в котором главная роль принадлежит пространству. Круговорот сезонов оказывается «пришпиленным» к плоскости наподобие гербария. Отмечая сходство современной живописи и лубка в предисловии к своей выставке 1913 года, Ларионов сам пишет о том, что «выдвигаемое лубками и нашими теперешними художниками, является наилучшим доказательством уничтожения времени» [Поспелов, Илюхина 2005]. Провозглашенное уничтожение времени – это утверждение времени циклического, однако в соответствии с авангардной мифологемой начала Ларионов вводит и линейный вектор, прогностический. Последний обусловлен сходством изображений с картами.
Действительно, проецирование времени (времен года) на пространство, плоскостные изображения, многообразные симметрические композиции и ряд других особенностей поэтического устройства этой серии заставляют провести аналогию этих картин с игральными картами. Известно, что Ларионов коллекционировал карты, которые очевидно, явились еще одним источником его неопримитивизма. Карточной темы вообще много в живописи раннего авангарда. Теме карт и карточной игры отдали дань и О. Розанова, и К. Малевич, и А. Крученых [илл. 28]. Не стоит забывать, что название выставки/объединения «Бубновый валет» придумано самим М. Ларионовым за два года до создания этого цикла. Карты и карточная игра реализуют мотивы случайности, рока, т. е. неуправляемого линейного вектора – с одной стороны, и закономерность фиксированных значений, сетки координат – с другой. Эта дихотомия правил и их реализации, подобная дихотомии языка и речи, последовательно реализована и в множественности кодов изображений рассматриваемых картин: в обращенности вербальных фрагментов к просторечию, в смеси архаической символики и ярмарочной игры в нарративных фрагментах, в вариативности мотивов, словно карточных партий, разыгранных по сезонам. С игральными картами сближает и членение изобразительного поля на четыре части, а также зеркально-поворотная симметрия композиций. Тема карточной игры соответствует и дионисийской семантике полотен, духу витализма: экстатические позы танцующей/страдающей Девы, эротические символы, атрибуты виноградарства и т. п. Все это и парафразы символистских клише, их оспаривание и утверждение новой поэтики. Это утверждение циклического времени (и его пространственных проекций) как преемственности культуры, переданной в коде времен года, и вместе с тем – линейного выхода за пределы этой преемственности.
Между тем, некоторые мотивы являются в цикле «Времена года» для художника более важными, чем другие: доминируют весна и осень. Так, весна и осень акцентированы повторением в разных частях композиций мотива дерева – наиболее «сильного» универсального архаического символа в ряду прочих, а также влюбленной/брачующейся пары по его сторонам. Для объяснения приходит на помощь опять же аналогия с игральными картами. Масти карт в народной картине мира соответствовали временам года, что не могло не учитываться Ларионовым и его кругом. Так, происхождение названия объединения «Бубновый валет» связывают с традиционно закрепленной за этой мастью символикой весны, ее свойственен желтый цвет. Картина «Весна» также решена в желтой гамме. «Осень» – заключительное звено годового цикла природы, проекция будущего, а в рамках циклического мышления – и прогностического видения (семантика, которую несут в себе карты в функции гадания). Неслучайно именно весна и осень явились темами двух других полотен Ларионова этого времени и позднее [илл. 29, 30]. Если принять тезис, что художник намеренно выделяет переходные, пограничные состояния природы, весь цикл выстраивается как автометаописание раннего авангарда как сдвига историко-художественной парадигмы и новой стадии в развитии искусства. Здесь речь доминирует над языком, и отсюда – акцент на весне как метафоре новой художественной парадигмы, а также осени как времени «сбора плодов» нового направления.
28. О. Розанова. Дама пик. Из цикла «Игральные карты». Б.д.
Весна и осень, как время переходности, полутонов, недосказанности, превалирования неясности над ясностью, вчувствования над рациональностью, а тем самым, усиленной семиотичности, освоены символизмом (в противоположность реализму натуральной школы, делающей акцент на зиме и лете). И то, и другое – агенты пограничных состояний в коде времен года, соответствующих брачной символике. Брачная семантика, реализованная в цикле, высвечивает символику перехода. У М. Ларионова весна как настоящее и осень как плодоносное будущее переосмысляются в кодах изобразительности в качестве агентов перемен, совмещающих циклическое и линейное время, что соответствует катахрестической авангардной поэтике. Время осмысляется в пространственных категориях, акцентируя принцип дискретности как таковой. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что своим акцентированием дискретности эта серия предвосхищает «Черный квадрат» Малевича, который появится на три года позже. Дискретность проявляется и в выборе в пользу граничных состояний и маргинальных тем-мотивов, совпадая с символизмом (и многое наследуя от него), смещая акценты. Цикл «Времена года» М. Ларионова фиксирует и описывает все эти приметы становления новой поэтики в категориях народно-мифологического сознания, реализуя их на всех уровнях организации художественного текста.
В истории европейской живописи тема времен года решается в широком диапазоне символического осмысления – от высокого космологического обобщения (от Брейгеля до Чюрлиониса) до низового тривиального. На пересечении этих уровней – используя наследие мифопоэтики символизма и при этом оспаривая символизм в рамках освоения низового поля культуры – реализовывал свою поэтику авангард, в частности, русский авангард.
29. М. Ларионов. Весна. 1912
30. М. Ларионов. Осень счастливая. 1912
В мифологической модели мира времена года выступают как универсальная метафора, расширяющая базовые бинарные отношения по аналогии с развернутыми суточными делениями (ночь/день, а также ночь/утро/день/вечер) на жизненные циклы человека (жизнь-смерть как детство-молодость-зрелость-старость). Аналогичные проекции можно сделать и в отношении циклических смен художественных формаций (и крупных идеологем), каждая из которых претерпевает период зарождения в недрах другой формации (который можно сравнить с весной), процесс созревания поэтики (лето), кульминацию своего развития (осень) и стагнацию (зиму). В литературе Серебряного века и в последующую эпоху такие метафорические переносы времени года на состояние художественного или более широкого духовного процесса встречаются особенно часто. В книге воспоминаний С. Н. Дурылина «В своем углу» находим: «Не только снег тает. Все тает. Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия». И далее в «Тетради IV» («Афоризм 8», «Афоризм 9») о В. Розанове: «Христианство не догорело и чадит, – как думал Василий Васильевич. – Оно не коптит. Оно тает. От лучей какого же солнца? О, как страшно! Какого-то. Но тает, тает, – и не оттого, что “дворники делают весну” в городе… Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, на ложбинках, даже в глубоких ложках… Всюду тает… И как задержать это таянье? Тает. Вот и все» [Дурылин 2006]. Обратим внимание, что ведущей метафорой, описывающей угасание, становится весна, функционально сближенная с осенью, и потому новое здесь отрицательно маркировано. Дурылин (1886–1954) принадлежит традиции Серебряного века, и хотя Ларионов (1881–1964) близок ему по дате рождения, он – вестник уже совсем другой эпохи. Он тоже сближает весну и осень, но совсем по другому основанию: переходное состояние природы осмысляется в его цикле как ритуал rite-de passage, проецируемый на зарождающуюся художественную формацию.
В исторические эпохи высокой рефлексии созревание новой художественной парадигмы осознается носителями новой поэтики. Очевидно, так произошло и с авангардом, примером чего может служить цикл произведений Михаила Ларионова «Времена года», созданным в переходную эпоху начальной стадии – весны – авангарда. Интересно, что при этом – в соответствии с закономерностями пограничных пространственно-временных зон – в полной мере проявляется мифологический тип мышления, который, однако, имеет свои особенности, соответствующие задачам выработки нового художественного языка.
Глава 4. Натюрморт Георгия Рублева «Письмо из Киева» как анаграмма
Поиски зашифрованного в изображении сообщения неизбежно выводят исследователя на проблему границ произведения, которые определены типом той или иной поэтики, в русле которой оно создано. Однако в качестве «текста» произведение живописи может иногда быть «прочитано» за пределами своих собственных рамок (как физической рамы-обрамления, так и рамки семантической). В настоящей главе речь пойдет об одном случае скрытых изображений в живописном нарративе, которые можно уподобить анаграмме в литературе и которые реализуют определенную коммуникативную модель, предполагающую привлечение к анализу широкого контекста – всего творчества автора. Этот контекст выстраивается как текст нового, более высокого уровня, и смыслы отдельных произведений, которые служат раскрытию тайных механизмов «дешифровки», не сводятся к простой их сумме: они требуют учета дополнительных коннотаций.
В своей статье «Вещь в антропологической перспективе: апология Плюшкину», а также в ряде других замечательных работ, Владимир Николаевич Топоров рассматривал мир вещей, создающих космос человека, в аспекте времени (Топоров 1995). Вещь – это и память, и материализованное время индивидуального существования. Опираясь на эти соображения, можно сказать, что в представлении вещей в изобразительном искусстве создается многоуровневая повествовательность: вещи рассказывают нечто, образуя сложную нарративную конструкцию, где каждая из них – и персонаж, имеющий свой «голос» в составе повествования, и скрепа в парадигматических рядах, и скрытая семантизация временного потока как такового [Николаева 2012]. Тем самым изображение, пространственное по своей природе, получает расширение, присваивая и время, т. е. приспосабливая коммуникативный механизм искусства слова как основанного преимущественно на темпоральности (см. главу 1 настоящего раздела). Такова повествовательность вещей в картине Георгия Рублева «Письмо из Киева» (1930), хранящейся в Третьяковской галерее [илл. 31]. Композицию можно уподобить тайнописи – она изобилует скрытыми смыслами.
31. Г. Рублев. Письмо из Киева. 1930
Несколько предварительных замечаний. Существует целый ряд эпох и художников, реализующие многообразные скрытые смыслы в формах разнообразных оптических обманок и визуальных тайнописей. К ним в первую очередь относятся европейский маньеризм и картины-перевертыши Д. Арчимбальдо (в одной из них, например, при переворачивании картины портрет мужчины превращается в вазу с фруктами), а также уже упоминавшееся произведение Х. Гольбейна Младшего (имеем в виду картину 1533 года «Послы», где неясный предмет на первом плане в развернутой проекции оказывается изображением черепа). К скрытым изображениям следует причислить и разнообразные зеркальные и анаморфические трансформации формы в барокко (о чем много писал Ю. Балтрушайтис [Baltrusaitis 1984], а в недавнее время – М. Ямпольский [Ямпольский 1996]. Зашифрованные картинки вошли в моду и в наполеоновской Франции, где в букетах цветов зрителю надлежало найти портрет императора [Ситникова 2008]. В ХХ веке оптические трюки со скрытыми изображениями ожили в сюрреализме – например, у С. Дали в картине «Невольничий рынок с незримым бюстом Вольтера» (1940, холст/масло, Музей Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг), где в группе людей на дальнем плане видится портрет французского мыслителя, а затем в многочисленных играх с пространством Р. Магритта и М. Эшера. Примечательно, что такого рода мастера обычно практикуют тип поэтики, отмеченной доминантой словесного начала в искусстве, и властью слова отмечены целые эпохи, к которым они принадлежат. Изображения людей и вещей в этих зашифрованных визуальных «сообщениях» обладают повышенным коммуникативным потенциалом. Однако и в другие эпохи возникают неожиданные виды визуальных игр. К таким эпохам относится, например, конец 1920-х годов в советской России.
Живопись этого времени – в соответствии с «горячим» типом самой эпохи – отмечена резким повышением коммуникативного статуса. Художники поставангарда, учившиеся у мастеров первого и второго поколения творцов нового искусства, представили в своем творчестве своеобразную противофазу исторического авангарда, при этом оставаясь в рамках той же самой парадигмы. В отношении взаимодействия слово/вещь это выразилось в том, что на смену футуристическому принципу «слово как вещь» пришел зеркальный принцип «вещь как слово». Изображенные на картинах предметы быта буквально «заговорили», рассказывая свои истории. Если, по убеждению В. Кандинского, линия становится вещью, «обладающей таким же практически-целесообразным смыслом, как и стул, колодец, нож, книга» [Кандинский 1919: 2] (цит. по: [Ханзен-Лёве 2001: 72]), то десятилетием позже прошедшие через опыт футуристического бунта 1910-х вещи мирно сложились в натюрморты Д. Штеренберга, М. Ларионова. Они формируют вещный нарратив, своеобразно хранящий память об авангардном сокрушении всех и всяческих пределов. Прошедшая через опыт беспредметности, обнажения своего истинного, не-вещного лица, живопись представила предметы быта в поставангардном натюрморте, разрушая ожидания. Зритель настраивается на двойное сальто-мортале: за вновь обретенной натурой ему видится преображенная абстракция, не вернувшаяся к природе, а трансформированная ею и породившая квазиприродную форму, еще более удалившуюся от «реалистического» восприятия мира в XIX веке, чем беспредметность. Такого рода двойным пересечением границ, и прежде всего семиотических границ картинного пространства, отмечено творчество Георгия Рублева. Полотна этого мастера 1920–1930-х годов представляют интерес с точки зрения рассказов вещей, которые принимают форму скрытого изображения.
Как известно, натюрморт – это жанр, лежащий на пересечении различных семиотических процессов, и он активизируется в определенные эпохи [Лотман 2002а; Bobryk 2011]. Такой эпохой для данного жанра стал рубеж 1920–1930-х годов в России. Это время испытания изображения на истинное/неистинное, что соответствует тектоническим сдвигам в социально-политической сфере страны, поставившим под вопрос основы бытия, это и особый статус вещи в ситуации исторической катастрофы. Известно, что именно в грозовые годы возникает изоляция вещей из своего утилитарного окружения и о ней сигнализирует. Повышается семиотический статус как самих предметов, так и отношений между ними. Примером могут служить домашние вещи людей, отбывавших в 1930-е годы свой срок в сталинских лагерях и описанных в произведениях Варлама Шаламова [Злыднева 2011в], или бытовые предметы, например, молочные бидоны, которые десятилетием позже брали с собой в изгнание экстрадированные народы и в которых утилитарная функция полностью вытеснялась символической [Курсите 2009]. В натюрморте переломного и изобилующего потрясениями времени конца 1920-х годов семиозис вещи особенно активен, значение бытового предмета возводится в квадрат и при этом встраивается в противофазу поэтики исторического авангарда. Это означает, что повышение коммуникативного статуса изображения следует рассматривать в перспективе памяти о тех сдвигах в поэтике, которые нарушили привычные границы не только жанра, но и вида искусства, а также онтологической природы изображения, и радикально расширили рамки повествования отдельного полотна как «текста».
Драматизм вещных нарративов картин Г. Рублева под стать драматической судьбе их автора. Георгий Рублев (1902–1975) родился в Липецке, учился во ВХУТЕМАС’е, в 1920-е годы участвовал в разнообразных художественных объединениях, разрабатывающих проблемы новой фигурации, критиковался за формализм, однако в 1930-е годы резко изменил свои позиции и начал выполнять государственные заказы на оформление парадов, праздников, монументальных росписей в общественных постройках (в частности, по его проектам оформлена станция метро «Серпуховская»). Цикл работ конца 1920-х – начала 1930-х годов до поры до времени хранился у художника дома и был обнародован только с приходом новых времен, сразу став сенсацией: поразили гротескная манера мастера, двусмысленная трактовка злободневных сюжетов и загадочность общего смысла. Такого рода необычностью отмечена прежде всего картина «Письмо из Киева». В восприятии современного зрителя, улавливающего в изображении нечто зловещее, картина ассоциируется с атмосферой надвигающегося сталинского террора. Тема страшного становится в эти годы одной из доминирующих в советской живописи [Злыднева 2007]. Однако полотно, о котором идет речь, едва ли прочитывалась в этом ключе современниками, для которых трагические события, последовавшие после года ее создания, были закрыты неясными очертаниями грядущего.
Произведение не допускает однозначного толкования, и его можно причислить к жанру натюрморта лишь условно – композиция составлена из отдельных предметов различного назначения, равномерно разложенных каждый по отдельности на круглом столе подобно экспонатам в музейной витрине, напоминает скорее ребус или криптограмму, нежели картинку быта. Набор вещей невелик: ножницы, катушка красных ниток, чашка, три лимона, печатная брошюра под заголовком «Политдоклад Сталина 27 июня 1930» и письмо с адресом «Москва Егору Рублеву из Киева». Все слова изображены написанными от руки.
В композиции доминирует принцип дискретности, что соответствует примитивистской манере, в которой решено полотно: поверхность стола дана в проекции сверху, а трактовка предметов нарочито огрублена, и вещи словно подвешены на ниточках. Дискретность отсылает к алфавитному письму, так что каждый предмет выполняет функцию отдельного письменного знака (это тот самый принцип, который был описан на примере живописи раннего М. Ларионова в предыдущей главе). Однако граница округлой столешницы, объединяющая и изолирующая вещи от прямоугольной рамки полотна, служит указанием на их связанность в пределах единого целого, ведь круг – это маркированное отграничение, снимающее оппозицию правое/левое, а тем самым, ликвидирующее и координаты внешнего пространства, которое простирается за пределы полотна. Благодаря этому отграничению создается нечто вроде иероглифа. Таким образом, непрерывное (уподобленность изображения иероглифу) сочетается здесь с дискретным началом (в отделенных друг от друга вещах, знаках алфавитного письма и словах). Письменный текст (как дискретный) тем самым становится значимым звеном изображения (континуального по своей природе). Эта двойственность референции (денотатов) определяет и двойственность смыслов (коннотаций) представленного на картине.
Дискретность соответствует природе изображенных на полотне вещей, две из которых принадлежат к письменной культуре: брошюра и письмо. Они не только вводят мотив печатно-рукописной продукции, но и иконически его представляют посредством написанных от руки словосочетаний. Таким образом, синтагматика изображения находит соответствие в ее семантике, и возникает рамочно-кольцевая конструкция семиотических рядов: набор/каталог предметов уподоблен иероглифическому тексту, внутри которого находятся еще два уже в прямом смысле письменных текста, из которых один – печатный доклад, а второй принадлежит к эпистолярному (рукописному) жанру. Если первый, от лица Сталина, адресован массе однопартийцев (и всему народу) и реализует коммуникацию «Я» – «Мы», то второй основан на отношении «Я» – «Ты». Перед нами – рассказ-обращение. Ответ на вопрос, о чем именно этот рассказ, требует послойного анализа.
Набор разнородных вещей образует несколько парадигм. Общий ассоциативный ряд – антропологический: это предметное окружение человека, включенного в актуальную политическую действительность и обладающего активным кругом общения. Парадигма антропоморфизма объединяет все вещи посредством телесного кода: рука метонимически обозначена инструментами (ножницы и моток ниток), рот – посредством чашки, глаза – письмом, голос – докладом, пищеварение – фруктами на первом плане. Рукописность текстов, включенных в изображение, акцентирует руку дополнительно и служит метонимией профессии автора (художник «рукотворит»). Сочетание телесного (рука, рот/голова) и ментального (доклад как речь, письмо как коммуникация) создает энантиосемию изображения[11 - Здесь мы предпринимаем попытку применить к материалу искусства лингвистический термин, активно употребляемый в работах Т. В. Цивьян [Цивьян 2012].], в которой знаки материи одновременно отмечают и противоположный им символический план.
Наряду с общей парадигмой имеет место и ряд субпарадигм, объединяющих отдельные предметы по парам или в более длинные цепочки. Парадигматические ряды выстраиваются прежде всего на уровне визуальной формы. Колорит базируется на полноте мифологической триады – красное, черное, белое. Набор форм предметов тоже наделен полнотой: представлены основные геометрические фигуры – круг, квадрат и треугольник. Треугольник ножниц противопоставлен квадратам брошюры и письма, а также круга чашки, столешницы, фруктов. Ритм сочетания черного и красного описывается схемой АВВА и задает драматизм семантической ауры. Желтый фон столешницы нейтрализует этот накал и вносит значимое нарушение в ритмический рисунок: желтая полоска на чашке перекликается с фруктами на первом плане. Чашка и ножницы объединены черным цветом и маркированной крайней (левое и правое) позициями в композиции, они также образуют своего рода антонимы формы, являя собой в первом случае (ножницы) форму с открытым контуром, а во втором (чашка, близкая к кругу) – с закрытым. Таким образом, формальное решение композиции, обнаруживающее хорошую авангардную школу художника, подчинено ритмическому чередованию противопоставлений и уподоблений.
Таковы и субпарадигмы вещей с точки зрения их семантики. В изображениях доминирует то утилитарный уровень (обозначим его как уровень 1), то символический (уровень 2), а иногда они накладываются друг на друга. Так, ножницы + нитки образуют 1 уровень: портняжные инструменты. Впрочем, нить, как символический знак пути, может быть перерезана ножницами, так что 2 – символический – уровень тоже обозначен. На 2 уровне располагается также и парадигма красные нитки + доклад, которые можно объединить фразеологизмом «красной нитью» для характеристики развития мысли или «плетение словес». Чаша + нить можно прочесть символически: они репрезентируют путь, судьбу человека. Интересно, что те же предметы – ножницы и моток ниток – можно обнаружить и в натюрморте Г. Рублева «Шитье» (1929, ГТГ), написанном на год раньше, где эти предметы целиком мотивированы сюжетом. В картине «Письмо из Киева» эти вещи осмыслены уже на уровне не визуальной формы, а речи, т. е. выступают как визуальные идиомы.
Парадигма ножницы + письмо, казалось бы, реализует лишь утилитарное значение: письмо разрезают ножницами, чтобы осуществилась его коммуникативная функция. Между тем, ряд литературных примеров этого времени указывает на символическую семантику и данной связки. Так, у такого во всем далекого от Г. Рублева писателя, как М. Осоргин, в его написанном в эмиграции рассказе «Вещи человека», соединение ножниц и письма отсылает к мотивам ущерба, утраты, смерти: «Ножницами она перерезала тонкую бечевку, и пачка писем рассыпалась… вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели» (о вдове, разбирающей вещи покойного мужа) [Осоргин 1990: 455]. В другом его рассказе – «Пенсне» – о смерти речи нет, однако реализована та же связка в аспекте очеловеченных предикатов: «Что вещи живут своей особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, ножницы кричат (курсив мой. – Н. З.), кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги, дыша, ораторствуют, перекликаются на полках» [Осоргин 1990: 531]. Можно предположить на картине Г. Рублева связка ножницы + письмо реализует символический уровень значений этих вещей в роли самостоятельно действующих персонажей, наделенных негативной коннотацией. Однако у Осоргина утрата вещами хозяина в рассказе «Вещи человека» выстраивает рассказ в рамках минус-пространства и минус-времени. У Рублева, напротив, время предельно актуализировано: дата лежащего на столе политдоклада совпадает с реальными историческими событиями – XVI съездом ВКП(б), одновременными с созданием картины, чем все повествование помещается в режим реального времени и акцентировано как сугубо актуальное, настроенное на позитив будней.
Отдельную парадигму образуют вербальные тексты – название брошюры и надпись на конверте. Вслед за полнотой круглящейся формы, содержащиеся в них сведения описывают полноту пространственно-временных координат и именных адресов: имеет место два топонима (Киев, Москва), точечное время (27 июня 1930 года) и два имени собственных, из которых одно (Егор Рублев) – просторечный вариант имени автора (Егор вместо Георгий), а второе – наоборот, возвышенное (политический псевдоним) имя вождя, так что это уже не совсем имя, а скорее символический знак власти, что поддержано и соединением имени Сталина с Москвой (= Кремль). Не вполне понятно, почему в качестве местонахождения адресанта указан именно Киев. В контексте обозначенной в картине речевой практики (рукописность как подобие речи в визуальном коде) Киев можно трактовать как знак просторечия, учитывая, что этот топоним часто встречается во фразеологизмах и речевых клише типа «Язык до Киева доведет», «В огороде бузина, а в Киеве дядька», «тетя из Киева» и т. п. В этом случае Киев, наряду со сниженным именем Егор, является еще одним указанием на речевую природу этой картины как изобразительного «высказывания».
Изображение можно уподобить устной речи и по признаку стилизации примитива в стиле композиции. Известно, что в эти годы Г. Рублев был увлечен творчеством «наивного» грузинского художника Нико Пиросмани. В духе примитива решены и многие другие произведения мастера, среди них – «На даче» (1929), «Парикмахерская» (1928), «Ликбез» (1930) [илл. 32]. Кроме того, в конце 1920-х годов примитивизм в его профессиональном изводе, т. е. в творчестве образованных художников, нашел широкое распространение в русском искусстве. Отчасти причиной тому стало сворачивание формальных поисков авангарда и обращение к «народному» стилю непрофессионалов оправдывало условности художественного языка. В подобном русле развивалось, например, творчество Д. Штеренберга, С. Адливанкина, С. Никритина и мн. др. Г. Рублев активно вводил в свои примитивистские полотна вербальные фрагменты: например, в картине «Ликбез» учащаяся крестьянка выводит на доске мелом оборванную фразу: «Горячий привет 16 парт» (это именно тот партсъезд, доклад на котором лежит на столе в рассматриваемой картине!) [илл. 33]. Совмещение стиля примитива и словесных врезок характерно и для других мастеров. Так, композиция картины С. Адливанкина «Трамвай Б» (1922, ГТГ) не только включает в себя название, которое фигурирует на изображении вагончика, наряду с вывесками стоящих поодаль магазинов, но здесь же красуется и подпись художника, что впрямую перекликается со способом введения имени автора в картине Г. Рублева [илл. 34].
32. Г. Рублев. На даче. 1929
33. Г. Рублев. Ликбез. 1930
34. С. Адливанкин. Трамвай Б. 1922
Стиль примитива в сочетании с рукописными надписями заимствован из площадного искусства вывесок, к которым обращался ранний футуризм, а также из лубка, дань которому отдали в годы первой мировой войны ведущие мастера исторического авангарда – например, К. Малевич и М. Ларионов (подробнее об этом см. предыдущую главу). 1920-е годы пронизаны своего рода отблеском предавангардной поэтики, однако появляется новое качество: память об опыте исторического авангарда переводит этот виток повторений на мета-уровень. Возникает рамочная конструкция рассказа о рассказе, в которой «речь» примитивного стиля приведена в прямое соответствие с интермедиальной игрой знаков. Примитивная поэтика в живописи характеризуется качеством дискретности, которое проявляется в орнаментальной композиции с равномерным распределением деталей изображения в центре и периферии, и эта дискретность выступает как параллелизм по отношению к дискретности письменных знаков. Связь примитива и рукописного текста имплицирует модус речевого акта: отклонение примитива от школьной традиции можно рассматривать как иконическое обозначение живой речи, отклоняющейся от формальных норм языка. Речевая природа изображения указывает на коммуникативную активность этой тайнописи/криптограммы, но не слишком приближает нас к ее дешифровке.
В фокусе внимания – письмо, если основываться на том, что название картины принадлежит самому автору. Оно располагается в центре не геометрическом, а смысловом. Имя автора в дательном падеже введено в композицию по образцу мастеров старой живописи – эмблематически. Письмо, адресованное автору – это знак реализуемого в сообщении акта автокоммуникации, осуществляемого в сфере личной жизни, повседневности. Тогда все изображение целиком представляет собой записанную авторскую речь, рассказ от первого лица (Ich-Erz?hlung), нечто вроде сказа в литературе, выраженного средствами фигуративной живописи и развивающегося в двух регистрах – общем (общественно значимом) и частном. Автоадресованность письма – наряду с актуальностью доклада – знак присутствия рассказчика, дополнительное указание на автокоммуникацию, замыкающую нарратив на имени. Причем, письмо здесь отсылает к речи рассказчика.
35. М. Ларионов. Натюрморт с письмом. 1920-е
В истории искусства мотив письма встречается весьма часто. Однако, как правило, оно выступает знаком рассказа об «объекта», т. е. повествования от третьего лица: его читают, причем, как правило, женщины и реже – маргинальные личности и дети, в культуре занимающие нишу объекта, и еще реже письмо пишут, причем чаще всего мужчины (согласно маскулинным стереотипам – субъекты истории). В картине Г. Рублева мы имеем дело с редким случаем иконографии, когда письмо выступает одновременно и объектом (как вещь), и субъектом (как носитель имени и речи) повествования. Такое же изображение письма с адресацией автора произведения самому себе находим и у М. Ларионова в его «Натюрморте с письмом» 1920-х гг. [илл. 35]. Можно предположить, что принцип автокоммуникации, мотивированный изображением вещи, в 1920-е годы явился знаком воспоминания о поэтике авангарда. В любом случае, письмо на картине Рублева – это центральный «персонаж», от лица которого ведется повествование.
Выстроенность композиции как речи, сказовая интонация повествования и акцентированная субъектность рассказчика позволяют применить к картине категории теории речевых актов, т. е. рассмотреть данный визуальный нарратив как иллокутивный акт, где осуществлено приобщение зрителя/читателя ко времени актуального события, одновременного рассказу, и вещи выступают как знак настоящего. Откуда же это ощущение, что натюрморт несет в себе нечто зловещее? Можно утверждать, что, хотя в рассказе вещей акцентировано настоящее, коммуникативный жест направлен в прошлое и будущее. Прошлое – это воспоминание об автокоммуникативности авангарда, а будущее отмечено модальностью призыва. Содержание этого призыва становится более ясным, если учесть, что произведение не кончается рамками полотна, и очевидно, что сама ситуация речевой коммуникации призывает ввести в интерпретацию фактор контекста.
36. Г. Рублев. Сталин, читающий газету Правда. 1933
37. Г. Рублев. Письмо из Киева. Фрагмент.
38. Н. Бухарин. Портрет Сталина. Шарж.
Среди отмеченных ассоциативных рядов выделяется связка ножницы + доклад. Напрашивается метафорическое осмысление колюще-режущего инструмента: XVI съезд вошел в историю как съезд коллективизации и означил обострение классовой борьбы. Язык политического доклада Сталина построен на системе жестких противопоставлений: мы – они как рост и прогресс vs упадок и стагнация. Жесткость формулировок соответствует суровому развороту истории: 1930 год – это точное время прихода Сталина к неограниченной власти. Тем самым ножницы – это не только вещь-инструмент, но и содержат скрытый вербальный компонент, переносное значение: они представляют и инструмент генеральной линии партии, направленной на «перекройку» страны и мира.
Однако ключ к контексту открывает семантика формы. Обратимся к созданному художником тремя годами позже полотну «Сталин, читающий газету Правда» (1933, ГТГ) [илл. 36]. Гротескная фигура вождя решена все в том же раешном, ироническом ключе стилизации под примитив: неканонический генералиссимус представлен в кресле-качалке за чтением газеты «Правда», а у его ног расположилась такса, скобообразным разворотом своего тела вторящая круглящейся фигуре в кресле. На красном фоне полотна выделяются черные брови, глаза и усы главного персонажа. Той же чернотой отмечены и ножницы в «Письме из Киева»: экспрессивный способ их обозначения активно приковывает внимание зрителя. Инструмент изображен в «стоячем» положении, обретая подобие человеческой фигуры – и/или мужского лица с усами и бровями (!). Сравнение с одновременными полотнами не оставляет сомнений. Это – схематическое обозначение лица Сталина. Если совместить обе значимые детали, окажется, что портрет почти в точности совпадает с очертанием вещи [илл. 37, 38]. Таким образом, перед нами – изобразительная анаграмма. Дополнительная игра разворачивается в сфере уже словесного, благо активная роль письменности в составе композиции подталкивает к такого рода ассоциации: материал ножниц (сталь) и способ организации их механики (ось) представляют вербальную параллель визуальной анаграммы имени вождя: Иосиф Сталин[12 - Благодарю коллегу Илью Кукуя, который обратил мое внимание на эту игру слов/изображений.]. Соединение колюще-режущего инструмента с именем-лицом Сталина трансформирует послание: иллокутивный акт эго-текста повествователя становится одновременно и актом перлокутивным – актом-предостережением. Тем самым, настоящее оказывается черной дырой – знаком катастрофы, сам рассказ – инверсированным автопортретом времени, а анаграмма – шифрованным эго-документом, обращенным автором к самому себе.
Такого рода авторские предостережения возникают независимо от намерений художника и часто бывают скрыты от внимания современников – например, полотно К. Редько «Восстание» (1926), трагический пафос которого не помешал ему быть экспонированным на выставке того же года в Москве[13 - См. [Злыднева 2007].] [илл. 39]. Однако в случае с Г. Рублевым можно говорить и о некотором продолжении трагической темы, заставляющем усомниться в полной идеологической «невинности» мастера. Подтверждением служит его странная картина «Иволга» 1937 года (местонахождение неизвестно), где на стуле с плетеной (!) спинкой изображена лежащая лапками кверху желто-черная мертвая птица. Благодаря сгущенной символистичности этого изображения, догадки об анаграммах и метафорах загадочного «Письма из Киева» получают хотя бы частичное подтверждение.
39. К. Редько. Восстание. 1925
Глава 5. Нарратив городской окраины в фотографии Бориса Михайлова: к проблеме модальности изображения
Оборотной стороной визуализации литературы можно считать олитературенное изображение. В числе многообразных видов последнего – редкий вид изобразительного «текста», не восходящего к тексту литературному (имеются в виду все виды иллюстраций и «программная» сюжетная живопись от классической традиции до передвижников) и не содержащего письменные фрагменты в своей композиции (подобно житийной иконе, лубку, портрету эпохи барокко, комиксу, рекламе), однако опирающегося на мотив, оперирующий категориями времени и состояния. Примером может служить фотоальбом «Неоконченная диссертация» работы Бориса Михайлова [Mikhailov 1998]. Впрочем, в этом произведении присутствуют и два названных выше признака – здесь есть и литературно-философские аллюзии/цитаты, и короткие записи-комментарии или просто размышления на полях. Между тем, чреватость данных изображений словом определяют не они, а содержащаяся в фотографиях имплицированная вербальность: она не поддается описанию в дискретных понятиях, но обладает выраженным качеством нарративности и может быть рассмотрена в аспекте модальности. В попытке подобрать ключ к пониманию этого произведения как примера вербализованной визуальности и состоит задача настоящей главы.
Борис Михайлов – один из самых знаменитых ныне живущих фотохудожников на постсоветском пространстве. Он родился в 1938 году на Украине и работал в Харькове, а с 1900-х живет в Германии. Творчество Б. Михайлова имеет огромный успех на Западе: он стал обладателем премии «Хассельблад» – наиболее престижной в области фотографии. Б. Михайлов создает серии фотографий: среди наиболее известных – «Красная серия», «У земли», «Вчерашний бутерброд», «Неоконченная диссертация», «История болезни», «Сюзи и другие». Изображения выступают как парафраз жанра репортажной, документальной фотографии: парафраз, потому что нет событий, и документом как антисобытием выступает обезличенный поток будней. Темой творчества является в основном советская/постсоветская (но также и западная) повседневность, окраины большого города, унылые будни жителя спальных районов, а иногда брутальная телесность с компонентом горькой иронии и социальной критики. Стилистика фотографий основана на принципе редуцированной эстетичности: характерны подражание отбраковке, «некачественной» любительской съемке, «случайная» кадрировка, непостановочность – или, наоборот, превращающаяся в свою противоположность нарочитая постановочность (в сюжетах, где ее меньше всего ожидают), размытый фокус, децентрированность композиции, смещение осей, кривой угол или оптическое искажение поверхности. Изображение и слово часто выступают в единстве: рукописный текст наложен на фотографические изображения как рассказ-комментарий, интимный дневник автора.
О творчестве этого фотомастера много писали. Наиболее продуктивная интерпретация поэтики Михайлова основана на феноменологическом подходе и предложена Е. Петровской [Петровская 2003]. По мнению исследовательницы, художник показал невидимое, которое состоит в передаче времени, а именно советского времени, воспринятого поколением 1960-х годов, и это коллективное бессознательное (т. е. аффект времени, опыт поколения) показано, но не переводится в репрезентацию, поэтому «семиотика ничем не может нам помочь» [Петровская 2010: 30]. Хотя общий подход Е. Петровской представляется внутренне непротиворечивым и продуктивным, а анализ художественной фактуры убедительным, трудно согласиться с тем, что возможности семиотического подхода в данном случае исчерпаны. В данной главе мы попытаемся прочесть творчество Михайлова именно с точки зрения семиотики и знаковой репрезентации, правда, основанной не на статичных бинарных оппозициях, а на признаках состояния в его динамике. Это позволяет и поставить проблему модальности изображения в целом.
Проблема модальности изображения в современной семиотике чаще всего решается в плане отношения изображения к плану действительности, т. е. в аспекте оппозиции истинное/неистинное (см., например, [Chandler]). Примером художественной рефлексии на этот счет могут служить произведения Р. Магритта, в частности, его знаменитая картина «Это не трубка». Между тем, в визуальном нарративе мы сталкиваемся с более сложным уровнем модальности, а именно, с нарративом состояний, с тимическим (т. е. эмоциональным) измерением на нарративном уровне. В отличие от иконического (миметического) описания эмоций (посредством передачи мимики персонажа, экспрессии позы, колорита, ракурсов композиции и пр.), тимическое визуального повествования опирается на градуированную шкалу всех типов противопоставлений/отождествлений в рамках логической семантики. Динамика смены знака и логического модуса и описывает состояние. Схему семиотического описания модальности в нарративе в свое время предложил А. Греймас в своем знаменитом квадрате и созданная им Парижская школа [СС]. Согласно этой школе, «…эмоция связана с микротрансформацией, пусть и на уровне бытия (?tre), предшествующего макронарративу» [СС: 201]. Теория нарратива Греймаса, разумеется, никогда не прилагалась к материалу изобразительного искусства: ее объектом всегда был вербальный дискурс. Между тем, нам представляется, что применительно к визуальному нарративу эти актантные схемы порождения значения особенно действенны: они позволяют выйти на тот уровень организации художественного изображения как текста, где тимическое состояние представлено как процесс порождения значения. Причем, нарративность опять же понимается как структурный принцип, как синтаксис текста, в котором прослеживаются акты семантических преобразований, а не внешним образом – посредством иконической семантики – передаваемого сюжета. Все эти проблемы важны для понимания творчества Б. Михайлова.
В искусстве Б. Михайлова многое проясняют его истоки. Они вполне очевидны и – по его собственному признанию – восходят к творчеству знаменитого французского фотохудожника А. Картье-Брессона и близки литовской школе фотографии 1960–1970-х годов, в частности, творчеству А. Суткуса и В. Луцкуса, выдвинувших тему непарадной стороны быта, человека в городском окружении [Ридный, Кривенцова 2008]. Но за пределами этих конкретных адресов все не так ясно. Очевидно, что Михайлов оспаривает патетику наследия 1920-х годов, но это оспаривание не отрицает и заимствований. Также и с 1950–1960-ми годами. Оперирующий сугубо фотографическими приемами (например, приемом срезанного кадра, создающим эффект непреднамеренной фиксации событий, т. е. жизни «как она есть»), Михайлов в своем искусстве обнаруживает связь с живописью позднего авангарда (С. Адливанкин, А. Лабас, А. Штеренберг, Г. Рублев) с ее бытовыми темами, неопримитивистской стилистикой, маркированной синтагматикой (любовью к неожиданным ракурсам, смазанным контурам) – и создает ее парафраз. След исторического авангарда (как во всем советском концептуализме) обнаруживается в параллели в живописи и фотографии конца 1920-х годов, однако очевидно и противостояние героической образности эпохи, а также ее подчеркнутой риторичности, акцентировке формы – сшибке масштабов у Б. Игнатовича, остранениям у А. Родченко, палимпсестам Эль Лисицкого. Борис Михайлов – и за, и против первопроходцев XX века: наподобие художника авангарда, он создает открытый «мир на юру», но при этом ему чужд ницшеанский пафос и утопия последнего, свойственна пассивность взгляда. Он создает своего рода антипроект авангарда, и потому «оптимальной проекции» в будущее (выражение А. Флакера [Флакер 2008]) он противопоставляет обращенность внутрь, интимизацию мира, впрочем, наделенного все той же абсурдностью. Такого рода отношение к истокам обнаруживают двойственность позиции художника: налицо одновременно и отрицание, и приятие того, от чего мастер отталкивался. Аналогичная двойственность проявляется на всех уровнях творчества мастера. Она особенно свойственна его «тексту» города.
40. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
41. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Изображения города как такового (имеем в виду в традиционном жанре видовой фотографии) у Бориса Михайлова нет. Город часто выступает фоном – он описывается мотивами повседневности по умолчанию: выступая как маргиналия, в форме мотива окраины, сам являет собой маргиналию кадра. Так, устанавливает прямой изоморфизм плана выражения («документалистская» позиция объектива «у бедра», нарочитая «ошибочность» экспозиции и т. п.) и плана содержания («случайность» кадрирования, «дневниковый» отбор сюжетов, отсутствие/нарочитость постановочности) фотоизображений.
«Неоконченная диссертация» является центральной работой Бориса Михайлова в плане темы городской окраины. Фотоальбом представляет собой книгу, каждый лист которой заполнен одиночными или сдвоенными фотографиями [илл. 40–42]. Фотографии созданы аналоговой камерой и имитируют любительские снимки, проявленные в домашних условиях. Им сопутствуют написанные от руки короткие замечания – текст-комментарий – на полях страниц. Последние весьма разнообразны по широте поднимаемых тем и жанрам: здесь и философские, отмеченные иронией размышления о жизни, цитаты из трудов философов (например, Канта и Беньямина), и саркастические замечания по поводу собственной персоны, и бытовые зарисовки, и еще мн. др. По признанию самого художника, «то была игра в диссертацию, а в диссертации, как известно, можно использовать цитаты из чужих текстов. Некий автор что-то сказал, и вот рядом с цитатой есть изображение, которое можно воспринимать определенным образом, связать цитату с изображением. Все вместе, конечно, – игровое пространство» [Михайлов 2007]. Записи на полях альбома Михайлова, действительно, иногда напоминают полные игровой стихии тексты Хармса, особенно из его «Записок». Это и неслучайно: интерес к маргиналиям быта, элементы «мусорной» поэтики, ирония в письменном слове сближают фотомастера с кругом художников московского концептуализма 1970-х, в частности, с творчеством Ильи Кабакова, а последние часто близки обэриутам, обнаруживая отчасти типологическое схождение с ними, отчасти отражая общественный интерес к этому неофициальному, с большим опозданием вошедшему в советский культурный оборот явлению авангардного наследия.
Важно и то, что тексты написаны от руки, неровными строчками, благодаря чему актуализируется начало телесности как означаемого, отсылающего к частному, речевому, субъектному. Можно было бы, как и в случае с разобранными в предыдущих главах примерами из творчества М. Ларионова и Г. Рублева, сказать, что сочетание записей и фотографий апеллирует к традиции футуристических рукописных книг, к авангардному лубку, к дадаистскому коллажу, если бы не одна особенность этого параллелизма: здесь между изображением и словом образуется особое натяжение смысла, иногда трудно уловимое и во всяком случае не сводимое к простому комментарию. Вербальное и визуальное образуют непересекающиеся пространства, имеющие при этом между собой много общего, в основном по признаку их принадлежности пограничному ментальному состоянию (и/или семиотическому локусу), располагающемуся между сном и явью, между мыслью и делом, между жизнью и бытием. Нарративы Михайлова посвящены унылому безвременью поздней советской эпохи. Остановленное мгновение «случайных» кадров передает состояние не-бытия.
42. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Таким образом, в альбоме мы имеем дело с двойным кодом: изображение как знаковая система континуального типа и письменное слово как система дискретная соединены/противопоставлены в едином семантическом поле. Принцип двоичности кода, свойственный организации любого художественного текста, здесь акцентирован.
В вербальных текстах альбома городские реалии почти не упоминаются. Город косвенно представлен преимущественно в фотоизображениях. Он описывается прежде всего в пространственных категориях периферии: окраина, пустырь, свалка, панельный микрорайон; неосвоенное пространство, отграниченное пространство – забор, заросшие бурьяном площади; неуютные дворы с сараями, глухими стенами, отдельно (как гнилые зубы) стоящие дома; пространственным характеристикам соответствуют и атрибуты жилых районов – троллейбус (трамвай), грузовик/экскаватор, тротуар (в лужах); обитатели также наделены качеством периферийности: «случайный» прохожий, немолодые женщины в платках и с сумками, бомжи, толкучка у троллейбуса [илл. 43–45]. Часто городские виды безлюдны: отсутствие жителей обнажает позицию случайного прохожего, обитателя этих мест, скользящего взглядом автоматически. Той же цели служат и фигуры, снятые намеренно нерепрезентативно: со спины фигуры вдалеке и/ или фрагментированно, – например, одни ноги, а также «неумело» в плане экспозиции и т. п. Персонажи в кадре ad hoc демонстрируют не себя, а обезличенную «объективность» фотокамеры, механического регистратора, в поле зрения которого «попадают», но который не наделен человеческой волей отбирать факты. Тем не менее, то, что на первый взгляд выглядит как «неизбирательность», оборачивается сверхтщательным отбором при ближайшем рассмотрении.
43. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
44. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Семантика и синтактика пространства в фотографиях Михайлова образуют сплошной изоморфизм: усеченное пространство фрагментированного кадра соответствует семантике пространства частного, маргинального. Но при этом фрагмент метонимически отсылает к центру как целому – семиосфере советской среды обитания, коллективному бессознательному жителей новостроек. Однако центр артикулирован по принципу отрицания: частное метонимически отсылает к партиципированной целостности. Эффект нарочитой «случайности» кадрировки создает колебательное движение с постоянным смещением фокуса – это и не центр, и не периферия, а градация переходов одного в другое. Время в репрезентации города также обозначено как постоянный сдвиг: чуть раньше и чуть позже настоящего (только что прошедший прохожий или садящиеся в троллейбус будущие пассажиры). Е. Петровская проницательно указывает на эффект запаздывания в фотографиях мастера [Петровская 2010]. К этому можно добавить, что, наряду с запаздыванием, имеет место и момент опережения. Главное – это колебательные движения вдоль оси настоящего, подобные колеблющимся пространственным локусам. Очертания настоящего лишаются фокуса, и контуры предметов в динамике становятся размытыми, как на картинах А. Лабаса, представляющих движение в поезде. Размытое настоящее выступает метафорой безвременья.
45. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
46. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Мерцания пространства/ времени в изображении получают развитие и в параллельном вербальном коде. Маркировано уже само название серии – «Неоконченная диссертация»: традиционной определенности границ письменного текста, обычно отмеченной началом и концом, противостоит неопределенность: это и не начало, и не конец. Акцент сделан на не-конце – разомкнутость текста в будущее приглашает к открытости интерпретаций. Неоконченность вводит мотив длящегося бытия, что соответствует жанру дневника, которому подражают альбомные записи. Похоже, неоконченное стало излюбленным словом Михайлова – на Венецианской биеннале 2007 года он демонстрировал одну из своих новых работ, в заглавии которой фигурирует та же семантика в синонимическом ряду: «Неоконченная книга о незавершенном времени».
47. Б. Михайлов. Из альбома «Неоконченная диссертация»
Предполагаемая множественность прочтений определяется и введением в текст комментариев предиката серое. Слово серое можно считать ключевым для понимания общего смысла «Диссертации». Первая фотография альбома (с изображением фрагмента гаража и двух голых деревьев на фоне обезличенного панельного дома) содержит подпись: «все стало серым» [илл. 46]. Эти слова, отнесенные к изображению, предваряются цитатой из книги В. Беньямина у верхней кромки листа: «Мечта уже больше не открывает голубой дали. Все стало серым. Мечты стали дорогой по направлению к банальности». Метафорическое серое, обращенное к состоянию общества, буквально определяет и визуальный ряд – технику и мотивы. Начавшись со словесной темы серого и пройдя через множество решенных в сером видов городской окраины, альбом заканчивается видами кладбища [илл. 47]. Между начальным серым и конечным кладбищем, словом и изображением – неуютные дворы, заборы, заросшие сорняком городские пустыри, тупики, т. е. все признаки промежуточного пространства/бытия. В той же неконтрастной серой гамме решены и черно-белые фотографии альбома с их размытыми контурами.
Налицо отрицание бинарности. Мастер описывает уход от оппозиции черное/белое как определение этого контраста по признаку его отсутствия, и здесь возникает серое как альтернатива оппозиции. Обосновывая свою непричастность к традиции, Михайлов уравнивает серое с отсутствием света. В беседе с художественными критиками он признался: «Мне было важно, например, серое (здесь и далее выделено мною. – Н. З.), а в классической фотографии важно черно-белое, глубокий тон, в классической фотографии важен свет, который то же самое, что Бог, как у Караваджо, а в моей фотографии нету света, нету солнечного мощного освещения. Это стало эстетическим моментом. <…> “Все стало серым”… потому что не было чего-то особенного. Это было важно… Серое и скучное стало важным элементом, являлось частью той действительности, это было необходимо передать. Эстетика здесь концептуальна» [Ридный, Кривенцова 2008]. Как известно, то, что лишено света, невозможно увидеть, оно лишено и видимости. Настаивая на доминанте серого, мастер акцентирует метафизику невидимого, которое возникает как колебательное движение между полюсами черного и белого, но не сводимо ни к одному из них, равно как и к их смешению. В этом смысле серое эквивалентно не-бытию.
Таким образом, в семантике изображения и слова «Неоконченной диссертации» доминирует градуированность – серое, прозрачное, случайное, отчужденное, окраинное как незавершенное состояние, процесс. В этой сумеречной атмосфере и рождается незаметное, обиходно-автоматизированное, т. е. тривиальное города. В оппозициях видимое/невидимое, центр/периферия, целое/партиципированное, открытое/закрытое, организованное/случайное, динамика/статика, завершенное/незавершенное – акцент сделан на невидимом (прозрачном), открытом, случайном, периферийном, незавершенном, динамичном, случайном, фрагментированном. Все построено на постепенных переходах и описании состояний как более/менее. Т. е. доминирует не черное и не белое, и даже не срединное, а обозначенное по принципу отсутствия явного (относящегося к бинарному противопоставлению) признака. Здесь центр не противопоставлен периферии, равно как и прошедшее – будущему: актуализировано отрицание и логическое противопоставление по градуированной шкале. Речь идет о маркированном состоянии, которое передается как непрерывно длящийся процесс.
Представляется, что систему противопоставлений Михайлова, связанных с репрезентацией городских мотивов, можно описать в понятиях квадрата А. Греймаса, где бинарные основы, из которых складывается главное противопоставление бытие/не-бытие, организованы не только как оппозиции, но и как система противоречий и импликаций. На глубинном уровне между ними образуется зона постепенных переходов. Серое в этих фотографиях не тернарно, а тетрарно, т. е. оно образует не промежуточное звено между черным и белым, как это мыслится в означивании срединности, а вбирает в себя признаки, дополняющие противопоставленность черного и белого – импликацию и отождествление. Вследствие этого рассказ о сером (городе, быте, сознании горожан) можно трактовать как фиксацию динамических процессов-состояний, как визуализованную модальность. Посредством градуированной шкалы описывается рассказ о призрачной действительности, которая располагается в срединной зоне на шкале мерцающих переходов-признаков от бытия к не-бытию.
Еще одна тетрарность возникает во взаимодействии текста и изображения «Диссертации» Михайлова. Текст противопоставлен изображению как дискретное континуированному. Однако область вербального здесь – суждения о бытии сквозь будни, область изображения – скольжение взгляда по поверхности банального повседневности. Возникают противопоставления глубинное/поверхностное, мыслимое/ зримое, погружение/скольжение. Дискретное выступает как принадлежность телесного и событийного (взрыва), а изобразительное распадается на телесное (человеческая фигура в интерьере, часто акцентировано телесное – беременная женщина, ню, вульгарная поза) и внетелесное как городское (пустырь, панельный микрорайон и т. п.). Тем самым, за мотивом города закреплено континуальное, т. е. собственно визуальное. Но при этом он выступает как кажимость, т. е. невидим по существу или активно незрелищен (внесобытийное изображение, за него не зацепляется глаз), и в этом состоит парадокс его визуализации. В нарративе городской окраины акцентированы знаки постепенного угасания во времени; событием является распад пространства, его растворение в неявных, семантически не отмеченных формах, также в отсутствии какого-либо активного действия персонажей.
Несмотря на внешнюю несобытийность представленного, взгляд прикован к изображению, а зритель становится проводником между картинкой и той действительностью, о которой картинка повествует. Михайлов обнажает родовое свойство фотографии, которая, согласно Р. Барту, является «сообщением без кода» [Барт 1997]. Однако в данном случае художник усложняет задачу: лишенное кода визуальное сообщение, вместе с тем, заимствует код у письменного слова, словно меняясь с последним «ролями». Налицо снова четырехчленная модель: рукописное слово осуществляет переход от дискретности письменного знака к нарастанию телесности по признаку следа руки, а изображение городской окраины основано на убывании телесности, на размытом нарративном фокусе. Но при этом изображение реализует и противоположное движение – постепенное смещение от континуального к дискретному, фрагментированному. Слово/тело/город попадают в одну парадигму. Реализуются архетипические смыслы города: город-тело, город-поток (= речь), город как внутреннее. Мотив хаоса, неорганизованности и децентричности восходит к диаволическому городу символистов [Ханзен-Лёве 1999б]. Таким образом, двойной код – вербальный и визуальный – альбома образует взаимные перекрещивания: рукописное/телесное (как дискретное/континуальное) и тело/город (как дискретное/континуальное – в силу его фрагментированности). Рукописное выступает эквивалентом жанра – исповеди-дневника в картинках. Частное и интимно-телесное, в свою очередь, «рифмуются» с мотивом городской окраины как сюжетным стержнем повествования.
Маргинальны персонажи городской маргиналии, маргинальна и точка зрения рассказчика. В фотоальбоме Михайлова повествуется своего рода история ничтожного. Она создана речью персонажа, т. е. субъектом. Субъектная интериоризация города отвечает коммуникативной структуре эго-текста, из которого, однако, подобно тому, как в пространстве описываемого города, извлечено ядро, центр, потому что все повествование дано с точки зрения анонимного рассказчика (адресанта, субъекта), и такая точка зрения совпадает с анонимностью персонажа (адресата, объекта). Некоторые исследователи справедливо говорят о «слипании» художника и объекта фотосъемки [Tupitsyn 1998: 218–220]. Создается эффект «прозрачности» повествования, неопосредованности точкой зрения рассказчика и неконвенциональности системы означающих. Позиция внешнего наблюдателя спроецирована на самого себя, что и создает эффект призрачности. В этой среде прозрачности рассказчик сам обладает сверхпрозрачностью.
Такого рода нарратив наделяет изображение города текучестью: город и присутствует, потому что узнаваем быт, но и ускользает от пристального взгляда, потому что в изображении нет ничего статичного, фронтального, тектоничного. Это эксцентрический город на краю обитания, нарратив отсутствующего места как пространственный эквивалент безвременья. Вспоминаются «ветхие» города Андрея Платонова: «Над домами, над Москвой-рекой и всею окраинной ветхостью города сейчас светила луна» [Платонов 1990: 329]. У Бориса Михайлова возникает оксюморонная отсылка к платоновской поэтике: в категориях ветхости описываются районы новостроек. Его городская окраина предстает как рассказ о внутреннем состоянии субъекта, наделенного ущербностью, неполнотой сознания, психологической недостаточностью, отсутствием телесности или ее гипертрофией. Городской текст Бориса Михайлова выступает двойным отрицанием: противопоставляя себя как утопическому проекту Башни Третьего Интернационала Татлина, так и дистопическому повествованию в романе А. Платонова «Чевенгур», он прокладывает третий путь: не-жизнь и не-смерть Харькова эпохи советского застоя, где жизнь выступает как маркированный член оппозиции.
В «Неоконченной диссертации» Бориса Михайлова город становится пространственной моделью культуры, в которой континуальное и дискретное находятся в непрерывном и напряженном диалоге. Фотоальбом Б. Михайлова «Неоконченная диссертация» представляет, кроме того, интерес как случай построения модели, эксплицирующей семиотический парадокс фотоизображения: фиксируется то, чего больше нет, что оставило свой след. Эго-нарратив городской окраины создает антропоморфный образ призрачного города как метафоры повседневности, поэтому можно говорить o воссоздании в изображениях Михайлова мифологического образа последнего (город как тело), но также и о динамической системе означиваний частного, бренного, в которой непрозрачно только состояние, т. е. модальность.
Глава 6. «Речь» имитационных строительных материалов и «текст» эпохи
На первый взгляд, заявленная в данном очерке тема имеет мало общего с проблемой мифопоэтики визуального. Однако следует учитывать, что визуально-вербальный синтез в современной культуре простирается за пределы, традиционно обозначенные термином «эстетическое». Имитационные декоративные строительные материалы являются одним из кодов культуры, важным индикатором состояния общества. Поэтому их «речь» выступает в форме ментальных схем и приоритетов социума, тем самым, имеет отношение к «тексту» эпохи, ее риторическому портрету.
Поводом для темы настоящего очерка послужила книга известного американского искусствоведа Пэмелы Симпсон, посвященная имитационным архитектурным материалам, применявшимся в Америке с 1870 по 1930 годы [Simpson 1999]. Эта книга – стихийно-семиотическая по своему способу рассуждения – описывает освоение культурой новых материалов (с подробным описанием технологий и истории их создания и производства) как шага на пути к становлению ранней демократии. При внешнем сходстве процессов с современной Россией, поражает глубинное расхождение в принципах означивания материалов и социальной коннотации последних. Имитационные декоративные строительные материалы в современной России являются одним из знаков того, что в обществе нет установки на демократизацию. В этом ключе можно было бы рассмотреть и женскую моду, однако эта тема выходит за рамки настоящего исследования.
Современный человек окружен массой вещей, изготовленных из новых полимерных материалов, особенно в отделочно-строительной сфере. Большинство этих материалов являются имитацией натуральных материалов: дерева, мрамора, камня, кожи. Маскирующие имитационные свойства материалов требуют усилия, чтобы распознать подделку – кожезаменитель, линолеум и пластик под дерево, гипс с нарисованными мраморными прожилками, бетон, имитирующий каменный руст, металлическая черепица. К имитирующим практикам следует отнести и натуральные материалы, маскирующиеся под другие натуральные материалы более высокого статуса в культуре: сосна под дуб, хлопок под лен, песчаник под гранит и т. п., а также искусственные материалы, маскирующиеся под более дорогие искусственные материалы, – например, полиуретановые потолочные плинтуса под гипсовую лепнину.
Полем референций искусственных материалов являются природные материалы – в этом современный человек решительным образом отличается от так называемого архаического человека, имеющего дело с материалами, которые коннотированы первичными смыслами, связанными с преобразованием природы в ходе хозяйственно-ритуальной деятельности. Так, дерево отсылает к комплексу axis mundi, кожа хранит память об охоте на зверя, камень символизирует крепость, границу как защищенность своих от чужих. По сравнению с первичными архаическими значениями имитационные материалы являются продуктом вторичной символизации. Материал – это один из кодов культуры. Стратегия и характер символизации материала раскрывают важные свойства языка культуры.
Искусственные материалы существовали с древних веков – примером может служить стекло и до известной степени шелк. Столь же извечна и практика имитации в строительстве, имевшая целью повышение семиотического статуса элемента посредством возведения его к более древнему прототипу. Так, мраморные античные колонны имитировали предшествовавшие им деревянные столбы. В более широком охвате имитация как принцип лежит в основании классической эстетики (вспомним Аристотеля с его идеей подражания искусства природе – идея мимезиса). Наконец, расширяя контекст до рамок всего живого на Земле, имитацию следует рассматривать как вариант мимикрии, которая, в свою очередь, включена в бесконечный и универсальный ряд метаморфоз, характерный для всего органического мира. В своей книге «Протей. Очерки хаотической эволюции» Ю. С. Степанов пишет о мимикрии покорных и мимикрии сопротивляющихся, а также о мимикрии как концепте прегнантном, который расширяет и завоевывает умы (от камуфляжной формы до концепции гомеопатии – подобное подобным) [Степанов 2004]. Мимикрия – это, таким образом, одно из проявлений динамической системы мира аналогий и мира как аналогии.
В свете универсальности природы имитации ее отношение к проблеме истинной/ложной идентификации представляется весьма неоднозначным. Маскируясь, имитирующий материал сохраняет до известной степени свойства аутентичности: действительно, ведь никто не спутает винил с кожей на обивке салона автомобиля, ламинат с натуральным деревянным покрытием пола или пластик, раскрашенный под мрамор, с природным материалом. Таким образом, имитационный материал, говоря на языке ложной идентификации, оставляет зазор идентификации истинной. Этот зазор является репрезентирующей функцией материала, создающей нечто вроде авто-метаописания. То, как имитация оценивается в отношении идентификации, является индикатором установок той или иной культуры, ее автопортретом. Проблема, как правило, состоит в том, зачем новым материалам имитация, кто и как повышает свой статус в процессе мимикрии. Обратимся к недавней истории.
Не углубляясь в более ранние времена (например, барокко), скажем, что XIX век был буквально захлестнут имитацией всех видов. В это время в сфере искусства активно распространяются копии, репродукции, подделки. Возникает фотография, имитирующая реальность, а затем и кинематограф. Уже в начале века московский ампирный особняк оперирует ложными колоннами портика (сделанными из дерева) и покрытиями штукатуркой в подражание камню. К концу века, по мере распространения индустриальных технологий и успехов химии, европейский мир получает мощный толчок к развитию имитационных материалов. В это время возникают такие материалы, как линолеум с нанесенным на него рисунком в подражание ковру ручной работы; бетонные блоки, имитирующие камень; гипсовые панели, раскрашенные под мрамор; металлические потолки, прессованные под дерево и мн. др. В обществе наиболее продвинутых в индустриальном плане стран возникают жаркие споры сторонников и противников имитационных материалов и принципа имитации как такового.