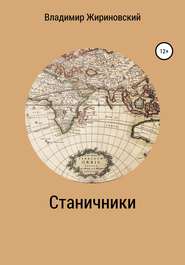скачать книгу бесплатно
Иностранцы посещали Дон уже позже, в начале XVII века. И в своих описаниях отмечали очень большую свободу казачек, их красоту, силу, выносливость, чистоту и опрятность жилищ. Рассказывали и о брачных обычаях.
Постоянных церковных храмов и приходских священников тут ещё не было, и жених приводил невесту на майдан. Атаман перед лицом всех казаков спрашивал молодых, любы ли они друг дружке, и объявлял мужем и женой.
Лёгким был и развод – казак и его супруга снова приходили на майдан, муж свидетельствовал, что она была хорошей женой, но любви больше нет. И слегка отталкивал её от себя. После чего другой холостяк был вправе накрыть её полой зипуна, предлагая себя в мужья.
Обычаи, кстати, весьма архаичные и не славянские. На Руси развод был возможен только при уходе одного из супругов в монастырь.
Впрочем, и в других вопросах отношение казаков к религии имело свою специфику. В России той эпохи чрезвычайное внимание уделялось внешним атрибутам: постам, регулярному посещению храмов, ритуалам праздников и т.п. Казаки были очень набожны, но выполнять эти требования попросту не могли. Как соблюдать посты, если хлеб покупной и не всегда есть, а основу питания составляют мясо и рыба?
Священнослужители казаков зачастую были из расстриг, беглых монахов. Это считалось нормальным, где других взять? Иногда навещали священники, командированные Крутицкой епархией. Но часто их обязанности выполняли «уставщики», избранные из своей среды, – те, кто лучше знает молитвы.
Исповедовались им же или друг другу. А перед боем прикусывали кончик собственной бороды – полагали, что это в какой-то мере заменяет причастие.
Была распространённой и такая форма покаяния, как обеты: искупаться на Крещение, сделать вклад в монастырь. По обетам казаки периодически отправлялись на богомолье в монастыри – то в близлежащие, а то и в далёкие, например, на Поморский Север. «Отмаливали грехи», после чего возвращались к привычному образу жизни. Но если, скажем, купец Афанасий Никитин, будучи за границей, не имел возможности соблюдать посты и службы, сбился с календаря церковных праздников и был от этого в ужасе – писал, что теперь его душа наверняка погибла, то казаки так не считали. Они пребывали в уверенности, что служат Богу по-своему, защищая православных людей от басурман. И Господь это учтёт.
Таким образом, вырабатывалось осознание себя воинами Христовыми. Не в качестве гордыни или претензий на исключительность, а как констатация факта. Воины Христовы, а уж Он разберёт, кто достойно послужил Ему, а кто оказался нерадивым.
Вера стала и одним из краеугольных камней традиций. А вторым была воля. Но здесь надо обратить внимание, что в XIX веке либералы произвели подмену понятий, внедрив вместо «воля» – «свобода». Идеализировалась «борьба за свободу», этот термин стал подразумеваться заведомым благом и противопоставлялся «рабству». А в таком контексте как же не согласиться?
Однако в XVI—XVII веках на Руси слово «свобода» применялось очень редко. В ходу был термин «воля», который совпадает со «свободой» лишь в одном из значений, а в других расходится.
Понятие «свобода» чисто механическое. Так, в физике говорят о «степенях свободы». Одна степень – способность частицы телепаться вдоль одной оси, две степени – по двум осям, три – по всем направлениям, четыре – тело вдобавок может вращаться вокруг одной оси, пять – вокруг двух осей, шесть – если способно перемещаться в пространстве и кувыркаться как угодно.
Термин же «воля», в отличие от «свободы», включает в себя целенаправленное, осмысленное начало. Говорят – «моя воля», в том числе, если сочтено нужным, и воля на то, чтобы ограничить свою свободу. Данное понятие включает и усилие по достижению цели – «волевое усилие», «силу воли».
В наше время можно привести массу примеров, когда люди, юридически вполне свободные, утрачивают собственную волю и живут по манипуляциям пропаганды, бездумно следуют в русле навязанных им стандартов и ценностей. И вот эту разницу важно учитывать для правильного понимания психологии казачества и его истории.
ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Взятие Казани стало в истории России столь же важной вехой, как Куликовская битва и Стояние на Угре. Русь уже не только оборонялась от татар, она перешла в наступление! Она красноречиво продемонстрировала свою мощь, и её зауважали.
Однако турки и крымцы с успехами России отнюдь не смирились. Их эмиссары стали сеять смуту среди волжских народов, подбивали к восстаниям, обещали поддержку. И в 1556 году изменил астраханский хан Дервиш-Али. К нему из Крыма пришла тысяча конников и янычар, русские, находившиеся в городе, были вероломно перебиты. Отряд воеводы Мансурова, прикрывавший Переволоку, под ударами неприятеля отступил к донским казакам в городок Зимьево.
Иван Грозный стал собирать против Астрахани рать под командованием воевод Черемисинова и Писемского. Отличился в этот раз донской атаман Ляпун Филимонов. Он понял, насколько важно не упустить время, пока астраханцы не изготовились к обороне.
И казаки напали на врага, не дожидаясь воевод. Погромили улусы, нанесли жестокое поражение воинству. Среди астраханцев началась паника, они перепугались мести за содеянное. И прибывшее русское войско нашло город пустым. Многих «бегавших» астраханцев взяли в плен ногайцы, Дервиш-Али удрал в Крым. А Астрахань окончательно вошла в российские владения.
В 1563 году царь предпринял победоносный поход на занятый поляками Полоцк – в составе его армии числилось 6 тысяч казаков-государственников, служилых и вольных. Но затем война стала приобретать затяжной характер. Победы чередовались с неудачами. Росли потери, истощались средства и ресурсы. Этим в полной мере воспользовался крымский хан. Его набеги опустошали Мценск, Северщину, Рязанщину.
На Кавказе ногайцы стали теснить кабардинцев. Царский тесть Темрюк Идарович Сунжалей обратился за помощью к зятю, и в 1567 году в устье Сунжи была построена первая русская крепость на Кавказе – Терский городок. Сюда прибыл отряд стрельцов, на службу привлекались и гребенские казаки.
Однако для активной войны на нескольких фронтах сил не хватало. Царские рати, прикрывавшие южные рубежи, становились всё слабее. Да и из казаков значительная часть отвлекалась в Польшу и Ливонию.
А татары теперь старались отыграться. Нападали на донские городки, захватывали жён и детей. Если же удавалось поймать казаков, в плен их уводили редко. Понимали, что «хороших» рабов из них не получится, и подвергали страшным казням. Сдирали кожу, сажали на кол, зарывали заживо. Но казаки держались, осаживали врага.
В этих схватках выдвинулся один из величайших героев Дона – атаман Михаил Черкашин. Судя по прозвищу, он мог быть из украинских казаков, а мог быть и из терских, часто роднившихся с «черкасами». Но в российские документы раз за разом попадали сведения о его подвигах.
Именно с ним связано первое упоминание о выходе донцов в море – в 1556 году отряд Черкашина погромил окрестности Керчи. В 1559 году, по записям Разрядного приказа, атаман разбил крымцев в верховьях Северского Донца, прислав «языков» в Москву. Казаки верили в его удачу, считали его «характерником» (чародеем) – полагали, что он может и пули, и ядра заговаривать. Но Черкашин был не просто удачливым атаманом. С его именем связано и объединение Войска Донского.
И в других регионах России казаки начали объединяться, готовясь создать свои республики.
Однако этому процессу помешал рост напряжённости в центральной России. Там в считанные месяцы втрое выросли налоги, крестьяне стремительно разорялись. В 15661567 годах по стране прокатилась эпидемия чумы, унесшая множество жизней.
А меры царя по укреплению центральной власти вызывали недовольство бояр. Они изменяли, строили заговоры. В ответ следовали репрессии. Но при этом вассалы и дружинники опальных вельмож тоже оказывались обиженными, дезертировали, бежали за рубеж. Россия и казацкие земли вместе с ней неумолимо дрейфовали к смуте – гражданской войне и интервенции.
И неизвестно, смогла бы устоять в этой смуте Русь, если бы не серьёзная экономическая поддержка из земель, завоёванных казаками за Уралом.
Ермак Тимофеевич – единственный атаман, которого называли по имени-отчеству. Он находился на царской службе до начала 1582 года, когда было заключено перемирие с Польшей. Часть его отряда вернулась на Дон, часть пошла с атаманом на восток.
Во владения энергичных промышленников Строгановых, страдающих от набегов инородцев, казаки Ермака прибыли вовремя. Набег пелымцев в прошлом году был всего лишь разведкой боем. А летом 1582 года. Кучум направил на Пермь большое войско во главе с царевичем Алеем – бухарскую гвардию, ногайцев, башкир, отряды своих мурз. И первое сражение казаки выдержали у Чусовского городка, отбив врага. А Алей, получив здесь крепкий отпор, повернул на север, на Соль-Камскую.
Враги ворвались в посад, учинив бойню, подожгли город (после этого в Соли-Камской 200 лет устраивали крестный ход к братским могилам). Отсюда Алей двинулся ещё севернее и осадил Чердынь, главную русскую крепость в Пермском крае. И вот этим-то воспользовался Ермак Тимофеевич.
Нет, не Строгановы организовывали его поход. Для них главным была защита своих владений. Это была истинно казачья тактика – пока главные силы сибирцев бродили по Пермскому краю, представилась уникальная возможность нанести смертельный удар прямо в сердце их ханства!
Сохранились сведения, как казаки угрозами вытрясли из Максима Строганова припасы и снаряжение. Взяли местных проводников и 1 сентября выступили. Отряд насчитывал 540 человек, имел на вооружении три малокалиберные пушки и 300 пищалей.
Чердынь еле отбилась. И воевода Пелепелицын, тот самый, что уже пострадал от казаков, послал в Москву донос. Мол, Строгановы не помогли, вместо этого отправили казаков в Сибирь.
Царь осерчал. В этот момент правительство всеми мерами старалось не спровоцировать новых войн, и на Каму пошла гневная грамота. Строгановым нагорело за то, что они призвали «воров». Но о том, чтобы их перевешать, не упоминалось – царь приказывал под страхом «большой опалы» использовать казаков «для оберегания пермских мест». И именно эта грамота, датированная 6 декабря 1582 года, принята для становления сибирского войска.
Впрочем, грамота опоздала. Когда она писалась, Ку- чум уже был разгромлен. Не было трёхлетнего похода на Кашлык с зимовками, многими сражениями и поочерёдным прогрызанием линий обороны.
Такой поход, воспетый потом в легендах, оказался бы не по силам никаким героям. Был стремительный рейд, очень тяжёлый и напряжённый. Нужно было и опередить Алея с его ратью, и успеть до ледостава.
С Чусовой флотилия поднялась по её притоку, Серебрянке. Здесь, на перевале Уральских гор, пришлось бросить несколько тяжёлых стругов. Лёгкие перетащили волоком в реку Журавлик. А дальше сплавлялись уже по сибирским рекам: Баранчук, Тагил, Тура, Тобол.
Были стычки с противником у «Епанчиной деревни», в юрте Карачи, и Кучум узнал о появлении казаков. Но не придал этому должного значения – ну пограбят и уйдут. Что может сделать горстка людей против целого царства?
Но они быстро приближались, и хан принялся собирать войско, поручив командование брату Маметкулу. Столица ханства Кашлык не являлась в полном смысле слова городом. Это было небольшое укрепление на холме, где располагались ставка царя. Поэтому оборону организовали у подножия холма, на Чувашевом мысу. Соорудили засеку, построили воинов.
Когда струги Ермака вышли на Иртыш к Кашлыку, казаки увидели огромную рать, и многие невольно оробели, «восхотеша в нощи бежати». Атаман велел отойти в безопасное место и провёл круг.
Отступление было, в общем-то, уже невозможно. Стояла поздняя осень. Вот-вот сибирские реки начнут замерзать, и отряд не успел бы уйти за Урал. Оставалось победить или погибнуть. Круг решил атаковать.
В день св. Дмитрия Солунского, 26 октября струги ринулись на штурм. Противников и впрямь было очень много, но это были не лучшие дружины Кучума – они ещё не вернулись с Руси. Это было наспех собранное ополчение разных племён. Огнём казаки отогнали врагов, высадили десант. У засеки атака захлебнулась, штурмующих засыпали стрелами. Казаки остановились, стали откатываться к воде.
Но не исключено, что это делалось нарочно, – Мамет- кул велел делать проходы в засеке и контратаковать. А как только враги высыпали из-за укрытий, они стали хорошей мишенью. Получили несколько залпов, и разношерстная рать побежала. Маметкул, пытаясь навести порядок, был ранен, что усилило панику. А казаки ринулись в новую атаку. Кашлык был взят.
Кучум бежал. Но уступать не собирался. Он сохранил свои главные силы, подошло войско Алея. Захваченную столицу окружили, скрытно наблюдали за ней. А казакам требовалось пополнить припасы. Они узнали о хороших рыбных ловах на оз. Абалак, и туда отправился отряд под предводительством Богдана Брязги.
Неприятели напали на него и истребили полностью. Получив об этом сведения, Ермак немедленно вывел всех казаков. Это был рискованный, но единственно верный шаг – иначе кучумовцы, ободрившись победой, блокировали бы Кашлык. У озера Абалак 5 декабря произошло тяжёлое и кровопролитное сражение, «брань велия на мног час». Подробностей мы не знаем. Известно лишь, что казаки понесли серьёзные потери, но победили.
И вот после этого держава Кучума посыпалась, как карточный домик. Местные племена вышли из повиновения узурпатору. Некоторые перешли на сторону русских, повезли в Кашлык дичь, рыбу, ясак – дань мехами. Против Кучума выступил Сеид-хан, племянник свергнутого Едигера.
Казаки на кругу решили – обратиться в Москву и «передать Сибирь» царю. По весне выехала станица из 25 человек. В Посольском приказе и записях Чудова монастыря, получившего вклады казаков, зафиксированы имена атаманов посольства: Александр Иванов по прозвищу Черкас и Савва Болдыря.
Возвращаться прежней дорогой значило 1200 км грести против течения, и от местных жителей узнали более лёгкий обратный путь, вниз по Иртышу и Оби, а «через Камень прошли Собью же рекой в Пусто-озеро».
В Москву прибыли летом или осенью 1583 года Иван Грозный жаловал казаков «деньгами и сукнами», а Ермака и атаманов «золотыми». Царь собирался немедленно послать подмогу, но убедился, что зимний поход через горы нереален, и отложил его на весну. А в марте он умер. И всё пошло через пень-колоду. Черкаса и Болдырю правительство задержало в Москве как консультантов по сибирским делам. А за Урал направило Семена Болховского, Ивана Киреева и Ивана Глухова, выделив им всего 300 стрельцов, да и то две сотни предписывалось набрать самим.
Казалось, все беды позади. Но подмоги казакам из России не было, и Ермак не знал, когда она придёт. А местные жители жаловались, что Кучум, обосновавшись в южных степях, не пропускает бухарских купцов. Роль торговли со Средней Азией была в Сибири очень велика. Оттуда в обмен на меха поступали ткани, хлеб, рис. И Ермак, оставив в Кашлыке Глухова с уцелевшими стрельцами, предпринял свой последний поход, к верховьям Иртыша. Опять с боями, приводя в подчинение здешних князьков.
Казаки осадили крепость Кулары, но взять не смогли. Ермак ободрял соратников, ничего, мол, на обратном пути «приберём». Дошли до Шиш-реки, но возвращались уже «прогребаючи все городки и волости». Не исключено, что у казаков кончались боеприпасы.
Ночью 5 августа 1585 года татары скрытно подобрались к лагерю и ударили. Ермак был тяжело ранен и, бросившись вплавь за судами, утонул. Но заводы Строгановых заработали, и дань покорённых сибирских народов пошла в русскую казну.
КАЗАКИ СПАСАЮТ МОСКВУ
А на Руси тем временем начались неурядицы, связанные со смертью Ивана Грозного. При новом царе Фёдоре Иоанновиче власть крепко взял в руки Борис Годунов. При нём вырос авторитет Москвы на международной арене. Через Константинопольского патриарха, получавшего от царя денежную помощь, удалось добиться учреждения Московской патриархии.
Но в стране стали нарастать и противоречия. Годунов был первым в нашей истории «западником» и принялся проводить «европейские» реформы.
Первым делом, по примеру польских правителей, он решил подмять казаков, обратить их в обычных подданных. В 1593 году на Дон был направлен приказ «жить в мире с азовцами», отпустить пленных. А управлять казаками отныне должен был царский уполномоченный, на этот пост назначался дворянин Пётр Хрущёв.
Круг возмутился и дал Хрущёву от ворот поворот. Годунов осерчал, и от имени царя послал с князем Волконским вторую грамоту. За конфликты с Крымом правительство угрожало опалами, казнями, обещало послать войска и согнать казаков с Дона, причём действовать против них вместе с турками. Правда, угрозы дополнялись и обычными приказами по службе – сопровождать посла в Азов, выслать разведку «на Арасланов улус добывать языков», «про ханское умышление проведать». И некоторые казаки соглашались исполнить повеления.
Но в это время прибыл из Москвы казак Нехорош- ко Картавый и сообщил, что власти прижали донцов, ко-
торые находились на царской службе, перестали платить жалованье, «корму не дают», но и на Дон не пускают, «а иных в холопи отдают». Тут уж казаки совсем оскорбились, «показать службу» отказались и даже охраны Волконскому не дали.
Количество сторонников независимости от Москвы среди казаков стремительно росло. Но вместо того чтобы договориться с ними, Годунов попытался силой принудить их к покорности. Запретил казакам появляться в русских городах, где у многих были семьи и где они торговали. Воеводам предписывалось сажать их в тюрьму, кого поймали – казнили. Против казаков даже началось строительство крепости (Царёв-Борисов на Северском Донце).
Кроме того, стали создаваться отряды добровольцев, чтобы нападать, отлавливать казаков, для этого привлекались даже «воровские» банды. Так, некий атаман Болдырь совершил несколько рейдов на Медведицу, хватая казаков, за что получил награду.
Но карательные акции вызвали вовсе не ту реакцию, на которую рассчитывал Годунов. В ходе борьбы против турок и татар у казаков Дона установились прочные связи с запорожцами. Несмотря на разное подданство, те и другие казаки считали себя братьями, помогали друг другу, предпринимали совместные походы. Теперь и на донцов, и на запорожцев катились гонения, и они заключили договор «стоять за един».
И на нападения казаки ответили адекватно, ударили на Воронеж и сожгли его. Фактически смута началась не с Москвы, а с Дона и Запорожья.
Впрочем, Годунов испортил отношения не только с казаками. Он ухитрился подгадить всем слоям населения. Крестьяне на Руси были вольными. Но по образцу Польши, Прибалтики, Германии власти решили закрепостить их. И в 1593 году было отменено право ухода от помещиков на Юрьев день, а в 1597 году на Руси учредили общегосударственную структуру по «сыску беглых». Мало того, ещё был принят закон, что любой вольный человек, проработавший полгода по найму, превращался в потомственного холопа.
Начались страшные злоупотребления. Царские приближённые, бояре, дворяне заманивали мастеровых, даже хватали людей на дорогах, вымогая кабальные записи.
В 1598 году Годунов через Земский Собор обеспечил свое избрание царём. Но чувствовал себя на троне непрочно и развернул репрессии против возможных соперников. Опасаясь заговоров, Годунов внедрил повальное доносительство – холоп, донёсший на дворянина, получал его поместье. Города наводнили шпионы.
Пострадали и купцы, посадские. Годунов увеличил налоги и ввёл западную систему отдавать их на откуп частным лицам. Этим тоже пользовались его клевреты, обирая народ и разоряя торговцев.
А в 1601-1602 годах случился двухлетний неурожай. Начался голод. В одной только Москве в общих могилах погребли 127 тысяч умерших. Хозяева распускали крепостных, которых нечем было кормить, другие разбегались сами, погибали, бродяжничали.
В 1604 году на Русь выступили 3 тысячи шляхты и 2 тысячи запорожцев во главе с «царевичем Дмитрием» – Лжедмитрием I. И едва он перешёл границу, на его сторону стали переходить города – Моравск, Чернигов, Путивль, Кромы, Рыльск, Севск, Белгород, Курск… Поддержало Самозванца и остальное казачество.
Впрочем, при описании Смуты часто бывает неясно, о каких именно казаках идёт речь. Скорее всего, речь идет просто о разбойничьих шайках. Хронисты пишут, что сторону Лжедмитрия приняли вооружённые крестьяне, которые именовали себя «казаками», не будучи ими.
Так что те из историков, кто говорит о широкой поддержке Самозванца казаками, либо врут, либо заблуждаются. Например, некоторые из авторов исторических хроник пишут, что к Самозванцу «пришли 12 тыс. конных запорожцев» – цифра абсолютно нереальная. Сечь вместе с женатыми «зимовыми» выставляла лишь 6 тысяч, из них 1,5-2 тысячи конных.
Очевидно, это были смешанные войска, среди которых было немало кочевников-изгоев, которые, узнав об успехах Самозванца, хлынули к нему в надежде на добычу и награды.
И в январе 1605 года в битве у Добрыничей эти мнимые «запорожцы» при первом же натиске царских войск кинулись наутёк, воеводам осталось только гнать и рубить их.
Так что успех Самозванца определили не казаки, а то, что вся страна ненавидела Годунова. Его ратники геройствовать и погибать ради него не стремились. А 15 апреля царь умер, оставив престол сыну Фёдору. Тут же среди войска и бояр возникли заговоры, ставившие целью с помощью Лжедмитрия избавиться от Годуновых.
Федор был свергнут и убит. И Самозванец торжественно воцарился в Москве. Но бояре не для того свергали Годуновых, чтоб посадить себе на шею безродного пройдоху, и стали готовить переворот.
В мае 1605 года на свадьбу Лжедмитрия и Марины Мнишек понаехали тысячи поляков. Вели себя по-хозяйски, безобразничали, задирали русских, насиловали женщин, даже из знатных родов. И москвичи охотно поддержали заговорщиков. Самозванец был убит. Царём стал Василий Шуйский. Был низложен и поставленный Лжедмитрием патриарх, грек Игнатий. Его место занял митрополит Казанский Гермоген. Он был из донских казаков, прославился как строгий ревнитель веры, а в царствование Самозванца не боялся обличать его.
Но положение в стране уже вышло из-под контроля. Поднялась вторая волна Смуты – восстание Болотникова. В этом движении против рода Шуйских объединились самые разные силы – дворяне, казаки, крестьяне.
Но сам Болотников, будучи бывшим холопом, сделал опору на холопов и крестьян. Призывал истреблять помещиков, жечь и грабить усадьбы. И в результате таких безобразий казаки и дворянская часть повстанцев перешла на сторону царя. Оставшиеся у Болотникова толпы сброда были мигом разгромлены.
Но уже поднималась третья волна Смуты! По Польше распространялись легенды о богатствах Руси, о слабости ее войск. И группа панов смекнула, что если нового Самозванца нет, его нужно создать. Появился Лжедмитрий II. На эту роль определили еврея Богданко, учителя из Шклова.
Под знаменами нового принца «Дмитрия» собрались отряды польской шляхты, которую возглавил князь Ружин- ский, полковник Лисовский привёл украинских казаков, Заруцкий – донских. Это был уже не сброд, а профессионалы. И войско, одерживая победы, в 1608 году подступило к Москве. Взять её не смогло и остановилось в Тушине, осадив столицу.
Теперь дело выглядело куда более солидно, чем у Болотникова. Лжедмитрию стали присягать города, покорилась большая часть России. К нему стали перебегать представители знати. Он жаловал их поместьями, чинами, при нем возникла «боярская дума» во главе с Михаилом Салтыковым и Дмитрием Трубецким. А когда из Ростова привезли пленного Филарета Романова, Самозванец сделал его своим «патриархом». Хотя на самом деле вес Лжедмитрия II был нулевым. В Тушине всем заправляли поляки.
Тогда Самозванец обратился за помощью в Крым – и татары явились. Но воевать не стали, а погромили окрестности Рязани, Серпухова, Коломны и ушли, угоняя в полон десятки тысяч молодых русских женщин и мужчин.
Ослаблением Руси решил воспользоваться польский король. Причём придворный идеолог Пальчевский выпустил труд о том, что Россия должна стать «польским Новым Светом»: русских «еретиков» надо перекрестить и так же обратить в рабов, как испанцы индейцев. В 1609 году армия Сигизмунда подступила к Смоленску.
От Самозванца поляки быстренько отделались и заставили русскую знать принести присягу польскому принцу Владиславу. Но она ничего не дала России, кроме новых бед. С одной стороны, теперь повод для экспансии получили шведы, принялись захватывать русские города. А с другой – и города, впустившие поляков, подвергались от них грабежам и разорению. Повсюду бесчинствовали отряды шляхты, немецких и венгерских наёмников, ордынцев. Убивали, угоняли в плен, истязали людей, вымогая деньги.
И народ стал подниматься на борьбу. Вдохновителем её стал патриарх Гермоген. Его держали в заточении, всячески притесняли, требуя призвать людей к покорности. Он отвечал, что если поляки не исполнят условий прежнего договора, то он благословит восстание. У него отобрали бумагу, всех слуг. Но казачьи атаманы Андрей Просовец- кий и Миша Черкашин пробрались к нему. И через них патриарх известил, что освобождает Россию от присяги Владиславу, и призывал: «Мужайтеся и вооружайтеся и совет между собой чините, как бы нам от всех врагов избыти. Время подвига пришло!»
Весной 1611 года войско русских патриотов, основу которого составляли казаки, двинулись к Москве. И поляки, поняв, что во враждебно настроенном городе обороняться не смогут, приняли варварское решение – сжечь Москву. 19 марта возникла драка между солдатами и москвичами.
Польский комендант Гонсевский бросил на безоружный люд наёмников, учинивших жуткую резню. А когда горожане сорганизовались к сопротивлению, враги начали поджигать дома. Поляки засели во внутренних крепостях – Кремле и Китай-городе. А остальная Москва превратилась в пепелище. В огне погибло, по разным оценкам, до 300 тысяч человек.
В это время к городу подошло Первое земское ополчение, ядро которого составляли казаки-патриоты. Поляки попали в капкан.
Но они провернули интригу. От имени лидера казаков Ляпунова было изготовлено поддельное письмо, где он якобы требовал истребления части казаков.
Фальшивку подкинули казакам. Её зачитали на кругу, народ забушевал и вызвал Ляпунова. Он отрицал своё авторство, но возбуждённые казаки не стали его слушать и изрубили саблями.