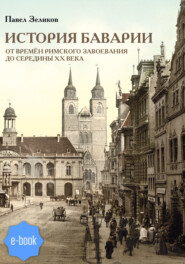скачать книгу бесплатно
После смерти Стилихона ведущим полководцем Западной римской империи становится Констанций III, которого Гонорий объявил своим соправителем. Тем временем наследник Алариха Атаульф женился на Плацидии, которая находилась у вестготов. Правда, Гонорий не дал своего императорского разрешения на этот брак. Тогда Констанций, от греха подальше, послал Атаульфа в Испанию, где последний был убит. Новый вождь вестготов Валлия в обмен на разрешение императора поселиться в Галлии, вернул Плацидию в Равенну.
После смерти Констанция в 421 году Гонорий сблизился со своей сводной сестрой Плацидией. Его внимание и откровенные ласки на виду у всего двора привели к публичному скандалу и раздражению самой Плацидии. Разрыв их отношений даже вызвал вооружённые стычки на улицах Равенны между сторонниками обеих партий.
В конце концов Гонорий выслал Плацидию из Равенны, и в 423 году она получила убежище в Константинополе, куда с ней уехали её двое детей, в том числе и младенец, будущий император Валентиниан III. В том же году император Гонорий заболел водянкой и благополучно скончался.
Как ни странно, именно на время правления безвольного Гонория приходится расцвет деятельности святого Августина, епископа Гиппон-Регия, и святого Иеронима. Нужно помнить, что Гонорий был весьма набожен — он преследовал язычников и еретиков, опираясь, в том числе, и на учения почтенных теологов, апологетов христианской церкви. Например, когда в 399 году язычники в Африке, возмущённые закрытием их храмов, подняли восстание, Августин присоединился к тем епископам, которые требовали принять новые законы протии старых богов и «вырвать с корнем остатки идолопоклонничества». В тоже время полуварвар Стилихон придерживался более терпимого отношения к гражданам империи, не являющимися христианами. Но слава Древнего Рима вместе с её языческими богами уходила в прошлое. Так после смерти Стилихона Гонорий издал закон, запрещающий язычникам служить в армии. А в 407 году еретиков объявили преступниками перед всем римским обществом, объяснив это тем, что «нападки на божественную религию наносят вред всему обществу». Правда, потом требования к подданным империи были смягчены из-за невозможности их выполнения. Кстати, набожность Гонория обернулась и гонениями на иудеев, в частности и на последнего еврейского патриарха Гамалиила VII в 415 году.
В заключение рассказа о Гонории можно сказать, что, по словам церковного историка Филосторгия (V век н. э.), много тяжёлых ран получило государство в правление Гонория. В частности, действующая армия Западной империи потеряла в различных военных неудачах, по меньшей мере, половину своего состава, а может, и все две трети. Личный вклад императора в развитие событий был совершенно незначителен.
БИТВА НА КАТАЛАУНСКИХ ПОЛЯХ (июнь 451 год н. э.)
Прежде, чем рассматривать жизнь и судьбу Валентиниана III, одного из значительных императоров Западной Римской империи за несколько десятилетий до её окончательной гибели, предлагаю вниманию читателей драму битвы народов на Каталаунских полях.
В тот день, когда предводитель гуннов Аттила, по прозвищу «Бич Божий» встретился со сводной армией, ведомой «Последним великим римлянином» Аэцием, решалась судьба Европы, в том числе и наша с вами. Если бы Аттила тогда победил, то вполне возможно, что всё было бы не так, всё было бы иначе, и земная цивилизация потекла бы по иному руслу, более сухому и ничтожному. Но случилось то, что случилось. Две значительные силы Востока и Запада встретились вблизи современного города Орлеана на так называемых Каталаунских полях.
Увы, римская императорская армия давно уже не была той, чьи непобедимые легионы водил в сражение гениальный Цезарь, или упорный Траян. В армии Рима тогда, в большинстве случаев, воевали наёмники или выходцы из варварских племён, слегка ассимилированные проживанием на территории всё ещё обширной империи. Но хитрый Аэций сумел найти доводы, чтобы привлечь на свою сторону вождей некоторых племён, обитавших в Галлии. Правда, большого труда это не составило. Аттила под смешным предлогом (отказ Валентиниана III отдать за него свою сестру Гонорию, которая сама напрашивалась в невесты предводителю гуннов) вторгся в северную Галлию и прошёлся по ней огнём и мечом, не оставляя за собой ни одной живой души. И все те, кто не хотел служить Аттиле, понимали, что если его не остановить, он уничтожит не только Рим, но и вообще весь цивилизованный Запад.
Итак, они встретились и начали выстраивать свои армии друг против друга. Некоторые источники сообщают, что гуннов было около 500 тысяч, а их противников примерно 150 тыс. человек. Скорее всего, античные авторы преувеличивают. Вооружить и прокормить полмиллиона человек одновременно в те времена видится невероятным фактом. Поэтому будем считать, что примерно 50 тысяч гуннов и их союзников противостояли 25–30 тысячам бойцов Аэция.
Аттила, окружённый своими самыми сильными и преданными воинами, занял центр; справа расположились гепиды Ардариха и сборные отряды племён, признавших власть Аттилы; левый фланг защищали остготы. Позади армии гуннов находился их табор, огромный круг, защищённый кольцом повозок.
Аэций использовал тактику великого пунийского полководца всех времён и народов — Ганнибала. В центр поставили ненадёжных аланов, возглавляемых их племенным вождём Сангибарном, который так до конца ещё и не определился, кому служить: дикому Востоку или загнивающему Западу. Для того чтобы аланы не побежали сразу после первого натиска лёгкой кавалерии гуннов, позади союзников Аэций поместил заградительный отряд римских лучников.
Левый фланг Аэций оставил за собой. Это была самая надёжная часть его армии: тяжёлая римская кавалерия (катафракты) и легионеры-ветераны. Справа стояли вестготы престарелого, но надёжного Теодориха. Причём в двух противостоящих друг другу армиях были представители франков, бургундов, баварцев и прочих германских племён. Хотя они принадлежали к родственным народам, в беспощадном бою уже никто не разбирался в родственных чувствах, месили брат брата до смерти.
Гунны были дикими, беспощадными и жестокими. Один только вид скачущих нестройной толпой всадников уже заставлял трепетать сердца их противников. Правда, нельзя сказать, что они обладали каким-то особенным способом ведения боевых действий и превосходили своих противников, тех же готов, саксов или франков. Просто, вереница побед и блеск награбленных сокровищ, подкреплённых слепой верой в гений их харизматического вождя словно придавали этим всадникам смерти зловещие крылья страха.
Две армии разделяла небольшая возвышенность. Оба полководца понимали, что тот, кто займёт её гребень раньше другого, получит значительное тактическое преимущество. Но накануне генерального сражения между гуннами и франками, которые относились к отрядам Аэция, возникла схватка, в которой полегло несколько тысяч бойцов с обеих сторон. Воспользовавшись суматохой этого боя, юный Торисмунд (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4), старший сын Теодориха поместил свой отряд на вершине холма, разделяя противников. Пока войска приходили в себя, пока строились, наступил полдень. Но выступать никто не спешил. И только около трёх часов дня после того, как разведчики Аттилы донесли ему о захвате врагами холма на нейтральной полосе, предводитель гуннов послал свою кавалерию сбросить вестготов вниз. Но первый натиск гуннов был мужественно отбит с большими потерями для степных кочевников.
Согласно традиции, Аттила остановил штурм стратегической возвышенности и обратился к своим воинам с пламенной речью, после которой началась не столько управляемая обоими полководцами битва, сколько настоящая резня. В конце концов, когда стемнело, уцелевшие гунны вернулись в свой лагерь, который окружили войска Аэция. В этом сражении погиб король вестготов Теодорих. На следующий день, понимая, что малой кровью Аттилу взять не получится, Аэций отказался от штурма укреплённого лагеря гуннов. Но угроза вторжения гуннов была ликвидирована, а Европа спасена. Аттила покинул Галлию… и вскоре умер загадочной смертью — то ли от покушения, то ли от собственной невоздержанности в питие.
ВАЛЕНТИНИАН III (425–455 годы н. э.)
Западная Римская империя агонизировала, но миллионы людей, населявших её от края и до края, жили своей повседневной жизнью. У каждого был круг обязанностей и забот: кто-то мечтал о куске хлеба и кружке дешёвого вина, а кто-то «спасал» больную империю от очередного политического кризиса. Из Вечного города чиновники перебрались в новую столицу Равенну, которая благодаря своему географическому положению, казалась более надёжной и удобной. Древний же Рим на семи холмах, можно сказать, был почти предоставлен сам себе, плохо управляемый, огромный и лишённый надёжной защиты.
Валентиниан III Флавий Плацид родился в Равенне в 429 году. Он был сыном римского полководца Констанция и дочери Феодосия Великого Галлы Плацидии. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его провозгласили императором Западной Римской империи. Но до исполнения ему 18 лет за него беспокойным римским хозяйством распоряжалась матушка, а потом, до 454 года, Валентиниан находился под влиянием знаменитого римского военачальника Аэция. Таким образом, получается, что самостоятельно он управлял Римом меньше одного года.
Полководец Аэций, которого исследователи заката Римской империи называли последним великим римлянином, несмотря на весь свой талант политика и военачальника, уже не мог остановить процесс угасания величайшего государства Античного мира. Один из главных могильщиков Рима, король вандалов Гейзерих после 10-летних усилий овладел Африкой. Римляне оставили Британию, где освобождённую территорию поделили между собой англы, саксы и юты. Свевы обживали солнечную Испанию. Вестготы, франки, аланы и бургунды обустраивались в лесистой Галлии. Алеманны занимались грабежом в предгорьях Альп, а полудикие гунны резвились в Паннонии.
Хотя Валентиниан III на практике и не обладал всей полнотой власти, за время его почти 30-летнего правления были приняты весьма важные гуманные законы. Власть выказывала уважение тем людям, которые финансово укрепляли римскую армию, заботилась также и о беднейших слоях населения империи. Были сокращены налоги для сельских тружеников и отменены карательные меры со стороны сборщиков налогов. С другой стороны, зависимость от «старших товарищей» не мешала юному Валентиниану вкушать удовольствие от своего императорского статуса. Более всего молодца занимала проблема свободного времени: он был неплохим бегуном, хорошим наездником и метким лучником. Он окружил себя магами и чародеями, интересовался астрономией и литературой и не забывал о тайной прелести чужих жён, хотя собственная жена Лициния Евдоксия считалась одной из первых красавиц империи.
Увы, ничтожные личности, которые занимают «зияющие высоты» мира в его роковые моменты, — явление весьма распространённое в тысячелетней истории человеческой цивилизации. Потому что жестокая судьба уже закрутила свою кровавую трагедию над нашими главными героями.
В 454 году Аэций обручился с дочерью Валентиниана III и в четвёртый раз стал консулом, что само по себе уже являлось высокой честью даже для него. Правда, императорские почести способствовали тому, что у «последнего римлянина» врагов становилось всё больше и больше. Один из них, Петроний Максим, префект претория Италии сговорился с придворным евнухом Гераклием, который служил камергером императора. Эта парочка каким-то образом сумела убедить Валентиниана, что, избавившись от Аэция, он сможет править более достойно, и вся слава победителя гуннов и спасителя империи достанется ему. Тем более, надо честно сказать, что Аэций вёл себя по отношению к императору весьма вызывающе, часто принимая государственные решения без консультаций с высшим лицом империи. Непоправимое случилось в сентябре этого же злополучного 454 года. Во время аудиенции, на которой Аэций рассказывал о финансовых делах императору, Гераклий и Валентиниан собственноручно закололи кинжалами последнего прославленного полководца Древнего Рима.
Говорят, потом, когда до Валентиниана дошла истинная суть его недальновидного поступка, он не стал казнить одного из своих приближённых, который в сердцах сказал ему прямо в лицо:
«Своей левой рукой, ваше величество, вы отрубили правую».
Но единовластием Валентиниан III наслаждался недолго. Петроний Максим, который после гибели Аэция рассчитывал получить наивысшую должность при дворе только что отметившего своё 30-летие императора, был отодвинут в сторону усилиями Гераклия. Недолго думая Петроний сговорился с бывшими телохранителями Аэция скифами Оптилой и Траустилой. И вот 16 марта 455 года, когда император упражнялся в стрельбе из лука на Марсовом поле, заговорщики подошли сзади и на месте убили как самого Валентиниана, так и его ближайшего помощника Гераклия.
ПОСЛЕДНИЙ АККОРД РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Юлий Непот, Августул и Одоакр
Вполне возможно, что Западную Римскую империю можно было спасти, но люди, от которых зависело это спасение, не смогли выполнить миссию, возложенную судьбой на их плечи. Поэтому нам остаётся только изложить краткую историю конца грандиозного античного проекта под названием «Древний Рим».
9 мая 480 года в Далмации от рук своих приближённых Виатора и Овидоя в собственном загородном доме близ Салона погиб император Западной Римской империи в изгнании — Юлий Непот. Формально, даже после научно обоснованной «исторической точки» конца Рима (31 августа 476 года), он оставался августом Запада. Поэтому тем, кто любит копаться в «исторической пыли», подобный факт добавит несколько аргументов в вечном споре любителей истории с её профессиональными апологетами.
Но сначала вернёмся немного назад в лето 474 года, когда в Италию из Константинополя прибыл полководец Юлий Непот, родственник византийского императора Льва I, назначенный владыкой Восточной Римской империи на пост главы Западной Римской империи. Армия, флот и деньги, которыми снабдили Непота богатые родственники, быстро сделали своё дело: бывшего августа Глицерия сместили «без шума и пыли» с трона и сослали в Салонскую епархию.
Благосклонно принятый сенатом и народом Италии, Непот для того, чтобы укрепить власть на Западе, назначил своим главным военачальником опытного полководца Ореста, который одно время даже служил военным советником самого Аттилы. Орест считал себя истинным римлянином, наследником славных традиций тысячелетней империи. Он мечтал, несмотря на весь тот хаос, что творился вокруг, вернуть утраченную славу римских легионов. Первое время он старался высказать своему начальнику почтение и подчинение, в надежде при помощи объединённых сил доминировать в регионе. Но реальность оказалась ещё хуже, чем представляли себе Непот и Орест. Спустя несколько месяцев скончался Лев I, покровитель Непота, а его преемник Зенон отозвал византийскую военную эскадру, которая поддерживала западного наместника, назад в Константинополь. Понимая, что трон под ним качается, Юлий Непот решил поправить свои дела успешным походом против германцев, угрожавшим вторжением в Италию. По его приказу Орест вывел из Рима армию наёмников из Паннонии, чтобы отразить нападение испанских вестготов. Но вместо Испании, Орест направился к столице Западной Римской империи — Равенне, где располагался двор Непота. Подойдя к воротам главного города Италии, он объявил о своём намерении осадить его и свергнуть законного императора. Прагматичный Юлий Непот не стал испытывать судьбу и под покровом ночи с кучкой верных ему людей покинул осаждённую столицу. Наутро ворота Равенны без борьбы открылись перед новым хозяином.
Но, вопреки общему ожиданию, Орест решил объявить очередным императором Запада не себя, а своего малолетнего сына Ромула. Это знаменательное событие произошло 31 октября 475 года. Причём, последнего римского императора, которому едва исполнилось 14 лет, вместо Августа назвали уменьшительным словом «Августул» («Августёнок»). Мальчишку на троне никто не признал — ни повелители Востока, ни царьки отдельных провинций на Западе. Правда, пока армия Ореста была сильна, придворные, подавив кривые усмешки, оказывали ему императорские почести.
Горькая развязка наступила в 476 году. Ореста, человека весьма опытного и искусного в интригах, подвело обыкновенное тщеславие и жадность. Когда наёмники из Паннонии, поддержавшие его во время захвата власти, стали требовать земельных наделов в Италии, он начал тянуть время в пустых переговорах, а сам послал в Паннонию за другими наёмниками, чтобы с их помощью расправиться с недовольными солдатами. Набирать новую армию поручили Одоакру, сыну друга Ореста ещё со времён их службы у брутального Аттилы. Располагая большой суммой денег и широкими полномочиями, Одоакр привлёк под свои знамёна множество наёмников из племён герулов, ругов и скиров. Кстати, сам Одоакр был выходцем из племени скиров. Таким образом, Одоакр оказался во главе армии, которая его горячо поддерживала и не хотела иметь дело с «не умеющим держать своё слово» Орестом. Недолго думая, Орест пообещал, как новым, так и старым наёмникам выполнить все данные им обещания, и, не мешкая, двинулся к Равенне. Когда Орест от своих шпионов узнал о готовившемся перевороте, он повторил трюк Непота: оставил оборонять столицу государства своего брата Павла, а сам бежал в Павию.
Но разведка хорошо работала не только у Ореста, агенты Одоакра раскрыли место пребывания беглеца, и армия наёмников изменила своё направление движения и внезапно оказалась под стенами Павии. Силы были неравны, и вскоре солдаты Одоакра вошли в осаждённый город. В тот же день — 28 августа 476 года — Ореста по приказу его бывшего подчинённого казнили. Дело оставалось за малым: добраться до Августула. Через три дня Одоакр и его полчища вошли в преклонённую Равенну, где забившись в тёмный угол опустевшего дворца, ждал своей незавидной участи последний римский император.
31 августа 476 года Августул, опустившись на колени перед окружённым блестящей свитой племенных вождей Одоакром, сложил с себя священные атрибуты имперской власти. Находясь на взлёте своей блестящей карьеры, довольный Одоакр пощадил несчастного мальчика. Ромула выслали в бывшее поместье Лукулла в Кампании близ Неаполя, где он в страхе и забвении прожил до конца своих дней (примерно до 510 года) на государственную пенсию в 6 тысяч золотых монет в год. В свою же очередь Одоакр, так же, как и его бывший командир Орест, не стал покрывать свои плечи пурпурным плащом римского императора, а просто взял и отослал символы римской власти в Константинополь. Вот так бесславно закончила своё блестящее тысячелетнее существование держава, основанная на семи холмах у реки Тибр легендарным тёзкой жалкого Ромула Августёнка.
Дополнение № 1. 12 «НЕГРИТЯТ»
Фрагменты из романа Павла Зеликова «Приключения Сольвассера»
Эпизод 1
МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ
Первый древнеримский император — Октавиан Август — на исходе эпохи, которую позднее учёные-историки назвали «до нашей эры», решил укрепить северные границы необъятной империи и послал своих пасынков (они были родными братьями) Друза и Тиберия на завоевание диких земель за Альпами. В то время там (часть современной нам Баварии) проживали племена ретов и винделиков. Иногда небольшие воинственные дружины этих «лесных братьев» втихаря перебирались через Альпы в римские приграничные провинции и «наводили шорох» на местное население. В конце концов, римские власти предальпийских земель обратились напрямую к императору и попросили его защитить своих подданных от подлых варваров-грабителей. Как раз Октавиан сам давно думал на эту тему, тем более подросли его приёмные сыновья, чья мать Ливия Друзилла однажды покорила сердце первого человека в Риме.
Ребята росли вместе, дружили и доверяли друг другу. Вместе они и постигали римскую науку побеждать. В 15 году до н. э. друзья повели легионы, которые вручил им римский император, в места, где до этого момента не ступала нога римского легионера. Итальянские легионы, составлявшие основу армии вторжения, возглавлял Друз, а Тиберий со своими легионами спешил ему на помощь из Галлии. Альпийские заслоны горцев регулярная армия смела без особых затруднений и потерь. Главная же битва, решившая судьбу региона на целых пять столетий, произошла на берегу Боденского озера. Свирепые дикари с огромными топорами наперевес налетали как вихрь на римские каре, но организованные и испытанные в боях ветераны-легионеры, стоящие впереди, очень быстро доказали «местным товарищам» превосходство умелого мясника над разъярённым быком. Бедные реты и винделики были разбиты, их озёрные корабли (да, у местных был даже свой небольшой флот) сожжены, а столица — Манхинг — захвачена.
Банальная история: противостояние цивилизации и аборигенов. Как правило, более развитые люди, побеждают своих менее развитых собратьев по виду, хотя и бывают исключения. Потому что цивилизация, как и отдельно взятый человек, может быть молодой, зрелой, или старой. Молодая и зрелая, естественно, кого угодно проглотит, а вот старая может и рассыпаться, как песочный замок. Но во времена, когда учёные-историки убрали в хронологии предлог «до», Рим был могуч и не сомневался в своих правах управлять всем известным ему миром…
…однажды с моим другом Хаимом Билгой мы оказались в старинном городе Аугсбурге, который по своему возрасту старше столичного Мюнхена больше чем на тысячу лет. Целью нашей поездки стал Римский музей. Если бы отцы-основатели Аугсбурга — римские полководцы Друз и Тиберий — чудесным образом заглянули в Римский музей современного нам Аугсбурга, у них бы, вероятно, возникло смешанное чувство. С одной стороны, уютная атмосфера музейного зала, где собранны все древнеримские сокровища, найденные в Баварии учёными-археологами, с другой, отсутствие толп любознательных потомков, интересующихся далёким прошлым своей родины.
Как известно, Римский музей недавно переехал в новое для него здание. Тем более, его относительно небольшая экспозиция представлена в такой концепции (в основном, это специально изготовленные ящики-сундуки с крышками), словно, буквально вчера, римские колонисты сгрузили здесь свои пожитки на временное хранение.
Что мы увидели?
Древнеримская цивилизация — удивительная и до конца не разгаданная. Она проросла из маленького, можно сказать, ничтожного зёрнышка — из нескольких скромных посёлков, возникших на холмах близ реки Тибра, и чудом устоявших против агрессивных соседей, среди которых были и намного цивилизованные и мощные народы: этруски, рутуллы, вольски, сабиняне и другие. Сюда (современная Швабия), на лесистые просторы Южной Германии их привела железная воля первого римского императора — Октавиана Августа. Римляне пришли в Германию, пройдя с боями Альпийские перевалы и, разбив в решительной битве у Боденского озера воинственных ретов, на рубеже новой эры. Они думали, что пришли в эти опасные края навсегда. На своих натруженных плечах римские солдаты несли не только колья для строительства военного лагеря: они принесли в этот вольнолюбивый, но дикий край, свою, средиземноморскую цивилизацию.
После завоевания новой области и основания её административного центра — Аугсбурга, римляне начали основательно обживаться на берегах реки Лех. Частички этой цивилизации и демонстрирует экспозиция Римского музея.
Эпизод 2
ПОДАРОК НАМЕСТНИКУ ПРОВИНЦИИ
Прибытие нового наместника в столицу провинции Реции (в настоящее время город Аугсбург под Мюнхеном) ждали из Рима на майские иды (15 мая, или, как это будет на латыни, «маиуса»). На последнем городском совете решили порадовать императорского посланника дорогим подарком, который должен был вызвать у него восторг и понимание важности тех «лучших людей города», чья поддержка и верная служба, несомненно, станет опорой прибывшего наместника. После жарких споров остановились на идее отлить из трофейного золота, отобранного у вождей несчастных ретиев и винделиков, комплект фигурок римских богов, предназначенных для украшения домашнего алтаря в жилище римского префекта. Известное дело, для римлян подобные фигурки являются объектом почитания и гордости. Такой подарок не останется незамеченным супругой наместника, которая в свою очередь лаской и заботой согреет сердце сурового вояки — её доблестного мужа.
Главных богов римского пантеона — 14. Но, когда обсуждали заказ с местным ювелиром Главком, выяснилось что золотого лома, хранящегося в городской казне, хватит только на 12 фигурок (примерная высота каждой — в два пальмуса: около 15 см). После немного нервного размышления глава городского совета вычеркнул из списка повелителя мёртвых Диспатера и Либера — бога виноделия («Не время бражничать, когда враг у ворот…»). Таким образом, перечень божков получился следующим:
— Юпитер (бог грома и молний);
— Юнона (богиня семьи и брака);
— Нептун (бог морей и океанов);
— Церера (богиня плодородия и земледелия);
— Веста (богиня домашнего уюта и семейных традиций);
— Вулкан (бог огня и засухи);
— Марс (бог войны и мощи);
— Меркурий (бог путешественников, купцов и воров);
— Минерва (богиня мудрости и наук);
— Диана (богиня охоты и войны);
— Феб (бог охоты и поэзии);
— Венера (богиня любви, брака и страсти).
Золотой лом сложили в большой армейский сундук, который дюжие легионеры к вечеру доставили на военной повозке к мастерской Главка. Учёный раб-кладовщик принимал государственные сокровища больше двух часов, каждая вещь была описана и взвешена. Такие дела на глазок не делаются, ведь за пропажу какого-нибудь самого маленького колечка могли, в лучшем случае, «высечь на конюшне», а в худшем — заморить на кресте. Ночью два мальчика, помогающих в мастерской золотых дел кузнецам, помыли и тщательно почистили лом, предназначенный для изготовления божественных фигурок. После этого всё золото сложили в большую плетёную корзину, которую опечатали специальной восковой печатью.
Утром лучшие мастера Главка занялись изготовлением форм для золотого литья. Как правило, древние римляне очень тщательно готовили формочки для литья. Литейные технологии хотя и были, с точки зрения современного нам производства, примитивными, требовали значительных знаний, опыта и мастерства. Предварительно фигурки слепили из воска, и только потом стали под них готовить разъёмные формы для литья. В мастерской Главка применяли разные формы, изготовленные из глины, камня и металла. Но для этого заказа мастера выбрали дорогостоящие медные формы. Работа предстояла серьёзная и ответственная и от её результата зависели судьбы важных людей.
Формы готовились в течение двух недель очень тщательно и под пристальным вниманием самого Главка. Когда все 12 медных кокилей были готовы, работники, отвечающие за горн, подготовили эту древнюю литейную печь к плавлению золота. С золотом работать легче, чем с бронзой, чья тугоплавкость выше, чем у благородного металла…
Наконец, процесс изготовления фигурок был завершён, и в кабинете Главка на мраморном столе мастера расставили отполированные до блеска, с соответствующей гравировкой на латинском языке и печатью-гарантией изготовителя шедевры древнеримского ювелирного искусства. К обеду прибыла комиссия, которая нашла работу «золотых» мастеров удовлетворительной, подписала приёмную грамоту, заплатила сияющему, как эти фигурки, ювелиру кругленькую сумму и проследила лично за отправкой драгоценного подарка в здание городского совета, где уже во всю ивановскую проходила подготовка к прибытию наместника.
Таким образом, дорогие читатели, неизменный атрибут любого мало-мальски приличного приключенческого романа — ценный объект вожделения главных персонажей — был обоснованно внедрён в полотно нашего рассказа. Древние мастера создали сокровища, которые были подарены довольному наместнику во время торжественного приёма в его дворце, после чего «12 негритят» (древнеримских божков) перешли в распоряжение высокородной римской матроны — жены наместника имперской провинции Реция. Женщина, которую, допустим, звали Ливия, мурлыкая под нос модную песенку на стихи опального поэта Публия Овидия Назона из поэмы «Наука любви», расставила фигурки на полке камина в комнате для приёмов и украсила их алыми и жёлтыми розами из собственного садика, разбитого во внутреннем дворике губернаторской виллы.
Эпизод 3
ПРОЩАНИЕ РИМЛЯНКИ
Прощальный симпосий во дворце наместника продолжался. Уже было немало выпито и съедено, усталые танцоры и акробаты вернулись в свои гримёрки, а разомлевшие гости лениво смачивали влажные губы новыми порциями фалернского, хрустели тонкими косточками жаренных в остром восточном соусе перепёлок и по инерции ласкали обнажённых рабынь, возлежащих с ними рядом на традиционных кушетках, предназначенных для подобных застолий. Супруга наместника почтенная матрона Ливия, сославшись на головную боль, покинула пирушку в сопровождении своих служанок и фрейлин. Наместник махнул небрежно полной, унизанной тяжёлыми золотыми браслетами рукой ей на прощание, в смысле, «ступай, родная, и без тебя здесь скучать не придётся…».
Их время прошло… хотя казалось, что эту гигантскую империю, охватившую, словно морской спрут, земли, окружающие со всех сторон света Великое внутреннее море, никто не в силах загнать обратно на Итальянский сапожок, откуда её поданные однажды пришли сюда на берега реки Лех и основали здесь свои города и виллы, крепости и торговые фактории. С той поры, когда легионы Друза и Тиберия жестоко показывали туземцам, кто в доме хозяин, прошло невероятное количество лет — больше четырёх сотен. Уже сменилось несколько поколений, которые выросли на земле римской провинции Реции. Для них неспокойный, но всё-таки привычный мир рушился… и наступало новое время — жестокое, кровавое и страшное. Многим процесс исхода римлян напоминал ситуацию, когда жестокий, но, в принципе, справедливый отец оставлял свою несчастную семью на произвол судьбы со словами: «Вы уже достаточно взрослые, позаботьтесь о себе сами, как можете…».
Пока во дворце наместника гуляли отцы города и старшие командиры римского гарнизона, в казармах проходила своя пирушка. Здесь были не только римские легионеры, которым предстояла завтра дальняя дорога в сторону Италии, та самая, знаменитая «Виа Клавдия Августа», но и местные милиционеры, большинством выходцы из племени алеманнов. Тусили крепко. Хотя, вместо фалернского, хлестали местную кислятину, всё было просто замечательно: хватало и еды, и выпивки, и женского тепла. Сегодня женщины были доступны, как никогда. Все понимали, что эта короткая летняя ночь прощания является своеобразным водоразделом между римской эпохой и той, что завтра придёт ей на смену. Может быть, кто-то недальновидный и радовался подаренным римской империей свободе и землям, но большинство в душе понимали, что надежда на алеманнских вождей, их милосердие и силу слабее даже христианской молитвы.
Оказавшись в своих покоях, жена наместника, благородная матрона Ливия, отпустила всех своих служанок и осталась одна. Стайка девушек, весело гомоня, отправилась в дальнюю часть дворца, поближе к конюшне, где в деревянной ротонде их уже ждали молодые люди из числа дворцовой прислуги. Сегодня гуляют все: и хозяева, и рабы.
Примерно через полчаса в открытое окно роскошной спальни жены наместника влетела сосновая шишка. Привлечённая шумом хозяйка подошла к окну и выглянула наружу.
От ствола пирамидального кипариса, недавно посаженного во внутреннем дворе усадьбы наместника, отделилась тёмно-синяя, мало заметная тень, и молодой, с местным акцентом голос тихо произнёс:
—?Моя госпожа, твой раб уже здесь…
—?Артур, скорее поднимайся. Я сейчас одна, мой супруг пьянствует сналожницами в главном зале дворца, — ответила своему алеманнскому любовнику коварная женщина.
С ловкостью обезьяны молодой туземец взобрался на второй этаж, где располагалась спальня его возлюбленной.
Твои глаза горят в ответ,
Когда теряю ум я,
А на устах твоих совет
Хранить благоразумье.
(Строки из песни к кинофильму «Здравствуйте, я ваша тётя»)
Соблазн описать сцену любви знатной римлянки и молодого варвара, сына местного вождя, так и распирает пожилого автора, но после некоторого раздумья, мы этот нектар оставим тем, кто привык, едва ополоснув жирные руки от вкусного плова и дежурного возгласа: «Вакх!», тянуться с поцелуями к неземным гуриям, которые по недосмотру полусонных богов спускаются к нам на грешную землю. У нас с тобой, мой терпеливый читатель, другая тема — золотые божки.
Когда безумие любви насытилось трепещущей плотью и энергией страсти, и нежная истома завладела телами и душами любовников, автор подобрался поближе к своим героям, чтобы послушать, о чём они говорят, сомкнув знойные объятия на широкой постели римского наместника.
—?Мой милый, Артур, это наша последняя с тобой ночь, — шептала удовлетворённая сексуальной яростью варвара Ливия. — Я буду в Риме по тебе очень сильно скучать.
—?А я просто не смогу жить без моей драгоценной богини, я приеду за тобой в Рим, — горячо говорил ей в ухо юноша, снова возбуждаясь и готовясь к новому броску на сладкую амбразуру её волшебного лона.
—?Это очень опасно. Рим — огромный город, против него наша AugustaVindelicorum — жалкая деревня, — возразила женщина.
—?Ничего. Любовь к тебе и обильные жертвы богам, которым служат друиды, и молитва твоему христианскому Богу помогут мне добраться до Рима в целости и сохранности.
Внезапно женщина не без труда освободилась от крепких объятий алеманнского вождя, легко и непринуждённо, словно ей было опять 15 «мальчишеских лет» (ни дать, ни взять — обнажённая лесная нимфа), спрыгнула с кровати и подбежала к камину, на мраморной полке которого стояли золотые фигурки.
—?Это символы вечной любви! — вскричала она. — Ты их сейчас возьмёшь с собой, а потом привезёшь мне в Рим. Это будет хорошей причиной для твоего приезда. Как здорово я всё это придумала.
—?А что ты завтра скажешь мужу, когда он обнаружит пропажу? — попытался её остановить Артур.
—?Это ерунда. Скажу, что пока я спала без задних ног после вина, выпитого по настоянию мужа на симпосии, вор пробрался в нашу спальню и украл самое ценное, что попалось ему на пути.
—?Хорошо. Так и сделаем, — согласился любовник, желающий её скорейшего возвращения в его горящие нетерпением объятия…
Когда на следующий день наместник, голова которого гудела, как полный пчёлами улей, узнал о пропаже золотых фигурок, он только устало махнул рукой… И так хватало проблем с отъездом. Для его огромного состояния — это была не самая важная потеря. Как там позднее сказал Лопе де Вега: «Теряют больше иногда…».
Эпизод 4
ОТ НАШЕГО СТОЛА ВАШЕМУ…
В принципе, алеманны (современное название — швабы) дожили, как этнос, до наших времён по трём причинам: первая — их было много; вторая — они не были дикими и умели воевать; третья — как-никак, но по происхождению они относились к германским племенам, и своим самым грозным врагам — франкам — приходились родственниками. Короли франков, задумавшие присоединить к своей короне всю Западную Европу, были категорически против существования на юге и юго-западе независимого государства Алеманния, и не хотели оставлять в покое своих родственников.
Войны франков с алеманнами длились без малого 100 лет. Сначала алеманны, которым даже цивилизованные римляне оставили свои заальпийские провинции, пытались поживиться за счёт набиравших силу франков. Они первыми напали на их владения, и дошли со своим королём, чьё имя история не сохранила, до столичного Кёльна. Там в 496 году, в 35 километрах от того места, где расположен современный город Кёльн — столица федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, произошла жестокая битва, которую историки назвали «Битва при Толбиаке». Понимая, что поражение может привести франков к геополитической катастрофе, рипуарские франки под предводительством короля Сигиберта Кёльнского заключили союз со своими былыми противниками — салическими франками, которыми командовал Хлодвиг I — персонаж, хорошо известный советским и российским школьникам из уроков истории, посвящённых раннему Средневековью.
Битва при Толбияке была весьма ожесточённой и суровой. Сначала воинственные алеманны, которые своей численностью превосходили франков почти в полтора раза, ведомые своим королём, яростно атаковали главный отряд Сигиберта. Постепенно алеманны начали теснить тяжёлую пехоту франков. Их король Сигиберт получил ранение стрелой в колено и был вынужден вернуться в собственный лагерь. Уже казалось, что победа алеманнов близка, и историческое время могучих франков подошло к своему логическому концу. Но в это время случилось два важных события: в кровавой сече погиб отважный король алеманнов, и во фланг атакующей лаве их всадников ударил отряд салических франков Хлодвига I. Победа была полной. Алеманны, оставшиеся в живых, повернули своих коней и поскакали обратно. Пешие воины, уцелевшие в битве, начали сдаваться на милость победителей. Кстати, после этого сражения Сигиберт получил прозвище «Хромой».